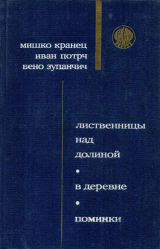
Текст книги "Поминки"
Автор книги: Бено Зупанчич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Я не знал, что ей сказать. Все слова казались пустыми, висящими в безвоздушном пространстве. Мойца, безусловно, была не из тех женщин, которые склонны к отчаянию, и ее слова беспокоили меня, ибо они не вязались со всем тем, чему учил нас Тигр.
– Те, кто уже сейчас подсчитывают, что получат после войны, – сказала Мойца, – действуют по расчету. Блаж говорит, что после войны он станет большой шишкой – директором таможни или чем-нибудь в этом роде и что он поселится в доме, где сейчас живут какие-то немецкие прихвостни.
– Да не слушай ты Блажа, – я разозлился, – не слушай его ни в коем случае.
– А ты его знаешь?
– Нет, – сказал я, я и в самом деле его не знал. – Почему ты не попросишь Мефистофеля, чтобы он дал тебе для связи кого-нибудь другого?
– Да меня уже связали, – сказала она, – меня уже связали с другим человеком, но Блаж все равно приходил ко мне. И не дал мне пойти одной. Я пойду одна, сказала я ему. Нет-нет, это, мол, опасно. А с ребенком будет надежнее. И все было страшно важно, страшно необходимо, страшно конспиративно, только мой Грегец не имел никакого значения.
Она взяла малыша на руки. Ребенок заулыбался. Он выплюнул соску и стал хватать пальцами ее волосы. Она пощекотала ему подбородок, и он громко засмеялся. Я посмотрел на часы. Прошло больше часа с тех пор, как я… Я вспомнил бесцветные глаза полицейского и зажмурился. Как жестоко. Конечно, мы не ангелы, но почему же некоторые, как звери… Может быть, полицейский был неплохой парень, как Карло. Но почему… Чтобы прогнать назойливые мысли, я стал думать о Сверчке. И вернулся к Мойце. Теперь мальчик и девочка подошли к Грегецу и тоже стали его щекотать. Действительно, похоже на созвездие, подумал я. Это Тигр неплохо придумал.
Встреча с Пишителло прошла удачно. Он без колебаний отдал нам свой пистолет. Мне даже показалось, что он хочет нам что-то посоветовать. Но Тихоход перебил его вопросом, кто он по профессии. Фармацевт, ответил он. Хорош гусь, заметил Тихоход. Вместо того, чтобы помогать людям, он помогает их убивать. Пишителло ответил, что он не убивает. Тихоход разозлился. Он порекомендовал Пишителло в ближайшее же время раздобыть себе еще пистолет, потому что нам вскоре понадобится много пистолетов и много боеприпасов. Поэтому пусть он всегда носит с собой полную резервную обойму. Он как-то грустно улыбнулся нам и не спеша пошел своей дорогой. Он не боялся, что мы ему выстрелим в спину, и ни разу не оглянулся. Потом мы один за другим направились к Мефистофелю, куда пришел за пистолетами связной. Револьвер, оставленный у Кассиопеи, он прихватил мимоходом. Когда я возвращался домой, было уже довольно поздно.
Только по дороге домой я вспомнил про утреннюю встречу с Антоном. Я не любил его с детства. Я был еще босоногим мальчишкой, когда он поступил в офицерское училище. По нему я составил себе представление об офицерах вообще, и оно было не так уж далеко от истины. Если существуют люди, способные – желая того или не желая – слушаться, повиноваться, подчиняться полностью и слепо, то Антон принадлежал к ним, с той разницей, что ему при этом был нужен кто-то, кому указывал бы он сам. У него это было не только плодом военного воспитания, это было нечто большее, присущее его природе, его характеру, – своеобразная страсть к насилию, заставляющая забыть меру и рассудок. Мне он внушал попросту страх. Я ужасался мысли, что могу быть похожим на него. Меня утешали пересуды соседей о том, что мы якобы братья только по матери. Она его не любила, как и все в доме, и сам он тоже никого не любил. Отец хорошо знал характер Антона и, отослав сына в училище, попросту отделался от него. И Антон, так сказать, исчез из дому. Он приезжал только на неделю летом и изводил нас своими солдатскими шутками или офицерским хамством, а также тарабарщиной, которую нельзя было назвать ни словенским, ни сербским языком и которую он называл «государственный язык» с высокомерием человека в форме, твердо уверенного, что бог наделил людей умом сообразно их чинам, и прежде всего офицерским. С тех пор как началась война и ему пришлось работать на железной дороге, он чувствовал себя очень несчастным. Он должен был подчиняться, а приказывать было некому. Все это, вместе взятое, да еще его симпатии к четникам заставили меня насторожиться.
Сейчас я прополз через соседский сад, а оттуда – в сад к Тртнику. Там я постучал в занавешенное окно кухни. Мария из осторожности погасила свет и только потом открыла. Я решил не входить в дом. Сказал ей, что буду спать в саду, в беседке. Она удивилась и велела, чтобы я подождал, пока она мне принесет одеяло. Я осторожно прошел в беседку, составил вместе два плетеных кресла и лег. И только когда прилег, я понял, как устал, как встревожен и как несчастен. Скорее бы пришла Мария. Я почувствовал, что ей я смогу высказать любую свою мысль, самую затаенную свою тревогу. Кому же еще, если не ей? Одиночество всегда подрывало во мне уверенность в себе. Это неустойчивая природа породившей меня среды, сказал я.
Ночь была теплая, с крупными звездами. Цепь белых облаков тянулась к югу через Млечный Путь. Снизу дул легкий южный ветерок. Я слышал, как встрепенулась среди зазеленевших ветвей птица и опять заснула. Наверно, ей приснилось что-нибудь страшное, такое, что, может быть, будет сниться теперь мне… И я снова увидел белые глаза полицейского, которые смотрят на меня и не видят или смотрят вообще куда-то в другую сторону. Я подумал: может быть, мы его не убили? Меня передернуло от ужаса, когда я вспомнил, с каким холодным спокойствием я в него стрелял. Это все-таки за Сверчка. Какой же я дурак, ведь за Сверчка десять их убить мало. В хлеву у отца кролик стукнул лапой по жестяному настилу. Где-то на улице, подвергая себя смертельной опасности, колобродил пьяный. Я различил его спотыкающиеся шаги, хриплый голос, когда он пытался спеть задорную песню. Эхо его шагов было похоже на гул пустой бочки.
Мертвый Сверчок уселся рядом и смотрел на меня своими печальными глазами. Сверчок, сегодня я стукнул одного – это один из семи выстрелов, которые тогда остались за мной. Надо рассказать об этом Марии. Тогда мне, может быть, станет легче. Я должен ей рассказать, потому что только ей я могу рассказать то, что мог рассказать тебе. Она поймет. Мне надо ей объяснить, почему я пошел к твоему отцу. Мне надо ей рассказать, в каком отчаянии я был, когда лежал в комнате Пишителло и ни одна живая душа про меня не вспомнила. Мне надо… На дорожке в отцовском саду заскрипел песок. Это шел Витторио Марти. Мне показалось, что Сверчок вздрогнул. Не бойся, сказал я ему. Это скрипач Витторио Марти. Мы его подстережем как-нибудь вечером. Я вспомнил Пишителло. Не знаю, оглянулся я на окна второго этажа или нет, но знаю, они были мертвыми. Из темноты выплыло что-то хорошее – детский смех, журчание источника, утренний щебет птиц, шуршание платья Марии, всплески реки, когда на рассвете звезды, искупавшись в ней, с легким звоном тянутся через кудрявые кроны деревьев к далекому горизонту. Что-то во мне открылось, я задрожал, быть может, я плакал и искал руку Сверчка и шептал ему, чтобы он меня выслушал. Что-то пело, звенело, набегало спиральными волнами, от которых содрогался воздух, а потом – потом вдруг небо разверзлось, неожиданно, со страшным громом, будто разнесло весь звездный свод, и звезды с шумом упали на железную крышу отцовского крольчатника.
Я проснулся, повернулся набок и зажал уши. Я ничего не хотел ни видеть, ни слышать, ни знать, ни чувствовать. Так я лежал, стараясь унять горечь, охватившую меня. Вся моя жизнь показалась мне ничтожной и маленькой, где-то у самой земли, как жизнь бескрылых насекомых. Я вспомнил товарищей, которым доводилось переживать и более страшные вещи. Я был убежден, что в каждом из них должна была накопиться горечь, непреодолимая, незыблемая. Куда же мы денем ее, когда она заполнит нас до краев?
Отцовский барабан затих, как только умолкла скрипка. Звезды вернулись на небо, с которого унесло последние следы облаков.
Она шептала что-то и перебирала рукой мои волосы. Она принесла одеяло и ужин, но я не мог есть. Ничего я ей не расскажу. Мне вдруг показалось, что каждое слово об этом – сущий эгоизм. Зачем еще и ее отягощать своими горькими мыслями? Она села в кресло так, что наши колени соприкасались. Я проснулся только наполовину. Мысли уносились туда, где она не могла их проследить. И я заговорил о чем-то другом, совсем о другом, совсем не связанном ни с моими мыслями, ни с переживаниями этой ночи. Еще меньше – с ее мыслями. Я вспомнил ту, прошлую ночь. Я взял ее руки в свои и поцеловал. Я сказал себе, что могу ей все рассказать только в том случае, если буду на шаг от полного отчаяния. А пока не надо. Зачем? Виновата в этом моя впечатлительность, нерешительность, неопытность, не созрел я для жизни, уготованной мне моим временем. Мария была молчалива, сдержанна, застенчива, и я подумал, что она ждет от меня больших слов о свершившейся любви, я же в эти минуты был нищ перед самим собой, я едва шевелил губами, сказав что-нибудь, чувствовал, как у меня кружится голова. Вдруг мне показалось, что мы, несмотря ни на что, чужие, что каждого из нас уносит в свою сторону в пространстве, именуемом жизнью, что нас разделяют годы, которых нельзя подсчитать по календарю. Мне стало страшно. Меня опять тянет к одиночеству, от которого я вроде бы освободился. И я знаю, что это будет бегством от самого себя.
Она спросила, почему я не хочу идти в дом. Я рассказал ей о встрече с Антоном. Она была уверена, что я не пошел в дом из-за ее отца. И шепотом стала рассказывать, что в последнее время отец кажется ей все более странным. Она-то знает его и чувствует это лучше меня. Я не сразу понял, что она имеет в виду. Она боится, что он помешался, боится, что он совсем помешается. От страха или, быть может, из-за меня? – спросил я. Нет, сказала она, не только из-за меня или из-за нее, но из-за войны, из-за заложников, из-за всего вместе… Утром, едва встанет, он идет за газетой и ищет списки казненных. Она знает, что о расстрелах заложников не сообщают, а он утверждает, что это списки заложников и что они скрывают от него правду… Он бледнеет, не может есть, только курит, забывает о том, что дома нет денег, разговаривает сам с собой, с кем-то спорит, а иногда идет к ней и, рассерженный, спрашивает, почему она ему не сказала, что того-то и того-то арестовали. Потом берет атлас, черкает на нем какие-то каракули, бормочет, вскрикивает, плачет. Как стемнеет, включает радио, крутит рычажки, но не может слушать, потому что всюду говорят только о войне и о смерти. Он выключает приемник и принимается ходить по комнате. Ходит без конца. Иногда среди ночи бредет в ее комнату и расспрашивает, что она думает о русском фронте. В самом ли деле отступление русских только стратегический маневр? И что собираюсь делать я, и не изнасиловали ли опять какую-нибудь девушку в тюрьме… И при этом смотрит на нее как-то сбоку, испытующе, недоверчиво, как на чужую, как никогда на нее не смотрел, точно подозревает, что она лжет. Он почти не выходит из дому, ей с большим трудом удается уговорить его выйти в сад подышать свежим воздухом, но через некоторое время он возвращается и говорит, что сад его запущен, как запущена и его душа. И плачет.
Я забыл о себе, забыл о Сверчке, забыл о белых глазах полицейского. А, да что там! – сердито подумал я сначала, прекрасно зная, что я не прав. Делать ему нечего, вот и терзается страхами. Ему не доводилось сталкиваться со смертельной опасностью и, скорее всего, никогда не приходилось держать в руках оружие, он никогда не знал, что значит разрушать то, что кажется вечным и неприкосновенным. Мария говорила спокойно не потому, что жалела меня, а для того, чтобы я понял, что с ним происходит, и что-нибудь посоветовал. Ей надо было с кем-то поделиться – с кем же ей было поделиться, как не со мной? Это ее заботы, ее боль, подумал я и спросил:
– Почему ты мне раньше не рассказала?
Она смотрела в сторону. Дома вокруг спали. В Трнове пробило одиннадцать.
Мне стало холодно. Я загляделся на звезду, которая почему-то показалась мне знакомой. Я подумал, что это, наверное, одна из тех звезд, которые вот уже миллионы лет отдаляются от нас – непрерывно, с бешеной скоростью. И я позавидовал ей, думая, почему бы ей не унести с собой в неизвестность хотя бы частичку этого сумасшедшего мира, залитого кровью и слезами.
– Тогда бы ты ушел. Или опять перебрался бы к Анне. А я бы осталась одна.
Меня это тронуло. Я подумал: все равно мне придется уйти, если не сейчас, то чуть позже, и она в самом деле останется одна. Но у меня не хватило духу сказать ей об этом сейчас. Не помню, когда она ушла. Помню, она немного успокоилась, и я тоже – мы молча прижались друг к другу. Нам было тепло и уютно. Она ушла тихо, ничего не сказав, наверно подумала, что я задремал. А скорее всего, забеспокоилась об отце. Я, не двигаясь, смотрел ей вслед. Закутался в принесенное ею одеяло и лег на кресла, лицом к калитке и к небу, будто мне и оттуда грозила опасность. Кроны деревьев время от времени шелестели, иногда в траве шуршал мелкий зверек, на улице раздавался твердый солдатский шаг. Я улавливал все это, ночь и опасность предельно обострили мой слух, открывая мне пестрый мир звуков, доступных человеку в те часы, когда кажется, что вокруг молчание. Я слышал, как где-то капает вода, не спеша, с правильными промежутками, и, поразмыслив, откуда она капает, решил, что капает в глиняную посуду, скорее всего в подставку цветочного горшка. Этот звук не был неприятным, он был похож на отдаленные удары по клавишу пианино – все по тому же и все той же сдержанной, хотя и нежной рукой. Когда я открыл глаза, все блестело от звезд. Я не знал, где созвездие Кассиопеи, но это не помешало мне вспомнить о ней и о ее сыне, который сказал: «Мама, а у дяди тозе кловь».
Земля набрякла от влаги и от солнца, как грудь девочки, которой пришла пора думать о любви. Весна постепенно возвращает краски моему бледному лицу, а моему сердцу – светлые мечты, недосягаемые ни для рук, ни для разума. Я смотрю на деревья, на траву, на землю, на звезды как на старых знакомых. Иногда я сам себе кажусь похожим на крестьянина, вернувшегося издалека, чтобы снова прислушаться к голосу земли. Приготовления к Первому мая, лихорадочные, хлопотливые и осторожные, занимают мое время и мысли. Все у меня получается непривычно хорошо. Я еще ни разу не попал в облаву, мне удавалось избежать проверки документов. Меня не схватили в блокированном районе при попытках нащупать «мозг» революции. За слухами о том, что Демосфен все рассказал, ползут слухи, что он называет имена. Говорят даже, что он принимает участие в облавах и ходит по квартирам в итальянской форме. Это первый такой случай в наших рядах, и мы почти не можем поверить. Если исходить из того, что дыма без огня не бывает, слухи должны служить нам предупреждением и предостережением. Мы пытаемся узнать детали, но безуспешно. Казармы набиты битком, тысячи людей тем или иным способом передают оттуда письма, поручения, просьбы, крики о помощи, слова отчаяния или прощания. Все это кружит по городу, истинное или преувеличенное, искаженное или дополненное, так что порой не знаешь, где правда, а где нет. Конспирация, конспирация, конспирация! И в меня снова вселяется сомнение: чем больше я уверен в себе, тем меньше я доверяю другим. Истина, что опасность делает людей самоотверженными, кажется мне двуликой. Кое-кого опасность доводит до той крайней грани эгоизма, когда он становится грознее любого оружия. Среди слухов о предательствах, смертях, злоупотреблениях, как цветы среди ядовитых плевел, возникают сообщения о все более дерзких операциях наших людей в городе и особенно за чертой города. Таинственная романтика подпольной работы теряет вдруг всю свою прелесть и привлекательность. Хочется в леса, которые как раз в это время пышно зазеленели. Мефистофеля снедает тоска. Он заметно худеет, его черные глаза блестят ярче. И повторяет нам, что мы непременно уйдем к партизанам, хотя никогда не говорит ничего определенного. Нам это кажется совсем простым делом, хоть мы и знаем, что город опоясан проволокой, рвами и сторожевыми постами. Ожидание – это уже почти прощание, так же как прощание – всегда тоска. С приходом весны точно сама природа зовет нас выйти за стены города, влечет с таинственной силой, которой невозможно противиться.
Я опять иду к отцу Сверчка – и это тоже прощание. Он все такой же. Весна не в силах ему помочь. Она не может стереть воспоминания, не может прогнать грусть. Я пытаюсь разыскать Алеша. Все, что мне удается узнать от старушки, у которой он скрывался последние две недели, – он исчез внезапно, и, где сейчас, неизвестно. Я зашел к отцу Люлека, узнать, что с мальчишкой. Но ничего не узнал. Отец отнесся ко мне с недоверием. И я его ничуть не виню. У людей более чем достаточно причин не доверять тем, кого они плохо знают.
Когда выдается свободный часок, мы с Тихоходом несемся за Градащицу, забираемся в кусты и ложимся на траву. Я рассказываю ему про Марию, про Сверчка, про тысячи вещей, которые приходят на память вслед за словами. Он слушает, и глаза у него совсем не заспанные, но в них нет зависти, а есть почти детский восторг перед тем, что существуют на свете такие вещи – таинственные, странные, даже маловероятные. И все это вместе с солнцем и ласточками, которые только что прилетели, кажется ему поэзией, и я всерьез опасаюсь, как бы он не начал тайком писать стихи. Когда я его спрашиваю, как у него дела со Звездой, он краснеет. Она с ним слишком любезна, слишком охотно смеется его шуткам и рассказам о приключениях, чтобы любить. Я рассказываю ему о том, что пришлось испытать мне, даю ему сотни мелких советов, хотя все это ни к чему. Тихоход, в сущности, добряк, шутник, короче говоря – отличный парень, но девушкам, очевидно, кажется, что в нем слишком мало мужества.
Земля, влажная, разморенная, прогретая солнцем, покрывается зеленью. Эта истома словно передается нам, и мы поднимаемся с земли, одуревшие от влаги и тепла, увлеченные мыслями и мечтами, порожденными весенним солнцем. Река, текущая рядом, мутная, набухшая и ленивая, похожа на тело зрелой женщины, которую весна пробуждает от зимнего оцепенения.
И эта прогулка к Люблянице – тоже прощание. Мне кажется, мы с Марией должны пойти туда хотя бы еще раз – ведь мы так часто ходили туда в те времена, когда одна такая прогулка ценилась дороже месяца жизни. Этот уголок старой Любляны я любил всегда. В детстве мне случалось забираться сюда одному, и я бродил тут со своими восторженными мечтами, уверенный, что река меня слышит и понимает. Она была для меня разумным существом, я поверял ей то, чего никогда не сказал бы другим. Правда, здесь было скучновато, и было бы совсем скучно, если бы не Град. Это в те часы, когда солнце пылает на небе как пожар, а дождь кажется отдаленным воспоминанием. В другое время, будь то весна или лето, осень или зима со своими сплошными туманами, здесь – волнующее спокойствие, осененное поникшими кронами и приглушенное выцветшими красками старинных домов. Мне всегда хотелось представить себе, как здесь было в те времена, когда вода стояла высоко и по городу разъезжали лодочники. Я был еще маленький и любил думать о том, как здорово проехать через город на лодке. Особенно это было бы здорово, когда вода стоит низко. И если тогда посмотреть на дома снизу, можно представить себе, что едешь по глубокому ущелью, среди крутых скал, и трубы домов будут как странной формы вершины, стремящиеся к облакам. Эта мечта часто возвращалась ко мне. Наверно, и мосты снизу выглядят совсем иначе, а люди, скрытые от меня парапетом набережной, завидовали бы моей лодке – ах, как приятна мне была бы эта зависть! – но не решались бы спуститься на такую глубину. Детские мечты бредут за человеком как тень, даже в пасмурные дни. И теперь я охотно проехался бы вот так по реке. Только все было бы иначе, чем я представлял себе. Пришлось бы это сделать либо в сумерках, как сейчас, когда по стенам домов еще скользят отсветы солнца, либо ночью, когда по воде разливается лунный свет. Интересно, будет ли казаться, что дома наклонились в сторону, как небоскреб, если смотреть вверх от их дверей? Интересно, будут ли раскачиваться трубы, чтобы, оторвавшись, устремиться за облака? И даже Прешерн, быть может, чуть посторонится, спасаясь от воды. Трамвай, что грохочет по Трем мостам, снизу походил бы на смешную дребезжащую игрушку, которая ни по форме, ни по цвету никак не вяжется с белым камнем мостов. А вот драконы на Змайском мосту были бы, как всегда, великолепны в своей позеленевшей чешуе. Вот-вот взмоют ввысь. Сегодня вечером мы идем от моста к городу. Над водой сплетаются едва заметные паутинки сумерек. Тени в промежутках между домами растаяли, резкие абрисы крыш и труб исчезли вместе с солнцем. Я решил ей все сказать. Я должен сказать. Не хочу прощаться наспех, как прощаются, рассчитывая вернуться через пару дней. Так я мог бы проститься с кем угодно, только не с ней. Быть может, это будет разлука навсегда. Я стараюсь оттеснить эту мысль на самый край сознания. От нее сжимается горло, сдавливает сердце. Как ни идилличны мои представления о жизни там, на свободной территории, я не могу забыть, что сейчас само время вершит нашими судьбами, если их не определяют наши поступки. И все же я не в силах до конца избавиться от своего школярского легкомыслия.
Мария кажется мне слишком веселой, она болтает о какой-то подруге, которой я не знаю; она точь-в-точь такая, как в тот день на Люблянице: в светлом шелковом платье, по которому рассыпаны синие цветы. Я прислушиваюсь к милому шуршанию шелка, но далекое воспоминание тех дней отдает лишь горечью. Как много пережито с тех пор. Да, она совсем иная, горечь расставания. Я сам взваливаю на себя бремя, чтобы стать хозяином собственной жизни. Я касаюсь губами ее волос. Она слегка прижимается ко мне. Хорошо. Такое доверие. Я не могу ее видеть печальной, я просто не знаю, что делать, я боюсь, что она начнет меня отговаривать. Я не сомневаюсь в ее отношении ко мне, к тому делу, которому мы себя посвятили, и все же… И все-таки я спокоен. Я принял решение, и оно твердо.
– А ты не хочешь проститься со своими?
Откуда эта неожиданная забота о моих? Недаром ее хорошее настроение кажется мне подозрительным.
– Проститься?
– Ну да, проститься. Неужели ты не хочешь попрощаться со своими?
Я не знаю, что ответить.
– Ты разве не уходишь из города?
– Конечно, ухожу.
– Неужели ты совсем не любишь отца?
– Какого отца?
– Ну не моего же.
Мы молча идем дальше. Я вдруг чувствую страшную усталость. Мой вчерашний план вконец рухнул. Какой же я еще ребенок! Мы разговариваем, как два школьника, впервые беседующие о серьезных вещах.
– Это нехорошо, что ты не любишь отца. Еще хуже то, что ты не любишь мать. Родители есть родители. Не кажется ли тебе, что лучше уступить, чем быть несправедливым?
Я сжимаю ей руку.
– Нет. Я не буду прощаться. Единственный человек, с которым мне надо проститься, – это ты. Я попрощался бы еще со Сверчком, но с ним прощаться не пришлось бы – мы бы ушли вместе. Сверчок…
– Какой же ты, право… А нас ведь всегда учили думать и о других.
Да. Да. Да. Но что я им скажу? Вот, например: «Уважаемые родители, дорогой брат, дорогая сестрица, я уезжаю. Быть может, меня навсегда унесут черти. Для вас это будет самое лучшее. Дом смогут поделить между собой Филомена и Антон. Мертвому ведь дом ни к чему. Но Антон проходимец, и ему, пожалуй, ничего давать не стоит, отдайте дом вопреки всему Филомене. Филомена несчастная. Даже если черти меня не унесут, вы все равно не беспокойтесь. Сюда я не вернусь. Да и зачем мне возвращаться? Помогать вам разводить кроликов? Ходить на лекции о породистых голубях? Или организовать общими силами зоологический сад? Антон будет укрощать львов, Филомена – продавать входные билеты, а вы, папочка и мамочка, вы позаботитесь о чистоте и порядке». О Мария… какой же я, право!
Я обнимаю ее и кладу ее голову к себе на плечо. Я такой, и тут ничего не поделаешь. Кого я могу так любить, как тебя? Моя любовь к семье смешана с отравой. Зачем мне с ними прощаться? И кто мне близок, кроме нескольких товарищей, кроме Анны, кроме Сверчка? Если бы Сверчок… И вдруг я вспомнил все, что собирался сказать ей: чтобы она берегла себя, чтобы зря не появлялась в городе, чтоб не ходила на собрания, это опасно, чтобы ради всего святого берегла себя, если уж нельзя по-другому. Я краснею при мысли, что хотел сказать ей именно то, что боялся услышать от нее. Ее присутствие успокаивает. Я чувствую ее рядом – ее, заключенную в обруч моих рук, – и это чудесно, это счастье, потому и вечер так прекрасен, вечер, оплетающий нас своими синеватыми тенями. Я сентиментален, думаю я, и ужасно груб. Как будто между грубостью и сентиментальностью не может быть ничего.
Мы идем дальше. Навстречу нам два карабинера. Их тени в наполеоновских шляпах похожи на фигуры из исторического фильма. Мы проходим мимо, не обращая внимания на них. Они идут ленивым шагом, торжественно, лица у них скучные, неживые. На Бреге мы останавливаемся у ограды и глядим в воду.
– Сколько мы не увидимся?
– Самое большее год, – отвечаю я. – Слишком долго. Я буду тосковать по тебе.
Мария улыбается. Она выпрямляет все пальцы на одной руке, затем загибает два.
– Три года, Нико.
– О, что ты. – Я возражаю. – Ты с ума сошла. За три года мы протянем ноги с голоду.
– Да, – говорит она, – все возможно. – И излагает мне положение на русском фронте. Ведь там, в сущности, только недавно окончательно остановили немцев. Год – это если бы их гнали с такой же скоростью, с какой они наступали. Я как бы услышал голос учителя. Я словно увидел его, склонившегося над атласом: в руках карандаш, скачущий по извилинам линии фронта, в глазах отчаяние.
– Ну хорошо, – соглашаюсь я, как в игре, – три года. Неужели на такой срок можно угадать, что тебя ждет впереди?
Мы идем дальше и говорим о будущем как о чем-то близком и ощутимом. Река бесшумно следует за нами. В темноте она кажется чистой и блестящей. У Трех мостов мы расстаемся, чтобы потом встретиться дома.
– Хорошо, – пообещал я, – я зайду к своим и попрощаюсь, как подобает сыну.
– О, – говорит она, – иногда тебя все-таки можно переубедить. Мне было бы больно, если бы ты этого не сделал.
Я шел один, счастливый, сильный, почти могущественный. Я раздвигал плечами дома, попадавшиеся мне по дороге, руками отталкивал фонарные столбы, за которые я задевал, сияющими глазами смотрел на жилища людей, не знающих о моих горестях, о моих радостях. И мне всерьез казалось, что жизнь по ошибке одарила меня чем-то таким, что не дано другим. Засунув руки глубоко в карманы, я начал мурлыкать песенку, не переставая наблюдать за людьми – суетливые и жалкие, они спешат по своим делам, не останавливаясь; солдаты вращают глазами, выискивая девиц и заговорщиков; я вглядываюсь в неосвещенные витрины, и из тьмы на меня смотрят два веселых, озорных лица. Мой взгляд устремляется дальше, через близкое и ощутимое, я смотрю поверх крыш в темную даль, туда, где леса и горы, прищурившись, будто меня ослепляют лучи моих видений. Там конец состоянию нелегальности, конец чувству постоянной опасности, где человек, в сущности, остается одинок. Но пока мои глаза не в силах ничего различить там вдали.
Наша мысль обгоняет время, наша страсть заставляет нас спешить за ней вслед. Мы жаждем хлеба и любви, так думаю я. Нас сжигает жажда прекрасного. Мы поэтизируем нового человека и сами меняемся у себя на глазах – мы очистились от эгоизма, избавились от алчности, мы предаемся светлым мечтам о будущем без эксплуатации, без вопиющей нищеты и высокомерного богатства, без грязной похоти. Мы не строим воздушных замков, не хотим жизни без труда и усилий, и грядущее отнюдь не видится нам розовым садом, окружающим дворцы и виллы. Мы не жаждем ни властвовать, ни руководить, ни управлять, ни господствовать – это было бы лишь заменой прежнего господства. Мы наивны и просты. Жизнь учит нас скромности, терпению и самоотверженности. Блаж, который спит и видит, как он станет директором таможни, отравлен жаждой богатства и власти, а до людей ему никакого дела – просто он научился об этом болтать. Мечты о человеке будущего не должны остаться только мечтами. Об этом говорит нам каждый новый день. В каждом человеке горит чистое пламя жажды справедливости. Порой мы забываем – ну ничего, ничего, – что мы недостаточно образованны, чтобы охватить разумом все, что нам подсказывает сердце.
И вновь меня поднимает волна, я на ходу раздвигаю плечом дома, обгоняю прохожих с искаженными страхом лицами и вглядываюсь в даль – там уже спустилась ночь в своем жемчужном ожерелье.
Голубь и голубка. Он пушистый, с блестящим темным оперением и влажными красными глазами. Голубка скорее похожа на дикую горлицу – светло-серая, бархатистая, с темным треугольным пятнышком на хвосте. Они сели под окном и подбирали крошки, которые им, как всегда, бросила Мария. Они стучали розовыми клювами по белой жести и заглядывали в кухню. Затем они сели рядышком, принялись нежно приглаживать друг другу перышки на шее и целоваться. Учитель смотрел на них отсутствующим взглядом. Потом встал и подошел вплотную к окну. Он смотрел на них, задумчиво потирая лоб ладонью. В голове вертелась неясная мысль, она никак не желала принять определенное выражение. Он прошелся по кухне. Взглянул на картофель, оставленный Марией на кухонном столе, оторвал листок календаря, который показывал вчерашний день, погладил будильник на шкафчике с посудой и опять вернулся к окну. На улице двое мальчишек гоняли палками сплющенную консервную банку. Пыль окутывала их босые пятки. И чем громче грохотала банка по мостовой, тем сильнее они орали и хохотали. Голубь и голубка не обращали внимания ни на уличный шум, ни на учителя. Он оглянулся на часы – забыл, сколько они показывали минуту назад. Было без четверти шесть.
– Без четверти шесть, – пробормотал он. – Мария!
Мысль выскользнула как змея из теплого уголка и ужалила его в сердце.
– Мария! – закричал он вне себя. Он забыл, что она ему сказала перед уходом, он вообще не мог припомнить, когда она ушла. Побледнев, он в полном отчаянии схватился за голову. Бросился в комнаты, хлопал дверьми, и звук их раздавался, как в пустом доме, откуда только что вынесли покойника. Сорвав с себя халат, он бросился в сад. На мгновение остановился у запущенных грядок, на которых сорняки поднялись выше цветов. «Сад заброшен и пуст, – подумал он, – как мое сердце». Он добежал до беседки, ударил ногой плетеное кресло, стоявшее в дверях, и обернулся. В окне второго этажа он увидел Анну в пестром платочке. Она выколачивала ковер и смотрела на него.







