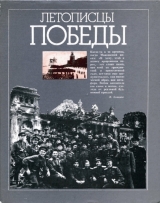
Текст книги "Летописцы Победы"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
Боясь опять это забыть, уже не надеясь на память, я тогда, еще в госпитале, нацарапал карандашом на бумаге: «Ложился обожженной спиной на мокрый песок. Голову на труп». Днем позже на том же листке бумаги я записал: «Забытье, какая-то лодка, потом лежу под деревом, ночь, зарево над Сталинградом». Эту запись поясню. Поздно вечером кто-то приплыл к нашей отмели на лодке и перевез живых через Волгу; и смутно помню, как лежал на берегу, на песке, под ветками дерева, – а за рекой пылал Сталинград. Еще одна запись – о том, как полз из горящей каюты: «Вода заливала палубу. Мне казалось, что немцы стреляли с берега. Сознание – у меня нет оружия. Поднял пистолет в кобуре, лежавший на палубе, надел ушками на ножку скамьи, столкнул в воду. Потом не помню. Кажется, скамью выхватили».
Листок с этими записями я очень берег: хотел написать рассказ о гибели санитарного парохода на Волге. Не сразу, конечно, не в госпитале, не в эти тяжкие, тревожные дни, когда сражения шли и на Волге, и на Кавказе. Уличные бои в Сталинграде достигли небывалого ожесточения, и оттуда в наш госпиталь везли много раненых. Палаты были переполнены, люди лежали в коридорах. Я расспрашивал их о положении в Сталинграде и вот что сообщил тогда в редколлегию «Комсомольской правды» (письмо сохранилось): «Раненые рассказывают, что в последние дни положение в Сталинграде улучшилось. Много нашей авиации. Твердая уверенность – Сталинград не отдадут».
Да, уверенность крепла, и до начала нашего решающего контрнаступления под Сталинградом, до 19 ноября 1942 года, оставались уже считанные дни.
А когда это долгожданное наступление началось и наши войска окружили сталинградскую группировку врага, я, увы, еще не был в строю, еще долечивался в другом госпитале, под Москвой. И там однажды всерьез задумался над рассказом. Для начала я переписал в тетрадку те карандашные заметки, которые делал в Саратове. Потом появилось в тетрадке название – «Воля», появились и первые строчки. Но вскоре я вышел из госпиталя, и работа над рассказом оборвалась.
Так я и поехал на фронт, с этой тетрадкой. Поехал уже не в Сталинград, где к тому времени прозвучали последние, победные выстрелы, а к Орлу, Курску, Белгороду, где развивалось наше зимнее наступление и уже начинал вырисовываться контур будущей знаменитой Курской дуги. Потом я много писал о боях на Огненной дуге, колесил в своей «эмке» по фронтовым большакам и проселкам, спешил все увидеть, узнать и обо всем сообщить в «Комсомольскую правду», – и просто не было времени думать еще и о своем ненаписанном рассказе.
Курская битва завершилась 23 августа. В тот день, еще на рассвете, в лесу на окраине Харькова мы с Юрием Жуковым в потоке войск пробивались на «эмке» в только что освобожденный город. Сохранилась старая фотография: в то утро Ю. Жуков и я сидим на главной площади Харькова, у Дома госпромышлепности, сидим… в зарослях кукурузы. Громада знаменитого дома выгорела дотла, площадь выглядит одичавшей. И помню, на площади, среди всякого хлама, валялась груда газет времен оккупации. Был там и «Сигнал», фашистский журнальчик, который издавался в Берлине для оккупированных народов Европы. И вот в этом случайно попавшемся старом, годичной давности, журнале я впервые увидел большую и мастерски выполненную немецкую фотографию из Сталинграда с надписью: «Волга – в наших руках!». Сфотографировано было с обрыва над Волгой, сквозь ветки кустарника и, вероятно, уже на закате солнца, в слабом вечернем свете. Трое немецких солдат-минометчиков, в касках, с засученными рукавами, вели беглый огонь по реке; а невдалеке от них, на мелководье, догорало какое-то полузатонувшее судно. Присмотревшись, я различил большой пассажирский пароход, колесный, трехпалубный, с высокой трубой. К моменту снимка от него остался обгоревший скелет, весь окутанный дымом и паром, труба обрушилась в воду, и видно было, как волжское течение, омывающее пароход, уносило хлопья горячей, дымящейся пены. Чем дольше я всматривался в фотографию, тем больше узнавал в ней нечто очень знакомое: то, что увидел когда-то, очнувшись на волжской отмели. И если это был «Композитор Бородин», то отмель с живыми и мертвыми находилась от него метрах в двухстах ниже по течению и осталась где-то за кадром. Да и дата съемки – 24 августа 1942 года – была датой гибели «Бородина». И помню, с каким волнением я рассматривал фотографию.
А еще год спустя, в октябре 1944-го, я снова увидел эту фотографию при весьма необычных обстоятельствах. В те дни «Комсомольская правда» один за другим напечатала три моих репортажа с границы Восточной Пруссии. Первая пядь немецкой земли, на которую мне довелось ступить, лежала за пограничной болотистой речкой Шешуна, за ржавой колючей проволокой, опутавшей илистый берег: там у поваленного столба с жестяным германским орлом начиналась улица первого немецкого городка, полуразрушенного Эйдткунена. А самый первый немецкий дом, весь иссеченный пулями и осколками, стоял на дамбе через Шешупу: одноэтажное кирпичное здание старинной постройки. Совсем недавно его покрасили заново, что было странно и необычно во фронтовой полосе. Я вошел в дом и все понял: здесь помещалось казино для офицеров дивизии, оборонявшей Эйдткунен. Зал был завален перевернутыми столами и стульями, пол усыпан пустыми бутылками и крошевом битой посуды. С разбитой люстры свешивался обрывок фашистского флага. Написанные на стене свежей масляной краской изречения фюрера призывали стойко защищать Восточную Пруссию – колыбель германской нации.
Распихивая столы и стулья, я пробрался в угол зала, где над стойкой бара на самом видном месте висели какие-то три картины. Одна из них оказалась портретом Гитлера, и кто-то уже прошил ее автоматной очередью. А по бокам висели две фотографии, сильно увеличенные и оправленные в деревянные рамки. И, взглянув на них, я едва поверил глазам. В этом первом немецком доме оказался тот самый, знакомый мне снимок из «Сигнала»: Волга, обрывистый берег, трое солдат-минометчиков в касках, с засученными рукавами, а поодаль от них, на мелководье, – догорающий остов пассажирского парохода, возможно «Композитора Бородина». Да и подпись под фотографией осталась все та же: «Волга – в наших руках! 24 августа 1942 года». На другой фотографии, тоже сорок второго года, я увидел панораму заснеженного Эльбруса: ее сделали с вершины, где немцы-солдаты только что установили флаг с черной свастикой. Этот триптих, висевший над стойкой бара, – Гитлер, Волга, Эльбрус – призван был поднимать дух и веру у каждого, кто входил в зал офицерского казино. Для них тот русский пароход, погибавший на Волге, был лишь красноречивой деталью на фотографии, прославляющей Гитлера. Даже теперь, в сорок четвертом, проигрывая войну и отступив до самой Шешупы, они все еще цеплялись за миф о всемогуществе фюрера: мол, он, сумевший дойти и до Волги, и до Эльбруса, сумеет закрыть на крепкий замок границу Германии. И, рассматривая триптих, я решил, что и это войдет в мой рассказ о гибели санитарного парохода под Сталинградом.
И хотя до конца войны – а День Победы застал меня в Австрии, в Альпах, – я так и не успел закончить рассказ, он всегда был со мной, в полевой сумке. Лишь осенью сорок пятого года, вернувшись с войны, я смог написать еще десяток страниц. К тому времени у меня скопилось столько фактов, деталей, заметок, связанных с историей «Композитора Бородина», что первоначальный замысел стал тесным для собранного материала. А как его углубить, пока я не знал. К тому же в те дни прочел в октябрьской книжке журнала «Знамя» рассказ «Гибель командарма». Имя автора – Галина Николаева – я встретил впервые, но сам рассказ читал не отрываясь: в нем я узнавал что-то очень знакомое и тоже когда-то пережитое мною. В рассказе тоже был сорок второй год, пылающий Сталинград и гибнущий па Волге санитарный пароход. Как и «Бородин», он вывозил раненых из Сталинграда и, обстрелянный немцами, затонул и сгорел на мелководье неподалеку от берега.
Да, рассказ на эту тему был уже написан, стал фактом литературы. Повторяться нельзя, нужно писать повесть, тем более что к большему полотну тянул и собранный материал. Нужно было и побывать в тех местах, где все начиналось.
Январским морозным днем я приехал в Сталинград, на Тракторный завод, уже полностью восстановленный. И от завода знакомой дорогой пошел к бывшему рубежу обороны – к Мечетке, к Волге, к поселку Рынок. Дотла сожженный поселок почти еще весь лежал в руинах. Проулком я спустился к реке. Из архивов я уже знал, что «Композитор Бородин» затонул и сгорел у Рынка и что он был единственным пароходом, погибшим 24 августа. Следовательно, на фотографии, которую я видел в «Сигнале» и в первом доме на немецкой земле, на фотографии, датированной 24 августа 1942 года, мог быть только «Бородин». И вот я стоял на обрывистом берегу, заросшем кустарником, на том самом месте, откуда был сделан снимок. Сомнений уже не оставалось. Как и на снимке, неподалеку от берега была мель. На ней громоздились льды. Но только ли льды? Казалось, под ними лежит что-то большое, массивное, – может быть, корпус сгоревшего парохода?
Я зашел в стоявшую поблизости саманную хатку. В ней жили люди, приехавшие с Украины. В войну их здесь не было, но они тоже слышали о погибшем санитарном пароходе и видели его старый корпус, занесенный песком: прошлой осенью, до ледохода, он еще торчал над водой. Люди вспомнили, что раненых с того парохода, погибших в огне или в воде и вынесенных волнами к берегу, немцы велели зарыть в общей могиле. «А где это?» – «Там за поселком».
Я пошел туда и в поле, вдали от дороги, рассмотрел одинокий холмик, занесенный сугробами. Проваливаясь в снегу, добрался до холмика и увидел деревянную ветхую пирамидку с красной звездой. Фамилий на ней не было, только дата – «1942 год», и кто здесь похоронен, и сколько их, никто, конечно, не знал. Это была лишь одна из 187 братских могил Сталинграда, отмеченных пока только такими деревянными пирамидками. Павшим за Сталинград еще предстояло соединиться всем вместе где-то в его священной земле. Таким местом, по общему мнению, должен был стать Мамаев курган. И, стоя у безымянного холмика над Волгой, я думал, что и это должно все войти в мою повесть.
Казалось, повесть созрела; но, написав ее первые главы, я убедился: быть очевидцем событий еще недостаточно, нужно изучить их и по документам. Архивы находились в Москве; но я к тому времени уехал надолго корреспондентом в Берлин, и работа над повестью опять отложилась. Лишь годы спустя смог я вернуться к неоконченной рукописи и поработать в архивах и библиотеках. Выяснилось, что в истории Сталинградской битвы трагедия «Композитора Бородина» не прошла незамеченной, она упоминается в документах и мемуарах. Так, в своем «Сталинградском дневнике» бывший председатель городского комитета обороны А. С. Чуянов писал: «Бородин» с 700 ранеными на борту был у Рынка в упор расстрелян из орудий и минометов, хотя шел под флагом Красного Креста. Почти все раненые погибли.
По архиву военно-медицинских документов в Ленинграде мне удалось установить: пароход «Композитор Бородин» – санитарно-транспортное судно № 50 – летом сорок второго года вывозил раненых из сталинградских госпиталей. Начальником СТС № 56 была военврач 3-го ранга Горшкова К. И., военным комиссаром – старший политрук Карака П. Ф., ординатором – Волянская Г. Е. По тому же архивному делу, военврач Горшкова погибла на «Бородине» 24 августа 1942 года. Бывший комиссар Карака умер после войны. Но вот третья фамилия – ординатор Г. Е. Волянская – не значилась ни в одной картотеке Министерства обороны СССР. И судьбу этой женщины мне установить не удалось.
В те же годы, работая в «Литературной газете» и бывая на разных заседаниях в Союзе писателей, я встречал иногда Галину Николаеву. Она была уже признанным мастером прозы, автором широко известного романа «Битва в пути». С тех пор, как в 1945 году журнал опубликовал ее рассказ «Гибель командарма», прошло много лет. И я, помня сам рассказ, почти забыл фамилию автора. Лишь годы спустя, уже после кончины Г. Е. Николаевой, я узнал: она была врачом на «Композиторе Бородине». Николаева – ее псевдоним, а настоящая фамилия – Волянская. Та самая Г. Е. Волянская, которую тщетно разыскивал я много лет. И только теперь я понял, почему для меня так все знакомо и узнаваемо в «Гибели командарма»: в ней почти с документальной точностью описана трагедия «Бородина».
Я узнал также, что прообразом героини этого рассказа была подруга писательницы – врач Елизавета Васильевна Бахирева, погибшая на «Бородине». О ней, о ее подвиге Галина Николаева писала еще в 1945 году в газетном очерке «Врач Бахирева». А через несколько лет, работая над «Битвой в пути», в память о Е. В. Бахиревой дала эту фамилию главному герою романа.
По очерку «Врач Бахирева», Елизавета Васильевна до войны работала врачом в детских яслях. На плавучем госпитале «Бородин» отвечала за погрузку, размещение и эвакуацию раненых. Ее уважали за добросовестность, любили за доброту и сердечность. Трудилась она самоотверженно, сутками не отдыхая, даже не заходя к себе в каюту, хотя была уже немолодой и не очень здоровой, с бледным, усталым лицом. «Это лицо, – писала Г. Николаева в газете, – было удивительным. Часто приходится встречать лица, которые поражают красотой с первого взгляда, но скоро становятся привычными и уже не радуют взора. Лицо Елизаветы Васильевны обладало как раз противоположным и редким свойством: казалось, оно хорошеет с каждой новой встречей. Красота ее заключалась в тонкости и разнообразии выражений, в мягкой и умной улыбке, в теплоте и выразительности глаз. Каждая встреча открывала что-то новое. Чем больше люди узнавали Елизавету Васильевну, тем сильнее тянулись к ней». Эта русская женщина была прекрасна даже в своей смерти. На палубе горящего, гибнущего парохода, сама уже смертельно раненная, она спасала людей, вытаскивала из огня, бинтовала их раны: всю себя до последней кровинки отдавала борьбе за жизнь.
Откуда Е. В. Бахирева родом и где окончила институт, в очерке Г. Николаевой не указано. А мои розыски в архивах привели к неожиданному результату. Фамилии Бахиревой нет в списках медиков, погибших на судне 24 августа. В тот день на «Бородине» было три врача: Горшкова, Волянская и Захарова. Волянская случайно осталась жива. А из двух погибших одна по имени была Елизавета Васильевна. Но не Бахирева, а Захарова. Так она значится в сохранившихся документах. Ошибка Галины Николаевой? Нет, в память ей навсегда врезалась именно эта фамилия – Бахирева. Даже в конце своей жизни в беседе с корреспондентом газеты писательница приводила слова Елизаветы Васильевны о своем муже: «Когда я увидела его в первый раз, то подумала: как идет к нему эта фамилия. Большой, сильный, молчаливый – настоящий Бахирев!» Объяснение может быть только одно: по мужу Елизавета Васильевна была Бахирева, а по паспорту и врачебному диплому оставалась Захаровой.
Вспоминая о другой своей подруге, погибшей на «Бородине», о враче Клавдии Ивановне Горшковой, писательница назвала ее «молодой красавицей». Такая она и в «Гибели командарма»: начальник санитарного судна Евдокия Петровна, «красавица с добрым и честным лицом», женщина волевая и до конца верная воинскому и врачебному долгу. По архивным документам, К. И. Горшкова родом из села Гремячки Саратовской области, перед войной окончила Саратовский медицинский институт, училась на курсах при Военно-медицинской академии; с весны сорок второго года – начальник плавучего госпиталя «Композитор Бородин».
Разыскивая сведения о Горшковой, я обратился в Саратов, в медицинский институт. Оттуда сообщили: ее имя есть на обелиске в память выпускников института, погибших на фронтах.
Обратился я и в Волгоград, в дирекцию памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Выяснилось, что фамилии Е. В. Захаровой-Бахиревой и К. И. Горшковой там не значатся. Однако сотрудники дирекции продолжают устанавливать имена воинов, павших в боях за Сталинград. Меня попросили прислать документы на Горшкову и Захарову-Бахиреву. И я собрал документы и послал на Мамаев курган – и произошло это спустя сорок лет после гибели «Бородина».
Но еще раньше обо всем этом однажды я вспоминал далеко от России, от Волги – в гористой, зеленой Тюрингии, в старинном городе Эрфурте. Было это в Доме культуры завода «Роботрон», где в тот вечер открывались Дни советской книги в ГДР. Приехав в составе писательской делегации, я сидел в людном, праздничном зале, перелистывал только что купленный на книжном базаре плотный томик в коричневом переплете – рассказы Галины Николаевой – и находил и перечитывал вновь знакомые строчки в «Гибели командарма». А когда в этом зале с трибуны инженеры и рабочие «Роботрона» говорили о влиянии советской литературы на их современную жизнь, в их выступлениях нередко звучала фамилия, для меня тоже связанная со Сталинградом.
Речь шла о Бахиреве, герое «Битвы в пути». Этот роман популярен в республике, он не только читается, он стал своеобразным пособием для тех, кто, как и Бахирев, борется за новаторство и прогресс. Именем Бахирева названо движение за творческий труд на заводах и фабриках ГДР. Бахиревцы были и в этом зале, и, выступая, они называли прославленную фамилию. Но никто из них, вероятно, не знал, почему из тысяч русских фамилий именно эта для них стала символом человеческого горения. Никто в этом зале не знал о той русской женщине, Елизавете Васильевне Захаровой-Бахиревой, которая своим подвигом в Сталинграде, на Волге, возвысила эту фамилию, вложив в нее то свое, возвышенное и прекрасное, что, пройдя через многие годы, до сих пор придает этой фамилии и особый смысл, и высокую значимость.
Да, глубинная связь всех событий – а она всегда существует – познается не сразу, не в ту же минуту, а спустя много дней, даже лет, иногда – десятилетий. Но поистине никто не забыт и ничто не забыто!
А там, где все начиналось, в городе на Волге, у Тракторного завода, давно уже нет на берегу того безымянного холмика и пирамидки с фанерной красной звездой. Прах погибших на «Бородине» покоится на Мамаевом кургане, под гранитными плитами братских могил. И там, на кургане, в зале Воинской славы есть теперь имена Елизаветы Васильевны Захаровой-Бахиревой и Клавдии Ивановны Горшковой: спустя почти сорок лет после Победы они по праву зачислены в строй героев, павших за Сталинград.
Давно уже нет там, на Волге, у Тракторного, и той песчаной отмели, и тех ржавых железных останков сгоревшего парохода. Река течет вольно, просторно, и ничто на ее берегах не напомнит о тех огненных днях и ночах сорок второго года. Но, достигнув этого берега, волжские теплоходы всякий раз замедляют свой бег, чтят погибших товарищей – и «Композитора Бородина», и других его павших соратников по Сталинградской битве. И так происходит всегда, днем и ночью, в сумерках и на рассвете, весной, летом, осенью, год за годом, – и так будет вечно, пока есть Россия, пока течет Волга, пока стоит Мамаев курган.
Много лет собирая материалы для повести, я в конце концов убедился: сила всех этих записей – в их строгой документальности, а творческий вымысел лишь только снизит силу подлинных фактов. Поэтому я отказался от повести н написал все, как было, без выдумки и прикрас.
Давид ОРТЕНБЕРГ. В ГРОЗНЫЕ ГОДЫ
1
В годы Великой Отечественной войны в «Красной звезде» работала большая группа писателей и журналистов. Один из них состояли в кадрах Красной Армии, другие были призваны с первыми же раскатами войны.
С волнением и гордостью вспоминаю об их самоотверженном груде и воинской доблести. Хотя от военных событий тех дней нас отдаляют четыре с лишним десятилетия и многие детали стерлись в памяти, но одно я твердо помню: среди нашей писательской и журналистской рати не было людей растерявшихся, унылых, равнодушных. Не было их и в тяжелые первые дни войны, не было и позже. В душе каждого жила непоколебимая вера в победу и готовность бороться за нее. На фронте писатели и журналисты вели себя достойно, мужественно, смело шли навстречу опасностям ради выполнения своих обязанностей.
Я встречался с нашими корреспондентами в те грозовые дни и ночи не только в стенах редакции. Мне много раз приходилось вместе с ними выезжать в действующую армию. Я не раз своими глазами видел их в боевой обстановке, видел их воинскую доблесть и мужество под огнем.
Об одной из таких поездок я и хочу рассказать.
2
В первых числах сентября сорок второго года я позвонил Сталину по кремлевскому телефону – связь с Верховным Главнокомандующим в редакции была напрямую – и попросил принять меня. Хотел доложить о некоторых, как я считал, важных для газеты делах.
– Сейчас не могу, – ответил Сталин.
В его голосе, обычно спокойном и суховатом, мне послышались тревожные нотки. Я понял, что случилось что-то неприятное, и сразу же отправился в Генштаб. Я не ошибся. Там мне сказали, что немецко-фашистские войска прорвались к Сталинграду.
Сталинград стал центром главных событий войны, наших тревог и забот. Я чувствовал необходимость хотя бы на короткий срок съездить туда, увидеть и оценить происходящее собственными глазами. Я вызвал Константина Симонова, нашего специального корреспондента, и сказал ему, что он полетит со мной в Сталинград. Решили, что поедет с нами и фоторепортер Виктор Темин.
С рассветом вылетели на «Дугласе», машине в мирное время серебристой, а теперь закамуфлированной пятнами лягушечьего цвета, с Центрального аэродрома. Прямого пути в Сталинград не было, пришлось лететь кружным путем, обогнув линию фронта. К исходу дня наш самолет опустился в степи, в ста восьмидесяти километрах восточнее Сталинграда.
Мы вышли из самолета и оглянулись. Рядом небольшой, с низкими, разбросанными в беспорядке домиками поселок Эльтон, захолустная железнодорожная станция того же названия у самой границы Казахстана. Вдали блестят воды соленого озера Эльтон.
– Эльтон и Баскунчак, – продекламировал Симонов. Он вспомнил, как зубрил эти названия в школе на уроках географии; но тогда это было для нас только географическое понятие, а теперь – последняя ближайшая к Сталинграду площадка, где можно относительно безопасно приземлиться. Кругом бесконечная выжженная степь, напоминавшая нам, всем троим участникам халхинголских событий, необъятные монгольские степи.
В октябре и ноябре сорок первого года в Москве мы чувствовали, как далеко прорвался враг. И все же не было тогда ощущения загнанности. За спиной были Москва, города, села, заводы, люди. А здесь голая, глухая степь, край света, пустыня…
Мы стояли как вкопанные, с окаменевшими лицами и не сразу заметили девушек с букетами полевых цветов. Они улыбались нам, а мы одеревеневшими руками принимали эти цветы, забыв даже поблагодарить. И только потом, спохватившись, выдавили из себя улыбки и поблагодарили. Мы узнали, что девушки эти – сестры и санитарки полевого госпиталя. Понимая, с каким настроением могут прибывать сюда люди на очень редко садившихся самолетах, добросердечные девушки сговорились встречать гостей букетами цветов.
Затем мы отправились на станцию, где в тупике стояло несколько пассажирских вагонов. Это был поезд-редакция газеты Сталинградского фронта «Красная Армия». Не просто, как мы узнали, добрался он сюда. Не раз попадал под немецкие бомбы, пока из Воронежа тащился в Саратов, а оттуда в Эльтон. Забегая вперед, отмечу, что поезд-редакция газеты «Красная Армия» дошел до Берлина. Правда, под Купянском его сожгла вражеская авиация, и в столицу фашистской Германии прибыл уже переформированный состав.
В поезде мы встретили знакомых, в том числе поэта Евгения Долматовского. Мы не виделись с ним с мирных времен. За год войны он успел хлебнуть ее невзгоды полной чашей: участвовал в боях под Львовом, был тяжело ранен под Уманью, захвачен там в плен, бежал, вновь встал в строй и «протопал» с боевыми частями от Купянска через Воронеж и Донбасс до Волги.
Долматовский вернулся сегодня из района Тракторного завода, где были жаркие бои с немцами, пытавшимися прорваться к Волге. Сухопарый, загорелый, с усталыми глазами, он казался совсем молодым парнишкой. Одет он был не но уставу – в кожаной курточке, подаренной ему, как он хвалился, летчиком, воевавшим в Испании; кажется, поэту прощали эту вольность в ношении воинской формы. Сейчас он стоял у верстального стола и занимался совсем не поэтическим делом: переставлял заметки в полосах, менял шрифт заголовков – в общем выполнял обязанность метранпажа. Это было его, как теперь бы назвали, хобби. В своей комсомольской молодости, работая в «Пионерской правде», Долматовский научился верстать газету. И, приезжая из Сталинграда в редакцию на ночь, он не мог отказать себе в удовольствии постоять у талера.
Долматовский вообще нес здесь на своих плечах весь груз фронтового газетчика: писал передовые, очерки, оперативные корреспонденции, заметки и, конечно, через день-два «выдавал» стихи – героические, эпические, лирические. Вот и сейчас я увидел его стихотворение «Разговор Волги с Доном».
– Снова о реках, – подначил я, имея в виду его «Песню о Днепре», сочиненную им осенью 1941 года и мгновенно распространившуюся по фронтам и в стране.
Я прочитал его новые стихи. Они мне понравились. Обратил внимание на несколько необычных строк. Эти стихи не раз перепечатывались в хрестоматиях, в книгах поэта. Они известны читателю, и я приведу только те строки, которые меня тогда заинтересовали:
…«Русских рек великих не ославим,
В бой отправим сыновей своих,
С двух сторон врагов проклятых сдавим
И раздавим их».
Волга Дону громко отвечала:
«Не уйдут пришельцы из кольца.
Будет здесь положено начало
Вражьего конца».
Надо помнить то время, чтобы оценить эти стихи. Кругом гудит земля. Над Сталинградом нависла смертельная опасность. Враг рвется к городу, вгрызается в его окраины. Немцы даже назначили дату своего торжественного вступления в Сталинград. У стен города истекают кровью гвардейские дивизии. В этой отчаянной обстановке совершенно, казалось бы, невероятно звучат слова: «Не уйдут пришельцы из кольца!»
Не мог Долматовский, да и все мы, тогда не только знать, но и догадываться, что вскоре Сталин вместе с Жуковым и Василевским будут в Ставке обсуждать не только ход оборонительных боев в Сталинграде, но и план нашего контрнаступления, окружения и уничтожения паулюсовской группировки немецко-фашистских войск.
В стихах, созданных в горестные минуты тяжелого отступления, прозвучала не просто вера в победу под Сталинградом. Поэзия черпала свои дальновидные предсказания в глубине мыслей и чувств воинов, к которым она обращалась, с которыми вместе была на войне. Исход битвы на Волге, «Сталинградский котел», поэт раскрыл перед читателями как мечту и цель.
Когда спустя некоторое время после окружения и уничтожения армии Паулюса в Сталинграде я вновь встретился с Долматовским, напомнил ему эти стихи и сказал:
– Оказывается, и поэты могут быть стратегами…
– Я что? Я-то не стратег, а вот стратеги за стихи принялись, – в тон ответил мне поэт и рассказал, что маршал Еременко написал поэму о Сталинградской битве, назвал и маршала Рокоссовского и еще некоторых военачальников, которые сочиняли стихи и читали их поэту.
Но вернемся к Эльтону. В тот день до поздней ночи шел в редакции «Красной Армии» обмен московской и фронтовой информацией. А через шесть дней после этой встречи Долматовский был ранен в Дубовке, севернее Сталинграда. Когда наш спецкор писатель Василий Гроссман доставлял его в медсанбат, поэт шутил:
– Могу считать, что я ранен сразу тремя осколками…
И в самом деле: один осколок попал ему в руку, другой пробил тетрадь со стихами, а третий разнес трубку, подаренную ему Ильей Эренбургом.
3
На окраине Эльтона мы встретили группу бойцов, недавно вышедших из боя. Разговорились с ними. Боевые, закаленные ребята. Особенно нам понравился Семен Школенко, высокий, могучий парень с загорелым лицом и русыми волосами, в прошлом горный мастер, а ныне разведчик. Сам он, по всему видать, человек скромный, старавшийся не выделяться среди других, мало говорил, о себе рассказывал скупо.
Так часто бывало. Многие наши корреспонденты жаловались, что трудно было порой разговорить солдата, смело воевавшего, но сдержанного в беседах с работниками прессы. Конечно, журналистов, писателей в боевых частях всегда встречали дружески. Узнают в полку, в роте, что прибыл корреспондент, и, как ни заняты были люди, долго не отпускают его. Рассказывают о пережитом и прежде всего о своих товарищах, друзьях:
– Вы о нем напишите!..
А тот зардеется, пару слов скажет и молчит. Вокруг него товарищи злятся, что не раскрывается человек. Подсказывают. Вызывают других, кто был рядом и знает о нем. Все заинтересованы, чтобы отметить достойного бойца и чтобы ничего не исчезло. Жалели только, что нельзя назвать номер части и ее дислокацию.
Так и сейчас. О Школенко рассказали его товарищи. Еще на подступах к Сталинграду он получил задание добыть «языка». Отправился в разведку, привел пленного, заставив на своих плечах тащить трофейный пулемет. «Это чтобы руки у него были заняты», – улыбаясь, объяснил разведчик. В тот же день его снова послали в тыл врага – нанести на карту схему расположения минометных батарей, которые он заметил в первый поиск. Сделал и это, да еще совершил новый подвиг. На обратном пути набрел па группу наших бойцов, попавших в плен к немцам. Под охраной двух автоматчиков они рыли для себя могилу. Школенко открыл огонь по немецким охранникам, они удрали, а наших привел с собой в полк!
Мы сидели на сухой степной земле, и рядом с нами знаменитый разведчик. Он смотрит вдаль, на багровое солнце, уходящее за горизонт, и на его лице появляется горькое выражение.
– Что смотрите? – спрашиваем его.
– Смотрю, куда докатил нас, – далеко он нас допятил…
Попрощались мы с бойцами и возвратились в редакцию. В пути Симонов меня обрадовал:
– Считай, что для первого очерка материал уже есть!
– Хорошо, но «допятил» не выбрасывай, – попросил я. – Это не только его горе. Не оставляй читателя наедине с этим горем. Подумай, как это сделать…
Симонов всегда удивлял всех в редакции своей оперативностью. Угнаться за ним, пожалуй, никто из наших корреспондентов не мог. Но на этот раз он превзошел самого себя. Через несколько часов вручил мне свой первый сталинградский очерк «Солдатская слава».
– Когда успел?
– Само писалось, – отшутился он.
Я стал читать очерк. В сердце и ударили те самые строки: «Смотрю, куда докатил нас, – далеко он нас допятил». Конечно, не легко было Симонову написать о тех горестных, но близких и нам по настроению словах Школенко. Не легко было и мне, редактору, их напечатать. Но в те кризисные дни битвы за Сталинград надо было открыто дать почувствовать нашим людям ту смертельную опасность, которая вновь нависла над нашей Родиной. Передавая очерк Симонова в редакцию, я наказал, чтобы опубликовали все как есть, без купюр. Так и сделали. И на следующий день он появился в «Красной звезде», заняв почти два подвала на третьей и четвертой полосах.








