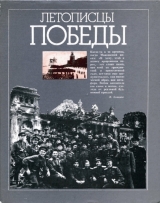
Текст книги "Летописцы Победы"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Стихотворение «Сто километров» пришлось корректировать, что называется, на ходу. Оно кончалось так:
Перед последним жестоким ударом
Я оглянусь на мгновенье назад.
Вижу домов сталинградских руины,
Верю в грядущее их торжество.
Нам остается идти до Берлина
Семьдесят пять километров всего.
Поезд-редакция двигался вслед за наступающими войсками. Спасибо воинам-железнодорожникам, героическими усилиями восстанавливавшим путь.
«75» было доставлено вовремя, появилось в газете.
Из всех «километровых» стихов – их у меня образовалось до десятка – я сохранил и допустил в свои книги только те три, что успел напечатать в газете фронта. Я полагал, что стихи, оказавшиеся в положении невоевавших, не надо и потом печатать.
Заключительное стихотворение начиналось уже строками:
Идут гвардейцы по Берлину
И вспоминают Сталинград…
Вот несколько боевых эпизодов из жизни поэзии. Каждый из моих товарищей, фронтовых поэтов, мог бы рассказать историю своих стихов.
Но так мало нас осталось…
Михаил ШУР. ФРОНТОВЫЕ ЗАРИСОВКИ
Ираклий Андроников на Миусе
От Закавказского фронта, когда войска ушли вперед, осталось одно название, и Ираклий Андроников, служивший в Тбилиси во фронтовой газете и оказавшийся вдруг в тылу, выхлопотал себе командировку на Миус, где назревали события.
Мы стояли в Новошахтинске. Было лето сорок третьего года. Была жара, была пыль.
Не очень подтянутый майор, все еще не удосужившийся надеть погоны, привлекал внимание суровых штабных педантов. Но все же этот странный майор нестроевого вида разыскал корреспондентов центральных газет.
Когда я привел Андроникова в штабную столовую, где не так важны были погоны, как талоны, на него, необыкновенно живого и общительного, косились офицеры и официантки.
Вечером в мою комнату ввалилась многочисленная публика – на Андроникова. Пришли братья газетчики, явились наши доблестные шоферы, заглянули наиболее осведомленные товарищи из политуправления.
Сам Ираклий Андроников был за десятерых. Он был и Алексей Толстой, и Качалов, и Соллертинский – был во множестве образов, созданных его великолепным талантом перевоплощения.
На передовую мы должны были выехать утром. И до глубокой ночи Андроников работал, творил речевые портреты. Он рокотал басом и пищал фальцетом, бывал молодым и стариком, переходил с акцента на акцент, менялся в лице, словно поминутно надевал и сбрасывал маски.
Мы собирались поехать в 13-й гвардейский корпус, которым командовал тогда генерал П. Г. Чанчибадзе. Человек этот был популярен в армии, к нему питали повышенный интерес, о нем много знали. Андроников был связан с ним давней дружбой, еще с Калининского фронта, с Ржева. И конечно же он изображал этого решительного, отчаянного и мудрого военачальника. Это ведь ему, Чанчибадзе, принадлежит знаменитый приказ: «Мертвых похоронить, раненых – в тыл, живые – вперед!»
В репертуаре Андроникова была и веселая беседа генерала Чанчибадзе с молодыми солдатами: «Танк идет на тебя, ты в щели – ты не бойся: танки под себя делать не могут…»
Утром в машине продолжался сеанс устных рассказов. Регулировщики военно-автомобильной дороги, убегавшей в степь к Матвееву-Кургану, настораживались: не пьяны ли эти хохочущие офицеры и захлебывающийся смехом шофер?
Дорога была нелегкая, долгая, и генерала Чанчибадзе сменил на переднем сиденье известный артист, а его место занял видный писатель, писателя сменили популярный хозяйственник, ученый и крупный политический деятель – Андроников минут двадцать читал наизусть отрывок из его политического доклада.
Строгий подполковник остановил нарушителя формы в балке, где по обе стороны таились штабные землянки 13-го гвардейского корпуса. Черный провод тянулся понизу. В нишах, вырезанных в земле, маскировались вездеходы.
Возникнув внезапно, грозный педант с наслаждением отчитывал Андроникова, долго и обстоятельно поучал его, пока из одной землянки не крикнули:
– Ираклий, плюнь, иди сюда!
Мы узнали голос Чанчибадзе.
Встреча вышла у них какая-то напряженная. Нас обильно угощали, и, чем больше подавали на стол всякой всячины, тем ясней было, что генерал не хочет видеть себя в шарже, не хочет этого изображения здесь, в землянке, в присутствии штабных офицеров. Кстати, строгий подполковник, кричавший на Андроникова, сидел теперь рядом с ним и смотрел на него с умилением. Генерал старательно поил гостя и своего добился: Ираклий стал клевать носом…
Настало утро штурма.
Чанчибадзе не отпускал от себя Андроникова ни на шаг. С наблюдательного пункта комкора вездеход генерала проскочил почти к самым цепям пехоты. Генерал сказал писателю:
– Ты мой друг, ты ко мне приехал, ты пойдешь со мной в атаку.
Атака уже началась. Рыжая степь вспыхнула стремительными огоньками, взбурлила волнами взметенной земли и пыли, огласилась пушечным громом и пулеметной дробью.
Генерал, не оглядываясь на сопровождающих, побежал вперед. Побежал и Андроников. Под свистящими пулями генерал падал и приникал к земле, и Ираклий тоже падал и приникал к земле, не видя впереди себя почти ничего.
В блиндаже они оказались вместе с командиром батальона. Связисты успели размотать телефонную катушку, и этот блиндажик стал оснащаться под командный пункт полка. Чуть дальше, у пригорка второй такой блиндаж быстро приспособили под новый корпусной наблюдательный пункт. И Чанчибадзе остался там на некоторое время, обозревая поле боя в стереотрубу.
После второго крупного артиллерийского налета пехота сделала еще один рывок вперед, и этот блиндажик сразу оказался в тылу. Там Андроников отдышался. Набились в блиндажик офицеры связи, к ним присоединились два молодых паренька из армейской газеты.
– Ираклий, ты здесь? – впервые обернулся Чанчибадзе.
– Я здесь, – подал голос Андроников.
– Иди сюда, посмотри, какой компот!
Самолеты-штурмовики обрабатывали передний край противника, траншеи, поливали их огнем. Тяжелая артиллерия громила глубину, пикировщики били по тылам. Как только штурмовики развернулись, с трех сторон ринулись вперед наши танки и самоходки.
Для сорок третьего года это не было еще столь обыденной батальной картиной, это было потрясающим, захватывающим дух зрелищем разгрома противника. Наши железные ветераны плакали от восторга!
В течение дня дважды переносился наблюдательный пункт Чанчибадзе. В штаб, оборудованный на новом месте, Ираклий вернулся измученным и счастливым. Генерал уже не боялся его: изображать что-либо у него не было сил.
На следующий день я отвез Андроникова в штаб фронта.
Перед отъездом в Тбилиси он дал нам, узкому кругу друзей, прощальный вечер. Была уже и сцена «Генерал Чанчибадзе ведет меня в атаку».
Болотные солдаты
Какое-то время мы жили в полуторке, любезно предоставленной командованием. Погода этого наступления была пределом летних возможностей Карелии – месяц устойчивой ясности, тепла, солнца, мягких душистых лесных ночей.
В степях такой зной распространил бы по земле желто-соломенный цвет выжженного поля, а здесь господствовали синие и густозеленые краски.
А ведь нет ничего лучше лесного ведра!
Наша полуторка, выстланная сеном, катила по проселкам, ребристым и ухабистым, гладким и мягким, ползла и подпрыгивала на хлипких гатях, осторожно объезжала на просеках свежие пеньки, трясла нас и швыряла из стороны в сторону, так что время от времени мы покидали кузов, чтобы отдохнуть в ходьбе.
Писатель Георгий Холопов и редактор армейской газеты Петр Иванович Коробов были моими спутниками. Они в этой армии знали все и вся и в гвардейскую часть генерала Миронова ехали как в родную семью, тогда как я, приезжий, исколесивший разные фронты, только и делал, что знакомился.
Фронтовой лес сорок четвертого года уже не был лесом могучего позиционного благоустройства с блиндажами, с землянками в шесть накатов и дзотами. Только тропы и просеки. И темп марша. И огонь.
Полуторка выбралась из чащи на поляну. Мы въехали в лагерь, прикатили к большому привалу.
Войско сушилось и чистилось, «болотное войско», вышедшее от самой Свири в обход мегрегских укреплений, в тыл вражеским оборонительным крепостям.
Это была мудрость, основанная на мужестве, и хитрость, помноженная на выдержку: обойти мощные железобетонные сооружения дремучими непроходимыми дебрями, которые противник не считал нужным ни укреплять, ни даже контролировать.
Наши ребята прошли там, где пройти было немыслимо.
И сразу потеряли цену мощные фортификации, потеряли смысл нагромождения металла и бетона, пошли насмарку ухищрения инженеров.
Крепости пали, неприятель поспешно оставил их, сдал без боя, взорвать не успел, даже не заминировал.
И вот лежат на травке полки обхода. Болотная наша пехота чистится и отмывается потихоньку, празднует свою удачу.
Холопов разыскал майора Владимира Семенова, горячо обнял его:
– Ну, братец, слышал радио: поздравляю с Красным Знаменем!
Коробов мигом достал в кузове объемистую флягу и предложил опустошить ее тут же по случаю награды. Но решено было сначала послушать, как это все было, поговорить с Семеновым спокойно, обстоятельно и трезво.
Все подробности улеглись у меня потом в один абзац газетного очерка.
Шли, вязли, бились в топях, цеплялись за кусты, выстилали путь хворостом, тащили на себе сорокапятимиллиметровые противотанковые пушки, несли на плечах занемогших и обессиленных товарищей, волочили боеприпасы и провиант, а в вещевых мешках на спине личный неприкосновенный запас – сухари и патроны. Не разведка какая-нибудь, не мелкие группы, а полки, целые полки с вооружением и тылами, со штабами и медпунктами.
Та подробность, что полки были не простыми, а парашютно-десантными, тоже примечательна: рожденный ползать летать не может, но рожденный летать может при случае и ползком упредить и ошеломить противника!
– Поход был в достаточной мере мучительным, – заключил Семенов. – Мы делали по сорок километров в сутки. А противник что же? Противник, как и следовало ожидать, не принял боя. Вот вам и удача тактического замысла. Смотрите, торжество продолжается.
На привале пели гармошки. Плясать охотников было мало. Почти вся пехота лежала, наслаждаясь теплым покоем, тишиной, красотой. Гармонисты тоже играли полулежа.
Это было отборное войско, совсем юное, веселое и шаловливое даже в изнеможении.
Флягу Коробова мы осушили. Долго говорили потом обо всем на свете, но, когда собрались уезжать, я спохватился, что о самом Семенове, который вел полки, ничего, собственно, неизвестно. За что ему Красное Знамя? Кто он? Кадровый офицер? Окончил академию? Где служил? Чем командовал? Где был перед войной?
Семенов смущенно ответил:
– Ничего такого, что годилось бы для печати…
– А все-таки?
– Не кадровый. Не кончал академии. Ничем не командовал. А перед войной был… редактором журнала «Мурзилка»!
Черт знает что! Редактор «Мурзилки» ведет лесной чащобой грозные полки… Сказка!
В нашем корпусе
Акимовка – понятие журналистское.
Наш корпус (не танковый и не стрелковый, а корреспондентский) стоял в Акимовке зимой сорок четвертого года в тяжелые месяцы затишья.
Там мы в полной мере познали сущность южной, приазовской, степной грязи. Акимовка погубила нам несколько машин. Акимовка гробила нашу оперативность.
Зимние акимовские вечера бывали часто голодными, потому что наша хата стояла на одном краю огромного села, а штабная столовая – на другом, и между ними лежала непролазная тьма.
С частями переднего края связывали нас короткие заморозки. Материал добывался ночными бросками.
Однажды заморозок подвел нас. Мы с Константином Тараданкиным застряли в грязи в селе Агайман на несколько дней.
Колхоз праздновал возрождение и Новый год. Вся председательская хата залита была поросячьим студнем. До утра плясали в хмельном угаре старики и вдовы. Нас с Тараданкиным поили горилкой партизаны-бородачи, только что вышедшие из плавней.
Где-то поблизости стояли наши радисты, они дали деревне проводок, и старенький репродуктор хрипел музыкой из Москвы.
Дед кричал в репродуктор:
– Салют давай! Приказ давай! Последний час давай!
А к утренней сводке все протрезвились. Была хорошая сводка. Но о нашем участке не было в ней ни слова, как будто война здесь кончилась.
Мы вернулись в Акимовку, улучив заморозок.
Корпус жил своей жизнью. Напрасно думать, что в затишье так уж и нет никаких дел. В затишье обычно обострялось ощущение нашей хозяйственной, бытовой запущенности и обсуждался обширный список нехваток. Как говорил мудрый латыш корреспондент ТАСС Вольдемар Францевич Буш, мы с головой уходили в портянки.
Иногда положение наше удавалось улучшить, и некоторые из нас добывали к портянкам еще и сапоги взамен прохудившихся. Коллега Буша Борис Афанасьев брал на себя наиболее важные контакты в хозяйственной и комендантской сфере, а если уж ему не удавалось, тогда все улаживал без помощи начальства тассовский шофер Гущян, говоря при этом:
– А, все приходится делать самому!..
В затишье нами пристально интересовалось политуправление. В его планах всегда стоял насущный пункт насчет того, чтобы поближе познакомиться с нашими индивидуальностями, для чего был выделен майор Миронов, деликатнейший из майоров, когда-либо встречавшихся мне. Генерал Михаил Михаилович Пронин уделял каждому из нас личное внимание, он запросто навещал нас в нашей хате, ругал наше жилье, поражался нашей бытовой беспомощности и потешался над нашим невоенным видом (к корреспондентам «Красной звезды» последнее не относится, это оговаривалось всегда, и я оговариваю это здесь – у них не было невоенного вида!).
Одним из крупных мероприятий затишья был день рождения Гриши Шпакова, корреспондента Совинформбюро. Не так уж много ему исполнилось, что-то около двадцати пяти, но провели мы этот день на уровне Восьмого марта, если не выше. Впрочем, Восьмого марта мы тоже устроили праздник – в честь Анисимовны, хозяйки хаты «Красной звезды», а именины ее младшей дочери отмечались само собой: оба раза гулял у Анисимовны Михаил Михайлович, он пел с нами допоздна.
Отлично жили в распутицу наши шоферы. Они ели, спали и бились в домино. Иногда устраивались просветительные вечера: мы читали с научными комментариями огромные, чуть ли не метр на метр, «священные писания», каким-то образом оказавшиеся в хате у безбожных хозяев. Кроме того, шоферы вслух читали газеты. «Мой майор сегодня подвалом идет…», «Гляди-ка, капитан мой, вот дал так дал!..» Однажды нагрянули к нам Борис Лавренев и Андрей Платонов, мы провели в разговорах долгую ночь и выяснили далеко не все.
В Акимовке мы привели в порядок свои дневники. Мы старались писать впрок, делали заготовки для будущих книг. Долгими вечерами до крика спорили о литературе и порядком надоели друг другу. Мы были придирчивыми судьями своим редакциям и не давали пощады даже самым именитым и грозным редакторам, ведя счет ошибкам и обидам и поддерживая дружескую профессиональную солидарность.
А «Красная звезда» во всех случаях улыбалась: у них порядок, у них лучше, у них солидно, у них образцово! И тогда кто-нибудь из нас брал номер «Красной звезды» и декламировал заметку, написанную явно по карте: «Первой в Н-ск ворвалась Н-ская часть…» И Василий Коротеев, наименее кадровый из кадровых, говорил со смущением:
– Мы тоже не святые.
И это была правда.
Когда наше акимовское житье совсем наладилось и стало граничить с комфортом, нам передали от Пронина:
– Завтра снимаемся!
На Турецком валу
Девятнадцатый танковый корпус генерала Васильева совершил прорыв к Турецкому валу.
Вошли, разумеется, в прорыв и корреспонденты.
Мы давно ждали этого дня. Мы берегли покрышки. Мы копили бензин, холили машины. Мы устанавливали добрые отношения с работниками узла связи (обоего пола): высшей журналистской доблестью было завоевание их расположения в дни бурных событий, когда провод перегружен.
Когда мы догнали танкистов, генерал Васильев нам сказал:
– Хлопцы, вот такое дело: вторжение в Крым временно откладывается, может быть до весны. Из тактических моментов надо отметить стремительность броска и огневую мощь атаки. Дальше, хлопцы, не велено продвигаться, вот такое дело…
Он развел руками – одну откинул далеко, другую, перевязанную, придержал у груди.
Пусть остановили, пусть отложили вторжение, а минута все равно была святая. Мы были у Перекопа!
Помещение, в котором писалась для «Красной звезды» обобщающая статья о танковом прорыве, было амбаром совхоза «Чабан» у Турецкого вала. Соавторы примостились на куче ржи. Им запомнится эта куча ржи – история!
В амбаре работа подвигалась медленно. Корреспондент «Красной звезды» Василий Коротеев хотел, чтобы статья была написана этаким генеральским басом в манере военных мыслителей, но соавторы были майоры, молодые офицеры, они то и дело сбивались на ходкие газетные обороты и очерковые штучки, и это сердило Коротеева. Он тоже был майор, но постарше этих вчерашних лейтенантов.
– Воздух! – несколько раз кричал в приоткрытую дверь часовой, приставленный к амбару.
– Погоди ты, – отмахивались майоры.
– Воздух!
– Не мешай!
Я тоже пытался добыть для своей газеты статью о тактике танкового боя и наступал на начальника штаба полковника Шаврова, но он отбивался под предлогом изнурительной занятости: ведь сейчас, когда остановились, штабу самая работа… Очень убедительно, конечно, но, если бы наступление продолжалось, Шавров сослался бы именно на наступление: в движении штабу самая работа! Но я не потерял еще надежду и время от времени беспокоил полковника.
Ночевали мы все на той же куче ржи. Кстати сказать, на ржи спать довольно жестко, жестче, чем, например, на семечках или на кукурузе. Но, конечно, получше, чем на муке в тугих мешках.
Утром прояснилась картина штурма. Вся степь перед Турецким валом заполнена была танками, коробками автофургонов, рациями, пушечными и минометными батареями. Все было на виду – лагерь прикрывала огневая защита с фронта и с неба.
В рыжих откосах Турецкого вала наша пехота уже ладила свои окопный быт – стлались дымки над лисьими норами, позвякивали котелки в щелях.
Всяк занят был своим делом. Мария Папуга, отважная радистка, с которой нам надо было встретиться, уединилась было в фургоне рации и начала примерять шелковый платочек – когда-то еще доведется его надеть!
Тихо было. Ни пулеметной очереди, ни мины: осенью сорок третьего года противник уже зря на рожон не лез. Это была тишина завоеванная, тишина победная. В тишине лежал за туманами хмурый Крым в ожидании второй перекопской атаки.
Люди танкового корпуса настроены были празднично, да и подходила годовщина Октября.
Поближе к вечеру сам разыскал меня полковник Шавров. Что, неужели написал статейку? Или, может, выбрал время сесть поработать над ней с моей помощью?
– У меня к вам есть кое-что, – сказал он. – Статья не получится. Но нельзя ли попросить там кого-нибудь в вашей редакции, чтобы позвонили Ефросинье Васильевне, жене моей, поздравили с наступающим праздником и сказали, что Иван Егорыч жив… Она живет у Сокола, вот вам телефон. Понимаете, был штурм, она должна на праздник знать, что я жив.
На ржи родилась в муках и страданиях полновесная, «генеральская» статья майоров для «Красной звезды». А в мою редакцию полетел по проводам с Перекопа привет Ефросинье Васильевне от Ивана Егоровича.
Там!
Мы с Мартыном Мержановым вели себя как мальчишки: отчаянно топали ногами, пританцовывали и орали в общем гаме бог знает что. Еще бы не кричать и не прыгать: мы перешли германскую границу, первыми оказались на горбатой и тесной «Марктплац», выложенной красной брусчаткой. Красная кирпичная кирха, обезглавленная, хлопала на ветру рваными листами жести. Гранитный монумент лежал на боку среди обломков длинных крыльев. «Бир унд вайн» – криво ухмылялся пустой кабак. А из соседнего магазина уже летели на мостовую плотные томики «Майн кампф».
Бомбовую воронку машины объезжали в густой грязи по обочине взорванной мостовой, и мы живо сообразили накидать под колеса побольше творений Гитлера, чтобы машины не буксовали. Немедленно какой-то майор, из тех, кто за словом в карман не лезет, заявил, что вот, мол, пожалуйста, случай, когда такая литература может ускорять ход истории.
Передовая за ночь продвинулась вперед километров на восемь. Спешно отводя артиллерию на новые позиции, противник встречал нас главным образом огнем пожаров. Горели целые кварталы – банки, торговые конторы, особняки. Из водопроводных труб хлестал кипяток.
Огромный пылающий дом рухнул, перекрыв движение по улице, и машины устремились переулками в объезд.
Время от времени возникали «пробки». На остановках к нашей машине подбегали солдаты с единственным вопросом, волновавшим в тот день многих:
– Сколько отсюда до Берлина осталось? Сколько до Берлина?
Притопала сюда, на эту брусчатку, наша степная киргизская лошадка, и ездовой саратовский парнишка Коля Остроухов призыва 1943 года, подгоняя ее («Н-но, голубка!»), сказал товарищам, помогавшим вытолкнуть телегу из грязи:
– Была мода въезжать победителям на белом коне, а я въеду в Берлин на пегом, ничего?
Я быстро написал Коле записку:
«В имперскую конюшню. Обеспечить лошадь ефрейтора Остроухова овсом высшего сорта и предоставить персональные ясли».
– На, возьми, скажешь, я приказал…
Затор ликвидировали, мы оставили Колю с лошадкой позади, а новую «пробку» уже надо было пробивать огнем нашей артиллерии, и в той полосе кончились шуточки.
Было очень поздно, когда мы вернулись в наш хуторок, чтобы послать в Москву первые корреспонденции с земли врага.
В Порт-Артур и обратно
В Порт-Артур мы летели с воздушным десантом, а обратно, навстречу нашим передовым наземным войскам, катили в трофейной машине «Форд-8», американской левше.
Со мной были фотокорреспонденты Анатолий Егоров и Василий Киселев. Вооружение наше состояло из трех пистолетов, продовольственные запасы исчерпывались ящиком бренди и кульком японских галет.
Мы давно оторвались от наземных войск, еще на земле Монголии, где-то около Халхин– Гола. Перепрыгнули через Большой Хинган – из окна самолета я видел внизу серое нагромождение скал, дикую свалку утесов, грандиозное каменное столпотворение и едва различимые змейки дорог, по которым шли трудным походом наши танки, наша мотопехота, наши саперы и связисты.
И вот мы ехали теперь им навстречу.
Японцы уже капитулировали, но не успели сложить оружие. Наша машина обгоняла и встречала стройные колонны довольно бодрой и недурно оснащенной пехоты, и статные, вышколенные офицеры старательно козыряли нам. Их было много, нас было трое. Колонны почтительно уступали нам дорогу. По обочинам выстраивались толпы китайских крестьян, они нам яростно аплодировали, и, казалось, будто молва о советской машине разносится с быстротой радио. Но радио не было. И телеграфа не было. Телеграф был моей мечтой – отправить порт-артурские репортажи.
Машина катилась людными дорогами Ляодуна, она шла сквозь ливни рукоплесканий.
Но накануне прошли ливни настоящие, и вот мы застряли перед оврагом у сорванного с опор моста. Карта почти бесполезна: дороги перекроены, названия в каждой провинции свои. По рукам китайской толпы идут наши рисунки: паровозики (где-то тут дорога?), многоэтажные здания (далеко ли до большого города?), речки, мосты, развилки дорог. И на все отвечают нам незнанием, пожимают плечами, виновато улыбаются, похлопывают по плечу – не унывайте, мол, после разгрома Японии ничего уже не страшно. И суют нам в машину арбузы, персики и помидоры, и затягиваются нашими сигаретами. А детям дают потрогать наши погоны, каждую звездочку отдельно.
Это была пантомима.
Но однажды на площади маленького городка, где мы вынуждены были притормозить из-за тесноты, пробрался к машине древний старик с трубкой в зубах и заговорил на изуродованном до неузнаваемости русском языке. Мы употребили много энергии и воображения, чтобы расшифровать то, что он сказал: до 1914 года жил в Петербурге, работал в прачечной, а потом по подозрению в шпионаже выслан был из России. Он счастлив снова встретиться с Россией у себя на родине.
Постепенно въехали мы во тьму.
Ощупью двигаемся в китайской ночи.
Пытались мы было вброд перебраться через речку, но водой захлестнуло свечи, машина заглохла, застряла в самом глубоком месте, на середине. Сидим, думаем, как выбраться. В обе стороны до берега метров по двадцать – вода выше колен. Что ж, один идет к одному берегу, другой к другому, третий остается на всякий случай в машине.
Я на своем берегу углубился довольно далеко: ни души. Стою, жду, смотрю. Егоров на своем берегу прошел еще дальше и тоже никого не встретил. Но вот на меня, вижу, надвигается черная тень человека. Подаю голос – человек испуганно шарахается, бежит назад. Я кричу ему вслед и тем только подгоняю его. Но тут на берегу Егорова показывается целая стайка китайской молодежи. Им уж конечно стыдно бояться одной машины, застрявшей в реке в потемках. Подошли ребята к берегу, Егоров знаками объяснил, в чем дело. И тут произошло неожиданное: с криками, с воплями побежали ребята назад, в скрытую тьмой деревушку – там захлопали двери, закудахтали куры, завизжали дети и женщины, поднялась тревога. Ждем. Что-то будет? Видим, на нас надвигается шумная черная масса людей, человек четыреста, не меньше. У мужчин закатаны штаны, у женщин тоже подобрана выше колен одежда. С ходу вбегают в воду и, окружив машину, поднимают ее на руках так, наверно, как в былые времена несли паланкины вельмож.
Сделали дело – и убежали. В деревне короткий переполох. Видно, комментарии к событию. И тишина.
Тьма еще гуще. Дорога еще хуже. Сбились на какой-то едва заметный проселок. Но вот снова дорога расширилась – впереди как будто накатано, на земле оттиснуты узорчатые шины.
Прибавляем скорости – и стоп! Разрушенный мост и никаких объездов ни слева, ни справа.
– Знаете, хлопцы, – говорит Егоров, – довольно издеваться над машиной и трепать казенные нервы. Я предлагаю спать. Закрыться на все стекла и спать до утра.
Киселев – не он ведет машину – и так уже почти спит, в знак решительного согласия резко клюет носом. И я тоже легко примыкаю к большинству.
Спим.
Как перешла черно-чернильная китайская ночь в бледное утро, как полыхнул из-за горизонта свет, нам не довелось увидеть. Нас растормошило веселое, озорное, уже высокое солнце, брызнувшее в стекла машины с ослепительно светлого, почти совсем белого неба.
За нашим пробуждением следили плотные ряды зрителей, обступивших машину. К самому стеклу прильнули коричневые, копченые, морщинистые лица стариков, детишки карабкались на капот, женщины с любопытством разглядывали нас и наше довольно неказистое снаряжение, держали наготове тарелочки с вареными яйцами и овощами.
Громкий общий возглас вырвался из толпы, когда мы очнулись и в радостном удивлении раскрыли дверцы машины. Толпа закивала, заулыбалась, послышались какие-то слова, какие-то препирательства и пререкания. Отталкивая друг друга, крестьяне совали в машину тарелочки с угощением. Мы могли отплатить только сигаретами. Мы выложили все, что у нас было, и толпа от мала до велика с восторгом, со смаком, с лихим причмокиванием закурила…
Где объезд? Объезд уже обозначен живой цепочкой – до сопряжения с шоссе машина шла людским коридором под прощальные аплодисменты толпы.
А два дня спустя шоссе привело нас к окраине тихого городка, где мы увидели в саду на привале наших танкистов. Мы услышали знакомую привычную команду:
– Ужин и ночлег корреспондентам! Машину осмотреть и заправить.








