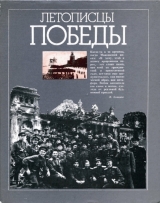
Текст книги "Летописцы Победы"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
В тот первый берлинский вечер, прокатив немного по брусчатке пригорода, остановились возле небольшого коттеджа. Рядом – пушки. Спрашиваем у артиллеристов:
– Какая армия?
– Пятая ударная, Берзарина…
– А дивизия?
– Восемьдесят девятая, гвардейская!
– Белгородско-Харьковская?
– Она самая…
Приятная неожиданность! Мы оказались в боевых порядках гвардейцев, у которых довелось бывать в пору Курской битвы, писать о них. Сразу нашлись и знакомые офицеры. Они провели нас в соседний дом, на наблюдательный пункт. Взбираемся на чердак. Очертания города расплывчаты; в черной глубине едва проступают силуэты башен и шпилей. По небу шарят прожекторы. Слышится гул разрывов. Над городом вспыхивают сотни багровых звезд, тянутся синие нити трасс – огонь орудий и пулеметов…
С каждым днем кольцо вокруг Берлина, образованное войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, сжималось все сильнее. Уличные бои шли на «трех этажах» – на улицах, в штольнях метро и на чердаках полуразрушенных домов. За линией боя по битому кирпичу, заполнившему улицы, меж поваленных деревьев, трамваев и автобусов двигались повозки, санитарные машины, походные кухни. Навстречу – потоки берлинцев, покидавших город. Многие с ручными тележками, груженными домашним скарбом. Над каждой такой группой – белый флаг.
Пересекаем широкую Франкфуртерштрассе и узенькими улочками пробираемся вперед, к Шпрее. Многие здания уже заняты нашими. Размеренным шагом проходят разведчики в маскхалатах; пробегают подносчики патронов; санитары проносят раненых. На перекрестках улиц и в сквериках – пушки. Взбираемся на верхний этаж полусохранившегося дома – к авианаводчикам из 10-й воздушной армии. Отсюда хорошо видна передовая. На той стороне Шпрее – руины центральной части города. Сверяясь с картой, Габрилович показывает: вон – императорский замок, там – главный берлинский собор, виден Альткельн, остроконечный шпиль Петеркирхе…
Примостившись в сторонке, беседуем с офицерами 10-й воздушной армии. Они рассказывают, как осуществляется взаимодействие с наземными войсками, о тысячах самолето-вылетов, о сотнях сбитых машин врага. Габрилович записывает любопытную деталь: в разгар боев по прорыву обороны авиаторы сбросили на парашютах в боевые порядки 8-й гвардейской армии В. И. Чуйкова большие ключи: к каждому была прикреплена дощечка с надписью: «Гвардейцы-друзья, к победе вперед! Шлем вам ключи от берлинских ворот!» Помечаем в блокнотах имена наиболее отличившихся летчиков. Среди других товарищи называют имя Ивана Кожедуба, одержавшего над Берлином свою 62-ю воздушную победу. Через несколько дней возле рейхстага, над которым уже развевалось Красное знамя, мы услышали в первомайской передаче, транслировавшейся из Москвы, знакомый басок летчика-аса. Обращаясь к однополчанам, продолжавшим громить врага, он с Красной площади поздравил их с боевыми успехами и поблагодарил советских людей, чей самоотверженный труд дал в руки нашим солдатам оружие Победы…
Но сама Победа – впереди. А пока еще и еще дни и ночи упорных уличных боев. Мы с Габриловичем начинали их поездкой на передовую, беря направление по Франкфуртерштрассе – восточной части автомагистрали, пересекавшей весь город. Мокрая от дождей дорога вела к центру Берлина. Хотя уличный бой горел совсем рядом, нас как-то не удивила бросившаяся в глаза вывеска: «Военный комендант города Берлина».
Поднялись на второй этаж, вошли в комнату, заполненную людьми. Большинство – в штатском. По прическам, манере держаться можно было определить: это – немцы. Поодаль наши журналисты-правдисты – Борис Горбатов и Мартын Мержанов, а в уголке с киноаппаратом в руках – Роман Кармен. За письменным столом, спиною к окну, за которым поблескивало пламя пожаров, грузноватый человек в генеральском кителе – командующий 5-й ударной армией Н. Э. Берзарин. Чуть наклонив седую голову, он терпеливо вел беседу с немцами о восстановлении городского водопровода, электростанций и холодильников, назначал директоров предприятий. На стене висела карта Берлина. Центральную часть города испещрили красные линии, наглядно показывавшие безвыходность положения окруженного гарнизона врага.
– Обстановка такова, – широким жестом показал на карту Берзарин, – что надо срочно заниматься восстановлением городского хозяйства…
Немцы, поочередно подходя к карте, наносили карандашом кружочки и квадратики, обозначая ими места предприятий городского хозяйства, которые могли бы в ближайшие дни войти в строй. В конце беседы, распорядившись накрыть стол в походной столовой для вновь назначенных директоров. Николай Эрастович, лукаво улыбнувшись, поинтересовался:
– Кто из вас видел живого большевика?
Оказалось, собравшиеся о них только слышали да читали кое-что в геббельсовских газетах.
– Идя на это совещание, – сказал один из немцев, – думал, что вызван для ареста. А здесь за многие годы впервые с нами говорили по-человечески…
В канун первомайского праздника над рейхстагом взвилось Знамя Победы. Его водрузили солдаты 150-й стрелковой дивизии. Но всю ночь под 1 Мая центральная часть Берлина грохотала. Небо озаряли багровые вспышки разрывов. Зарево пожаров, казалось, стало еще ярче. Наши войска отбивали очередную попытку остатков вражеского гарнизона вырваться из окружения. Утро же выдалось ясное, солнечное. На передовую во все подразделения был доставлен напечатанный во фронтовой и армейских газетах первомайский приказ Верховного Главнокомандующего. Его читали автоматчики в развалинах домов, артиллеристы возле пушек на площадях, танкисты, готовившиеся к атакам. А передвижные радиоустановки транслировали московский военный парад. Сюда, в Берлин, над которым реяло Знамя Победы, доносились звуки оркестров, играющих на Красной площади.
Публикацию подготовил В. МЯКУШКОВ
Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ. СТИХИ-УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ
1. В должности поэта
Чем дальше от нас огненные годы, тем шире становится понятие «поэзия Великой Отечественной войны»: стихи о войне, написанные на фронте, опубликованные впервые на страницах дивизионок, армейских и фронтовых газет, встали в один ряд со стихами, созданными участниками войны, ставшими поэтами в мирное время и впервые опубликованными пять, десять, двадцать лет спустя. К ним сейчас подстраиваются и произведения поэтов, родившихся после Победы. Все это – волнующая летопись, отражение важнейших событий жизни страны, поэзия Великой Отечественной.
Я не хотел бы быть заподозренным в некой ветеранской болезни, в ревностном отстаивании своего первородства свидетеля и участника, поэта на войне. Появились и еще появятся прекрасные и проникновенные произведения о ней, написанные людьми, не успевшими, к счастью, услышать свист бомбы над головой…
Не хочу идеализировать прошлое и подтверждаю, что слабых н просто плохих стихов во все времена было больше, чем хороших и замечательных. Ну и на войне тоже. Некоторые стихи несут на себе печать спешки и не выдержали самого сурового испытания – испытания временем.
И все же те неполных четыре года – особый и невероятно плодотворный период в истории советской поэзии, не сравнимый ни с каким другим.
В первой группе поэтов, добровольцами вставших в ряды армии и срочно, в июне сорок первого, выехавших с предписанием занять место «писателя» в армейской или фронтовой газетах, было, самое большее, человек тридцать. Вспоминаю некоторые имена – Сурков, Прокофьев, Безыменский, Жаров, Светлов, Сельвинский, Симонов, Матусовский, Лебедев-Кумач, Твардовский, Алтаузен, Недогонов, Саянов.
Окружные газеты стали фронтовыми, приняв в ряды своих сотрудников Бажана, Первомайского, Малышко – на Украине, Кулешова, Бровку, Глебку – в Белоруссии. (Подчеркиваю – это далеко не полные списки, но речь идет о поэтах уже тогда известных.)
Вероятно, послевоенные стихотворения и поэмы художественно выше писавшихся для армейской газеты совсем не в кабинетной обстановке. Знаменитые стихи Михаила Луконина «Мои друзья» («Госпиталь. Все в белом») датированы 1947 годом, «Коммунисты, вперед!» Александра Межирова – тоже 1947 годом, а поэма «Я убит подо Ржевом» завершена Александром Твардовским в 1946 году.
Однако для истории литературы, да и вообще для истории нашего общества, чрезвычайно важен и требует особого рассмотрения фронтовой опыт нашей поэзии, как явление исключительное, новое, советское. Эти стихи действительно были оружием ближнего боя.
Поэт на войне – это стихи на злобу дня, призыв, клич, задушевная беседа политрука в ночь перед атакой, воспевание только что совершенного подвига…
Исследуя биографии поэтов, мы не обойдем вниманием и единства образа поэта, возникающего у читателей стихов, и его личности, его поведения, его присутствия не где-то в стороне, в тылу, а здесь, под огнем, рядом с бойцами.
Сейчас можно, конечно, сказать: зачем Симонову было идти на подводной лодке в кишащее минами море, зачем Сельвинскому, тогда уже сорокалетнему поэту, в кубанке и бурке скакать в кавалерийский рейд по тылам врага?.. Но они понимали: их место на передовой. Александр Безыменский на одном из первых танков ворвался в Прагу, Николай Тихонов категорически отказался выехать из осажденного Ленинграда. В 1942 году мне достался богатый трофей – ящик шоколаду. Подвернулась оказия: знакомый летчик летел в Ленинград, и я передал этот ящик для Тихонова. После войны мне рассказал поэт Борис Лихарев: не отломив и квадратика от плитки, Тихонов отнес мою посылку в госпиталь, а нести было трудно – шатало от голода.
Я вспоминаю доживших до мирных времен. Но сколько наших товарищей погибло! Искалеченный под Москвой осколками снаряда, Уткин уговорил начальство вновь послать его воевать. Он погиб, возвращаясь из освобожденного Бухареста.
Из подводного плавания не вернулся самый военный из нас – Борис Лебедев. Но и самого «мирного» – Вадима Стрельченко не пощадил огонь…
И опять не сумею назвать всех, а мемориальный список читать страшно и горько.
Не сразу высветилось имя Мусы Джалиля… Не сразу нашлись стихи поэтов, написанные в фашистских застенках в ночь перед казнью, без надежды, что их когда-нибудь прочтут. Но написаны они были.
Недавно в одном из архивов в Федеративной Республике Германии мое внимание привлек первый военный номер еженедельного журнала войск СС «Черный корпус». На первой странице – злобная карикатура на советского поэта. Так сказать, обобщающий образ…
Поскольку поэты всегда на виду, родилось и распространилось немало легенд о них. Как правило, это легенды – героические и недалекие от действительности.
Правда, одно время было модно изображать – особенно на сцене – поэта неуклюжим и беспомощным, а то и трусоватым, чужеродным явлением в военном коллективе. Читатель и зритель просто не приняли такой трактовки, и она стерлась, куда-то сгинула, потому что не была правдой.
О стихах на войне эти заметки. Я писал и еще напишу о поэзии моих товарищей, рожденной в боях. История многих их стихов это, наверное, серия документальных повестей. О некоторых вещах рассказали сами авторы: А. Твардовский – о том, как писался «Василий Теркин», А. Сурков – о «Землянке», К. Симонов – о знаменитом цикле «С тобой и без тебя». Не сравнивая по значимости свои стихи с этими и другими поэтическими произведениями золотого фонда нашей литературы, попробую рассказать о своей фронтовой работе. Надеюсь, что снисходительный читатель не заподозрит меня в саморекламе…
2. Будет здесь положено начало вражьего конца
Лето 1942 года было для нас очень тяжким.
Войска Юго-Западного фронта сбиты с рубежа реки Оскол и покатились к Волге. Отступаем по голой степи, над нами, как прикрепленная, виснет «рама» – двухфюзеляжный разведчик-корректировщик. На дорогах, особенно на переправах, «пробки», враг бомбит нещадно.
Почти не удается поспать, мы все время в движении и под огнем.
Связь с поездом-редакцией фронтовой газеты утеряна. Верные печатному слову, мы отправляем заметки, корреспонденции, ну и стихи, конечно, куда-то и с любой оказией, но позже выяснится, что почти ни один пакет не дошел по назначению.
Приходит на помощь печальный опыт сорок первого года: при отступлении, задерживаясь ненадолго в районных центрах, мы выпускали листки и листовки в типографиях районных газет. Это был всегда ручной набор и примитивная плоскопечатная машина, а все-таки получалось. Как досадно, что не сохранились те листки со стихами, срочно отпечатанные на пути от Львова до Умани…
И вот теперь снова – пустеющие, пустынные, словно умирающие районные центры, но уже в Воронежской и Сталинградской областях; такие же мучительные поиски наборщика и печатника, так же приходится журналистам и поэтам самим крутить колесо и фальцевать печатные страницы. А потом с пачкой своей продукции выходили на дороги и переправы, раздавали листовки…
Нет, пыль не прикроет отступающие колонны. Бомбы свистят и воют, гибнут мои товарищи. Где наша редакция – неизвестно…
Я нашел редакцию фронтовой газеты «Красная Армия» уже в Сталинграде, на улице Ленина. Ее приютила редакция областной газеты «Сталинградская правда», и, поскольку поезд-типография потерялся, где-то застрял, а может, и разбомблен, наша военная газета и листовки политуправления фронта, который еще называется Юго-Западным, но уже завтра получит имя Сталинградского, будут печататься в областной типографии.
…По приказу неугомонного и беспощадного редактора я должен срочно, в номер или для листовки, сдать стихи о Победе.
Сейчас вспоминаю: в той катастрофической ситуации никакого иного выхода мы не видели – только Победа могла спасти страну, фронт, наши семьи, каждого из нас.
Как и когда придет Победа, никто не знал. Понимали, чувствовали, ощущали каждой клеточкой, всем своим существом – невозможно, немыслимо пустить врага за Волгу.
Вот об этом и было срочно написано стихотворение, которое я попробую здесь воспроизвести.
Разговор Волги с Доном
Слышал я под небом раскаленным,—
Из-за сотни верст, издалека,
Тихо говорила Волга Дону,
Волга – мать-река:
«Здравствуй, Дон,
Товарищ мой старинный!
Знаю, тяжело тебе, родной.
Берег твой измаялся кручиной,—
Коршун над волной.
Только я скажу тебе, товарищ,
И твоим зеленым берегам:
Никогда, сколь помню, не сдавались
Реки русские врагам».
Дон вдали сверкнул клинком казачьим
И ответил Волге: «Труден час.
Горько мне теперь, но я не плачу.
Слышу твой наказ.
Русских рек великих не ославим,
В бой отправим сыновей своих,
С двух сторон врагов проклятых сдавим
И раздавим их».
Волга Дону громко отвечала:
«Не уйдут пришельцы из кольца.
Будет здесь положено начало
Вражьего конца».
Темным гневом набухают реки,
О которых у народа есть
Столько гордых песен, что вовеки
Их не перечесть.
Реки говорят по-человечьи,
Люди, словно волны, в бой идут,
Пусть враги на этом междуречье
Смерть свою найдут.
Бой кипит под небом раскаленным,
Ни минуты передышки нет.
Волга говорит, как с братом, с Доном,
Дон гремит в ответ.
Стихотворение датировано августом 1942 года, указано и место написания – станица Перекопская. Станица эта – в излучине Дона, где уже начались тяжелые бои, сдерживающие страшный натиск противника.
Через десятилетия, с сегодняшней высоты, можно спокойно разобраться, почему в обстановке крайней, в общем-то катастрофической, было написано такое стихотворение.
Может быть, в утешение страдальцам, сражавшимся в глубине России? Нет, мы не считали себя страдальцами и не нуждались в утешении: оно мешало бы. Нужны были тогда лишь беззаветность, отчаянная отвага…
Может быть, я знал планы Верховного командования? Может быть, таким стихотворным способом выполнялось особое задание штаба фронта? (Ведь, бывало, получали журналисты такие поручения – командование очень доверяло им.)
Нет, и этого не было. Просто редактор приказал сдать стихи в номер (хотя еще неясно было, сумеем ли выпустить газету – бомбы выли над зданием типографии) и чтоб стихи были о Победе, а комиссар в должности поэта уже держал в кармане именно те стихи, которые нужны были редактору сегодня и немедленно.
В стихах Волга и Дон как бы окружали и душили пришельцев, и не только география подводила к подобному образу, но просто необходимость…
И не будучи стратегом, могу с уверенностью сказать, что в Генеральном штабе такого плана не было, хотя бы потому, что в августе фашистские войска еще не прорвались в Сталинград и можно еще было надеяться, что они будут остановлены на подступах к городу, на Дону…
Никакого другого выхода, кроме разгрома врага, кроме Победы, не было тогда. Об этом думали воины, в это верили, а поэты формулировали их мысли и чувства.
В том же духе писали в те дни мои товарищи по Юго-Западному фронту Борис Палийчук, Микола Бажан, Микола Упеник, Павло Усенко.
Разумеется, мы не знали еще, что бои будут идти в цехах Тракторного завода и «Красного Октября», на городском вокзале и на самом берегу Волги. Не могли мы предвидеть, какого напряжения достигнет сражение в городе и в междуречье Волги и Дона. Но если поэзии дано хоть на дни, на месяцы опережать время, то именно эта ее таинственная возможность могуче проявилась на Великой Отечественной. Разве стихи Николая Тихонова, Ольги Берггольц, Александра Прокофьева с первого дня блокады не были стихами о победе под Ленинградом? Разве стихи Алексея Суркова, Константина Симонова, Маргариты Алигер, Иосифа Уткина не были стихами о будущей победе под Москвой?
Подобную работу – именно работу – пришлось вести всем поэтам армейских и фронтовых газет (и центральных, конечно). Строки стихов были как пули, летящие во врага из недалекого будущего.
«Разговор Волги с Доном» появился тогда, когда положение на нашем Юго-Западном фронте было чрезвычайно тяжелым.
Не помню, вышла ли в тот день газета, но отчетливо помню свой «Разговор», отпечатанный листовкой. В том же августе я вновь выехал в междуречье Волги и Дона, прихватив и запихнув в полевую сумку пачку этих самых листовок.
Мы находились в гвардейской дивизии, скомплектованной из десантников-парашютистов, моим спутником был Лев Ющенко, будущий писатель, а тогда корреспондент «Комсомольской правды» (я работал во фронтовой газете, но числился и за «Комсомолкой»).
Мы кочевали из боя в бой, вместе с десантниками медленно отходя к Сталинграду.
Мой коллега Ющенко ранен в голову. Ранение тяжелое. Он лежит вместе с другими бойцами, ожидающими эвакуации, на пыльной земле, под ненадежным укрытием маскировочной сетки. От новых пуль и осколков она не спасет, разве что двухфюзеляжная разведывательная «рама» не углядит.
Состояние у моего юного друга, как говорится, хуже некуда, но корреспондент остается корреспондентом, пока дышит. Симонов правильно сказал в своей не такой уж шуточной песенке:
Жив ты или помер —
Главное, чтоб в номер
Материал успел ты передать…
Я склоняюсь над Ющенко, он хочет что-то сказать на прощание…
– Ты еще не отправил в «Комсомолку» «Разговор Волги с Доном»? – спрашивает он, не поднимая век, как сквозь сон. Узнав, что нет, он слабым, но властным голосом требует: – Давай сюда, я доставлю…
Наверное, ему необходимо было в тот момент убедить себя, что ничего страшного с ним не произошло, он действует, продолжает организовывать материалы для своей редакции.
Пришел «студебеккер» с эвакопункта, мы прощаемся с Ющенко. Как-то мне неловко, что ранило его, а не меня. (Ведь я не знаю, что через несколько дней и мне придется лежать на пыльной земле под ненадежной маскировочной сеткой в ожидании эвакуации.)
Увозят Леву. Отправилось в неизведанный путь мое стихотворение.
Из Сталинграда вверх по Волге раненых эвакуировали прогулочным пароходом, наскоро переоборудованным под госпиталь. Как стало вскоре известно, пароход с красным крестом на палубе подвергся варварской бомбежке, загорелся, затонул. Тревожно и больно было за Ющенко: жив ли, спасли ли его? О стихотворении я, разумеется, уже и не вспоминал…
Кончился окровавленный август, запылал еще более суровый сентябрь.
В Саратов, где мне пришлось выздоравливать после ранения, прибыла свежая «Комсомолка».
Разворачиваю, вижу: напечатан «Разговор Волги с Доном». Какое счастье, значит, Лева Ющенко спасся!
А сражение в Сталинграде достигло высшей, наиопаснейшей точки. Враг вновь и вновь атакует, бой в цехах заводов, в центре города. Мамаев курган в руках противника, а это высота господствующая.
В стихах фронтовых поэтов честно говорилось, как нам трудно. Военная газета – издание строгое, каждое слово должно быть взвешенным, четким, ясным для своих и непонятным для противника. Пожалуй, только в стихах можно было говорить, что нас постигла беда.
Но уверенность поэтов в Победе непоколебима. Стихотворение «Разговор Волги с Доном» не выделялось среди других газетных стихов тех дней.
19 ноября 1942 года началось наше решительное наступление, операция по окружению могучей немецкой 6-й армии. Этому дню суждено было войти в историю как Дню артиллерии, а затем – Дню ракетных войск и артиллерии, войти и в историю военного искусства.
Все переменилось.
В кольце очутились они! Когда кольцо плотно замкнулось, в политотделе одной танковой бригады я взял в руки номер «Правды». И был весьма удивлен и тем, как быстро доставлена из Москвы газета, и тем, что в ней 24 ноября вновь опубликован мой «Разговор Волги с Доном». Случай достаточно редкий в газетной практике – перепечатаны стихи, два месяца тому назад уже оттиснутые в «Комсомольской правде».
В сводке Совинформбюро было сказано, что 23 ноября полностью завершено окружение фашистских войск под Сталинградом. А стихотворение как бы повторяет и подтверждает сводку:
Не уйдут пришельцы из кольца.
Будет здесь положено начало
Вражьего конца…
В советской поэзии были прогнозированы многие события Великой Отечественной войны. Ничего удивительного: просто вера в Победу водила нашими карандашами…
3. Новой школы красный дом…
Весной 1943 года в разгранлиниях фронта, передислоцировавшегося из победившего Сталинграда, оказались чудесные курские места – с сиренью и соловьями, места, которым вскоре предстояло стать полем новой небывалой битвы и славной победы наших войск.
На участке обороны 13-й армии, которой командовал генерал Н. П. Пухов, оказалась станция Поныри. Ее странное название сохранилось в памяти с довоенных времен. Но я раньше только проезжал эту станцию Курской железной дороги, а теперь оказался на самой станции, близ которой располагался наблюдательный пункт фронта, получившего наименование Центрального. Группа офицеров редакции фронтовой газеты «Красная Армия» находилась здесь, отсюда мы выезжали в дивизии и полки.
Помню Курскую битву во всех ее подробностях, но остановлюсь лишь на одном эпизоде.
В разгар сражения фашистские танковые армады прорвали фронт и приблизились к важнейшей коммуникации – Курской железной дороге – как раз в районе станции Поныри. Бой шел уже на станции. За два года войны я повидал многое, но напряженность того боя превосходила все виденное.
Но газета не ждала от меня масштабных батальных картин – надо было в малой заметке отразить, что происходит сегодня.
Со всех сторон была окружена железнодорожная школа, в которой оставалась горстка красноармейцев под командованием старшего лейтенанта Ивана Рябова. Она именовалась ротой, но это была уже горстка бойцов.
Пристанционный поселок несколько раз переходил из рук в руки. Кирпичное здание школы стало центральным пунктом сражения. Славная 307-я стрелковая дивизия, ее штаб, ее командир мужественный генерал М. А. Еншин были связаны со школой, со старшим лейтенантом Рябовым единственным проводом телефона. Трудно понять, как сохранилась эта нить – по ней не раз уже прошли самые новейшие танки «тигр», вся земля была переворочена разрывами мин и снарядов.
Находясь в одном из полков 307-й дивизии, я видел, как сражалась школа. Из окон, заложенных камнем и превращенных в амбразуры, вырывался огонь. По самому обычному типовому, вовсе не похожему на крепость зданию фашисты били с малого расстояния снарядами. Осколки кирпича летели, как брызги крови.
Школа держалась более двух суток. Она была как заколдованная. 9 июля переломился бой, враг был отброшен от станции.
В самый критический момент, когда уже казалось, что школу и ее редеющий гарнизон ничего не спасет, когда шестнадцать танков приближались к школе, в трубке полевого телефона едва расслышали голос старшего лейтенанта: «Держимся! Ждем залпа «катюш». Огонь на меня!»
Вместе с лавиной вражеского огня защитники школы приняли на себя безжалостный удар «катюш». Ведь нападающие были вокруг, в двух шагах. Залп «катюш» решил исход боя за школу, да и вообще за Поныри.
Оказалось, что в строю осталось только шестеро во главе со старшим лейтенантом Иваном Рябовым. Я встретился с ними…
С трудом выговаривая каждое слово, лейтенант дал мне, как теперь бы сказали, интервью. Мне не показались излишне пафосными его воспоминания о школе, которую он недавно закончил. Не об этой школе, но именно обо всем, что связано у юноши с понятием «школа».
Заметку в газете «Красная Армия» я так и назвал: «Школа Ивана Рябова». Шестнадцать танков врага сгорели на подступах к железнодорожной школе…
Это было 9 июля сорок третьего года…
Вот как запечатлен тот день в поэме «Поныри», написанной тогда же:
Шел бой на станции. Кругом
Железо, немцы, мертвецы.
Но новой школы красный дом
Решили не сдавать бойцы.
Окружены со всех сторон
Они сражались. Здесь был ад.
Но эта школа – детский сон,
Уроки, пионеротряд…
Что значило отдать ее?
Ведь это значило отдать
И детство светлое свое,
И нас оплакавшую мать.
В разбитый телефон сипя,
Кровь растирая на лице,
Огонь «катюши» на себя
Безусый вызвал офицер.
Лишь чудом он остался жив.
Что думал он в тот страшный миг,
Себя мишенью положив,
Какую мудрость он постиг?
Об этом я его спросил,
Когда он выполз из огня.
Он отвечал: «Я был без сил,
В кольце сражался я два дня,
Но я поклялся победить,
Разбить врага любой ценой.
Так жадно мне хотелось жить,
Что смерть не справилась со мной».
…Однажды ко мне в Москву приехали пионеры, учащиеся железнодорожной школы на станции Поныри (школа теперь в новом здании). Они привезли фотографию Ивана Рябова, подробно рассказали о нем. Они дружат с семьей старшего лейтенанта (он погиб в 1944 году в боях за Белоруссию и похоронен в поселке Вятка Гомельской области), свято чтут его память.
А там, где стояла школа, которую защитил Иван Рябов, поставлен монумент. Ребята подарили мне снимок: на камне строки из поэмы «Поныри»:
Здесь не было ни гор, ни скал,
Здесь не было ни рвов, ни рек.
Здесь русский человек стоял,
Советский человек.
4. Сколько осталось до Берлина?
Если меня спросите, что было самым трудным в работе корреспондента фронтовой газеты, не задумываясь, отвечу – связь.
Пользоваться многоступенчатой штабной или политотдельской связью не всегда возможно. Телеграф и радио обслуживают боевую операцию, передавать материал, скажем, начинающийся со слова «вечерело» или «не успела высохнуть роса, как вновь закипел бой» просто неприлично в этих обстоятельствах. Депеши и рапорты идут своим путем, кочуют из дивизии в корпус, из корпуса – в армию, из армии – в штаб фронта.
Значит, надо искать пути доставки материала с передовой в газету, пользоваться любой оказией. Конечно, поэту легче: стихи, наверное, пишутся не для одного дня. Однако и это представление с точки зрения моего опыта неверно.
…В нашей походной жизни на последнем этапе войны, да и на других этапах, особую роль играли верстовые столбы. С особым пристрастием и волнением замечали – до границы Родины – столько-то, а потом – столько-то до Варшавы, до границ Германии, наконец, до фашистского «логова» – до Берлина.
Во фронтовой редакции родилась идея: сообщать на первой странице газеты, сколько километров до Берлина. Однако замысел оказался неосуществимым. Наступающий фронт – огромный участок территории: одной дивизии надо пройти по прямой до Берлина столько-то километров, а другой, находящейся на фланге, – километров на двести больше. Кроме того, ясно, что путь к победе прямым не будет: война есть прежде всего маневр. Сообщать, что «часть такого-то» находится там-то, тоже опасно: разведка врага сразу определит, кто действует на направлении главного удара.
Но еще большим препятствием к осуществлению газетной, и по-газетному горячей, задумки было то, что фронт находился в непрерывном движении и шапка с цифрой могла устареть до того, как газета попадет в наступающие части.
Внесли коррективу: пусть о том, сколько километров осталось до Берлина, сообщают стихи. Товарищи решили, что стихи – материя приблизительная и необязательная, в стихах можно смело округлять цифры.
Окончательным решением был приказ редактора. Мне предписывалось начиная с пятисот километров (дело было на территории Польши еще в 1944 году) отмечать стихотворением в обязательном порядке каждые сто километров, а при особой поэтической удаче – еще и пятидесятикилометровые отрезки. Таким образом, написать придется непременно пять стихотворений, а может быть, и все десять. Для меня путь к победе был как бы распланирован и определен. Могу теперь, через десятилетия, признаться в одном своем суеверии: убить меня уже не могли – я должен пройти сто, потом еще и еще сто километров в западном направлении. И еще сто…
Условились с редактором, что я буду находиться все время в частях, осью движения которых являются шоссейная и железная дороги от Бреста до Берлина, то есть наиболее прямой путь.
Итак, пора начать осуществление редакционной затеи.
Первое стихотворение, мой поэтический старт – пятьсот километров.
Так стихи и названы.
Я не был в Германии. Я не видал никогда
Фашистское логово, злобные их города.
Но вот перекресток дорог среди польских долин.
На стрелке: пятьсот километров отсюда – Берлин.
Пятьсот километров. Расчет этот точен и прост:
Прошел я от Волги, пожалуй, две тысячи верст…
Пятьсот километров на запад – последний рывок.
К Берлину направлены стрелки шоссейных дорог.
Отметить стихами не удалось ни четыреста, ни триста километров. Нет, стихи были сочинены во время, когда наши танки – гвардейская армия генерала Катукова – устремились в прорыв.
Я находился в ядре войск, рвущихся на запад по тылам противника и перешедших уже границу рейха. Радиосвязь была и крайне ограниченна, и весьма загружена, начальник штаба генерал Гетман, как я ни просил его, как ни убеждал, все же не дал разрешения передавать стихи по радио. Оказии не было. Я понял, что непременно опоздаю на страницы газеты. Вот концовка того стихотворения:
Стих мой мчится с танками вместе.
До Берлина осталось двести.
Ночь. Огонь. Лихорадка погони.
Голос юноши в шлемофоне.
Говорит он тихо и просто:
– До Берлина сто девяносто.
Как мечтаю я, чтоб скорее
Эти стихи устарели!
Конечно, я бы пожертвовал любыми стихами, только бы хоть на километр стать ближе к Победе. Но маленькое литературное лукавство было в концовке: мой редактор будет лишен возможности упрекнуть меня за нерасторопность, за то, что стихи не доставлены вовремя.








