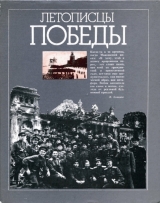
Текст книги "Летописцы Победы"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
– А почему бы, в самом деле, не посмотреть на водолазов там, на дне?.. Попробуем…
С помощью водолазов натягиваю на себя их робу, внимательно выслушиваю указания, как себя вести, как общаться с командным пунктом. Короче: за полчаса я прошел полный курс водолазного искусства. Определено время моего пребывания под водой – не более пятнадцати минут.
Не знаю, молодость ли тому виной, обстоятельства или что другое, но перед спуском никакого волнения я не испытывал. Только был в высшей степени счастлив, что добуду подробности и впечатления для материала.
Так я увидел водолазов в работе. Воистину они вершили сказочный подвиг. Вершили, не думая о себе. Чертовски хотелось сказать им, как они прекрасны, что каждое их усилие – спасение человеческой жизни, а возможно, и не одной. Но переговорное устройство было связано лишь с командным пунктом. Впрочем, водолазам было не до моих дифирамбов: они делали свое дело, как велело сердце, как подсказывала совесть.
Время моего пребывапня на дне истекло. Но тут с командного пункта сообщили, что налетели немецкие штурмовики и подъем несколько задержится. Еще целых двадцать минут я имел возможность наблюдать героическую работу подводников.
Каким получился очерк, судить не мне. Но писал его не пером, а сердцем. И не удержался, сам напросился в парткоме Кировского завода рассказать рабочим о водолазах во главе с Фотием Ивановичем Крыловым, добывших для ленинградцев не одну сотню тонн «золотого хлеба».
* * *
И снова август, но уже не сорок первого, а сорок четвертого. Из Ленинграда меня отозвали в редакцию в Москву, назначили заместителем начальника отдела фронта, которым еще некоторое время продолжал командовать Юрий Жуков.
Однажды после моего почти беспрерывного трехсуточного бдения редактор Борис Бурков приказал мне отправиться домой и отоспаться. Но в полночь послал мне с нарочным записку: в шесть утра быть на Центральном аэродроме.
Вот так! На аэродроме мне предстояло встретиться с полковником Сапожниковым, получить от него все необходимые инструкции и быть еще готовым к дальней и длительной командировке.
В пять часов за мной заехал Тихон – Николай Семенович Тихонов, редакционный шофер, которому военные корреспонденты «Комсомолки» многим обязаны. Он не раз выручал нас из беды и всегда держал машину в полной боевой готовности.
На аэродроме я застал своих коллег из «Правды», «Красной звезды», «Известий», ТАССа. Как и меня, их внезапно «подняли по тревоге», а зачем, никто не ведал. Появились полковник Сапожников и два генерала. Нам объяснили: летим в Яссы. Оттуда завтра вместе с войсками входим в Бухарест – первую столицу иностранного государства, освобожденную Красной Армией. На сбор материала дается время до четырех часов дня. В четыре на аэродроме нас будет ожидать самолет. Вечером должны вернуться в Москву н написать материал в номер. Таков приказ.
Всякое бывало за минувшие годы войны: и неожиданные командировки в пекло дьявола, и срочные очерки в номер, до выхода в свет которого оставалось пять-шесть часов, многосуточные бдения над специальными выпусками, сочинение репортажей на гнилом пеньке под грохот канонады артиллерии и разрывы бомб и еще многое иное, что в обычной газетной практике почти исключено. Но такое задание воспринималось как нечто чрезвычайное. Еще бы – первая столица европейского государства. И чтобы военных корреспондентов опекали два генерала – подобного тоже мы еще не знали.
…Все шло точно по расписанию: прибыли в Яссы в назначенный час. Нам приготовили апартаменты для ночлега, совсем не солдатский ужин и даже показали какой-то трофейный кинофильм.
А утром вместе с войсками вошли в Бухарест. Тысячи людей приветствовали наших бойцов. Музыка, цветы, улыбки.
У командиров частей свои задачи, и им не до наших забот. А нам за несколько часов надо осмотреть город, собрать интересные факты, поговорить с жителями, в общем пропасть хлопот. И, как это уже не раз бывало со мной, помог случай: в поисках средства передвижения я, не зная языка, пытался на пальцах объяснить водителю такси, что мне надо. И вдруг слышу на чистейшем русском языке: «Садитесь, дорогой товарищ… Покажу все, что захотите». Это оказался русский эмигрант. Как он уверял меня во все время нашей поездки по Бухаресту, он с самого 1919 года ждал нас и наконец дождался. Оставляя искренность этих слов на его совести, должен, однако, заметить, что лучшего гида я тогда и пожелать не мог. Мы изъездили весь город, побывали на рабочих окраинах, в местах живописных и очень любимых жителями столицы Румынии, съездили даже на дачу Антонеску, правда уже превращенную в руины.
Время, отведенное на сбор материала, истекало. Я заторопился на аэродром и прибыл в условленный час. И тут приключилось совершенно непредвиденное, нечто такое, что грозило сорвать так замечательно начавшуюся экспедицию: наш самолет вышел из строя, и добираться до Москвы было не на чем. Полагаю, что читающий эти строки вряд ли может в полной мере представить степень нашего отчаяния.
Но безвыходных ситуаций не бывает. Сопровождавшие нас генералы нашли выход, просто гениальный выход: нас погрузили вместо бомб в бомболюки американских бомбардировщиков, несколько часов назад перебазировавшихся сюда. По человеку в каждый бомболюк. Я летел в паре с фотокорреспондентом Анатолием Григорьевым. Ощущение было такое, что стоит нечаянно задеть локтем какой-нибудь рычажок, как полетишь вместо бомбы на неизвестный объект. Но от одной мысли, что все-таки лечу, уже становилось теплее на сердце. И уже в пути начал складываться будущий репортаж.
Не знаю, сколько часов мы пробыли в полете, но, когда сели, было темно. Сели мы не на тот аэродром, где меня должны были встретить. Пристроился в машину, кажется, известинца. И вдруг (боже, сколько уже раз было это «вдруг») нас обгоняет «виллис», и кто-то машет мне рукой, останавливает нашу машину. Из «виллиса» выскакивает Лева Ющенко. На объяснения нет и секунды. Мчимся на невероятной скорости. Подкатываем к подъезду «Правды», и тут оказывается Юрий Жуков. У него тоже нет времени, чтобы справиться, жив ли я. Он тащит меня… Нет, не в редакцию, а в типографию, к линотипу.
– Диктуй… В номере тебе оставлено четыре колонки.
Я, наверное, покривил бы душой, сказав, что пришел в восторг от представившейся возможности блеснуть искусством, которому столь методично и упорно учил меня Жуков с того самого момента, как я стал его заместителем. Диктовать в номер репортаж на четыре колонки, да не машинистке, а линотипистке, мне еще не случалось. Все в этой истории складывалось невероятно – и начало, и конец.
По всей видимости, я измучил линотипистку, себя довел до предела, но репортаж поспел почти вовремя. Юрий читал гранки тут же, у линотипа, и, к моему удивлению, почти не правил. Несколько строк вычеркнул, несколько слов вписал.
…Утром на летучке нечаянно-негаданно я оказался в центре внимания. И очень порадовало, что товарищи отметили всех, кто в той или иной степени был причастен к публикации: не забыли одарить добрым словом и Тихона, и линотипистку, и конечно же Леву Ющенко, так оперативно перебравшегося с одного аэродрома на другой.
* * *
Было это недалеко от Берлина. Май дышал полной грудью. И звезды горели в полный накал: от кого и для чего им теперь было маскироваться?! И мысли приходили в голову совсем мирные, уснуть от них было невозможно. На зорьке птицы пели, тоже ведь учуяли, что война кончена, невесть откуда прилетели тревожить солдатские души.
В общем расцвела всеми красками весна. Такая, о которой мечталось в окопе и землянке, на госпитальной койке и на марше. Не надо было убивать, и не надо было беречь себя от смерти. И хотя раны еще ныли, и стоны товарищей еще в ушах стояли, и тоска сжимала горло, весна брала свое.
В такую ночь произошел у меня разговор с майором Михаилом Опариным. Судьба нас впервые свела в августе сорок первого под Ижорой. Много раз затем она нас разлучала и сталкивала, а теперь, когда уже дым над рейхстагом развеялся, мы опять встретились.
Тогда, в августе сорок первого, Михаил сказал:
– Нам, брат, погибать никак нельзя… Победим и такое на земном шарике сотворим, что на тысячу лет поколениям оставим на диво. Завидовать ведь будут… Точно.
В ту пору такие речи воспринимались по-особому, их запоминали на всю жизнь. В словах тех не было бахвальства, но была неудержимая страсть к жизни, вера в свою большую судьбу и, главное, не любование тем, что уже сделал, а любовь к тому, что предстоит свершить.
И вот встреча в лесу, недалеко от Берлина. Опарин постарел. Впрочем, нет, он стал старше – это совсем другое. Минувшие четыре года – десятилетиям не чета… Не о ратных подвигах в ту ночь говорил мой друг, хотя и было ему что рассказать: через тысячи смертей прошел он. Мыслями был в будущем, в котором для себя не видел передышки.
– Мне бы только от последствий контузии избавиться… Пули и осколки – черт с ними, пускай торчат в теле… От болей в голове бы избавиться – и такое еще натворю…
– Чего же?
– Да мало ли дел!..
Давно не видел я Опарина, а дошел-таки до меня слух: здравствует в Сибири, крепким колхозом верховодит.
Сколько же Опариных повстречалось на дорогах войны! И когда вспоминаешь их поименно, воскрешаешь для себя их образы, невольно охватывает какое-то чувство гордости за то, что посчастливилось с такими дружить, за то, что хоть в малейшей степени причастен к тому, что они сотворили доброго в мире.
И почему-то всегда, когда мысль обращается к этим людям, по ассоциации, суть которой не могу определить, возникают воспоминания о другой ночи, предшествовавшей гибели истинно замечательного журналиста Петра Лидова. Он погиб под Полтавой, на аэродроме, на котором базировались американские «летающие крепости», совершавшие челночные перелеты через Ла-Манш к нашим украинским степям.
Мы сидели на окраине взлетного поля, вспоминали минувшее, рисовали себе картины завтрашнего. Петр был по природе лириком и потому в каждом человеке стремился отыскать прежде всего черты поэтические. Он искренне был убежден, что после войны создаст многокнижную поэму о тех, кто в тяжелый для Родины час надел солдатскую шинель, оставив любимое дело, любимых людей. Петр сам был частицей их жизни. Вражеская бомба убила его, и планам талантливого летописца Великой Отечественной не суждено было свершиться. Но десятилетия спустя, перечитывая написанные Лидовым главы задуманной им поэмы, все отчетливее представляешь себе душевное богатство и мужество тех, с кем сегодня не можешь разделить радость завоеванной в борьбе победы над злом. Победы личной и общенародной. Победы, озаряющей дорогу всех лет жизни, определенных каждому судьбой. Победы, счастье которой оставляешь в наследство детям и внукам. Победы, в которой есть частица твоих физических и духовных усилий, капля твоей крови.
Лев ЮЩЕНКО. ПАМЯТЬ
Было лето сорок второго, шел второй год войны, и за плечами у меня, военного корреспондента «Комсомольской правды», был уже и пограничный горящий Выборг, и блокадная зима Ленинграда, и освобожденный Тихвин, и весенние бои под Старой Руссой.
В июле я временно работал в Москве, в редакции, в отделе фронта. В те дни основные события войны развивались в Крыму и на Украине. Уже пали Харьков и Севастополь, и враг усиливал натиск. В ночь на 16 июля, когда я дежурил по отделу, редакционный телетайп принял сообщение Совинформбюро: наши войска оставили Богучар и Миллерово. Стало ясно: немцы прорываются в излучину Дона и будут продвигаться к Волге, на Сталинград. Увы, на том, новом, сталинградском направлении наших военных корреспондентов не было: совсем недавно в боях под Харьковом погиб Иван Наганов.
Ночью меня вызвал Борис Бурков, главный редактор «Комсомольской правды»:
– Срочно оформляй документы и вылетай в Сталинград…
Все решалось и делалось быстро, этого требовала обстановка. Прошло чуть более суток, и в полдень 17 июля я приземлился в самолете на сталинградской земле. Конечно, тогда я не мог знать, что именно этот день – 17 июля 1942 года – будущие историки назовут первым днем Сталинградской битвы. Хотя бои шли еще в излучине Дона, это было уже сражение за Сталинград.
В штабе Сталинградского фронта мне выдали мандат, предписывавший «всем войсковым частям оказывать тов. Ющенко содействие в выполнении возложенных на него обязанностей». И с этим мандатом (он у меня сохранился) я уехал на передовую, к Дону.
В июле – августе мои очерки и корреспонденции со сталинградского направления «Комсомольская правда» печатала почти в каждом номере (иногда их подписывали псевдонимами– Л. Андреев или Л. Енисеев). Даже их заголовки говорили о тяжелых боях под Сталинградом, напряжение которых возрастало изо дня в день: «Ожесточенные бои в излучине Дона», «Упорные бои на центральном участке Дона», «Ожесточенные сражения в районе Клетской», «Враг рвется вперед».
Да, враг пробивался на восток. К концу августа 6-я немецкая армия под командованием Паулюса форсировала Дон, захватила плацдармы и стала накапливать танки и мотопехоту для прорыва к Волге и удара непосредственно на город Сталинград. И вот этот день наступил…
В тот день, 23 августа, я был в Сталинграде и в послеполуденный час шел в южную часть города, где в неприметном овражке размещался фронтовой узел связи. Было знойно, пылало солнце, дул обжигающий суховей, все раскалилось. Последний дождь выпал много недель назад. Даже старые тополя на бульварах пожелтели и высохли. Не хватало воды, и у водоразборных колонок толпились женщины и дети с ведрами и бидонами. Это были и горожане, и люди, бежавшие с Дона. Дальше, за Волгу, перебраться было трудно, удавалось это далеко не всем. Беженцев было так много, что жилья для них уже не осталось, и они устраивались, как могли: кто в пустом сарае, кто в палатке или в самодельном шалашике.
В Сталинграде скопилось до 600 тысяч мирных жителей. И пока я шел по улицам города, всюду видел шалаши и палатки беженцев. На скверах, в садиках, во дворах, на каждом клочке земли дымились печурки в два-три кирпича, висело сохнущее белье, играли и бегали дети. Хотя до начала трагедии оставались считанные минуты, об этом, конечно, никто не подозревал. Да и что, казалось бы, могло в этот час угрожать непосредственно городу, если бои шли еще на Дону, в шестидесяти километрах от Сталинграда. Я только что ранним утром вернулся оттуда, с передовой, и шел на телеграф передавать в Москву репортаж о последних боях.
Было около шестнадцати часов по московскому времени, когда я вошел в деревянный домишко, в экспедицию узла связи. Дежурный взял у меня телеграмму и сделал на ней пометку: «Бомбардир» (позывные Сталинградского фронта). Этот листок пожелтевшей бумаги с пометками связиста сохранился в архиве, и сейчас, через сорок лет, он снова передо мной. В нем я сообщал начальнику отдела фронта «Комсомольской правды» Юрию Жукову, что выслал новые стихи Евгения Долматовского и очерк Анатолия Калинина, а также оперативную корреспонденцию с Дона.
Но телеграмма эта в тот день уже никуда не ушла. Судя по служебной отметке, она только через неделю была доставлена в Москву самолетом. Почему? На узел связи в Сталинграде она поступила 23 августа в 16.13 по московскому времени. А к этому моменту телеграфная связь с Москвой, даже со Ставкой, была уже прервана. И до начала трагедии оставались минуты.
Едва я вышел из домика экспедиции, как завыли сирены, и тотчас донесся глухой гул бомбежки. Вдали, в южных кварталах, низко над крышами клубились темные, пыльные облака, и в них сверкали яркие вспышки. Выше, в небе, летели вражеские бомбовозы: сотни машин, поблескивавших на солнце. За всю войну еще я не видел такую армаду, а из-за горизонта все появлялись новые эскадрильи «юнкерсов» и «хейнкелей». Они приближались, и гул их моторов, свист бомб, грохот взрывов надвигался почти осязаемой, ощутимой стеной. Уже взлетали обломки деревянных домишек, загорались сарайчики, высохшие деревья, в палисадниках вспыхивала сухая трава. И люди, выбегавшие из домов, из палаток, из самодельных шалашиков – с детьми, с узлами, полуодетые, – уже метались дворами и переулками, ища спасения, и падали, скошенные осколками.
Какой-то грузовик, мчавшийся по улице, подхватил меня, и скоро я оказался в центре города. К этому времени первая волна бомбардировщиков схлынула, а вторая еще не подошла, и на пять – десять минут в воздухе и на земле стало тише. На главной площади, усеянной битым стеклом и обломками, дымились воронки, в домах занимались пожары. Около здания универмага (где впоследствии был пленен Паулюс) санитары подбирали убитых и раненых, которых взрывом разметало по всей мостовой.
Дом обкома партии был еще цел: там же помещался и обком ВЛКСМ. Торопясь, я вошел в кабинет Виктора Ленкина, первого секретаря обкома комсомола, и от него узнал ошеломляющую весть: немцы уже в Сталинграде. Да, сказал Левкин, они уже у Тракторного завода и там идет бой. Сегодня на рассвете они прорвали нашу оборону на Дону, у Песковатки и Вертячего, и за несколько часов совершили бросок к Волге. Их прорыв к Сталинграду был так неожидан, что о нем даже председатель городского комитета обороны Алексей Семенович Чуянов узнал уже после того, как немцы появились на северной окраине города. Когда в этот час директор Тракторного завода позвонил Чуянову и сказал, что из окна своего кабинета видит фашистские танки, обстреливающие завод, Чуянов сначала ему не поверил и стал звонить в штаб фронта; и даже там ему не сразу подтвердили весть с Тракторного.
Пока я говорил с Левкиным, вдали снова возник гул и грохот: шла вторая волна бомбардировщиков. Она приближалась, и я бросился из кабинета на улицу. С собой у меня была «лейка», которой я снимал и в блокадном Ленинграде минувшей зимой, и здесь, на Дону, на подступах к Сталинграду, – газета иногда печатала мои снимки.
На улице я добежал до здания драматического театра и по крутой пожарной лестнице взобрался на крышу. И только там, в высоте, оглянув все вокруг, впервые понял масштабы трагедии. Хотя с начала бомбардировки прошел всего час, горели целые кварталы. Пожары сливались, огонь бушевал до горизонта, а сильный и жаркий ветер с Заволжья раздувал эту адскую топку. Сквозь пламя и дым чуть виднелись фигурки людей, метавшихся по улицам и площадям. Черный дым уже заволакивал солнце, стало быстро темнеть, и я, торопясь, сделал несколько снимков горящего Сталинграда.
А в небе вторая волна бомбовозов уже надвигалась на центральные кварталы. Поблескивая винтами, тяжелые самолеты плыли уже над головой, и было отчетливо видно, как от них отрывались и косо падали вниз бомбы и бомбочки, фугасы и зажигалки. Лихорадочно щелкая «лейкой», я старался поймать в объектив и эти округлые, темные капли, со свистом летящие вниз, в самые недра пожаров. И я видел, как там, куда они падали, снова все содрогалось и вздыбливалось, с чудовищной силой швырялось землей, кирпичами, пылающим деревом, обломками зданий и железными балками; и раскаленное, ревущее пламя, фонтаном взлетавшее к небу, с высоты с новой силой обрушивалось на горящие кварталы{1}1
Маршал А. И. Еременко впоследствии вспоминал: «Многое пришлось пережить в минувшую войну, но то, что мы увидели 23 августа в Сталинграде, потрясло нас, как тяжелый кошмар».
[Закрыть].
Фугаски падали уже и поблизости от театра. И хотя в «лейке» оставалось еще несколько кадров, я стал спускаться по той же отвесной металлической лестнице. За пять минут, пока я работал на крыше, лестница нагрелась так, что обжигала руки.
И в те же минуты, как потом я узнал, на севере города разгорался бой у Тракторного завода. Сначала фашистские танки были встречены зенитными батареями. Обстреляв зенитчиков и пройдя в километре от заводской проходной, танки прорвались к берегу Волги у поселка Рынок. По сигналу тревоги на Тракторном был поднят в ружье истребительный батальон. Через тридцать минут он выступил из заводских ворот и начал занимать оборону между Тракторным и Рынком, на склонах высохшей речки Мечетки. Туда же выдвигались и только что сошедшие с конвейера «тридцатьчетверки» с экипажами из рабочих и техников.
И туда же, к Тракторному, на помощь отрядам народного ополчения уже спешили военные и партийные работники города и подразделения местного гарнизона.
Поздно вечером, в разгар бомбежек и пожаров, городской комитет обороны послал на Тракторный и Виктора Левкина, комсомольского вожака. Когда Чуянов позвонил Левкину, я был у него в кабинете: примостившись на краешке стола, писал корреспонденцию для своей газеты. «Едешь на Тракторный?» – спросил меня Левкин, положив телефонную трубку. Он взял с собой и Тамару Тягунову, инструктора обкома комсомола, и спустя полчаса мы уже мчались по улицам в обкомовском грузовике: Левкин – в кабине, а Тягунова и я – в кузове.
Этот отчаянный, бешеный бег машины по горящему, под бомбами гибнущему городу мне не забыть никогда. Весь центр Сталинграда горел, и машина мчалась по улицам, как по огненным коридорам: с обеих сторон пылали дома, деревья, заборы, телеграфные столбы. Деревянные строения уже превратились в груды раскаленных углей. Рушились многоэтажные здания, дымно и смрадно горел асфальт.
Но страшнее всего было видеть, как у нас на глазах гибли люди. Один корчились на земле, истекая кровью или уже обуглившись до черноты. Другие задыхались от дыма в колодцах канализации, куда прятались от огня. А те, кто все же пытались спастись бегством, – с детьми, полуодетые, почти нагие, сорвавшие с себя тлеющую одежду, – те бежали все в одну сторону, к Волге, хотя и там, на берегу, все тоже горело: пристани, пароходы, склады, баржи с горючим.
Какая-то женщина перед самой нашей машиной стала перебегать дорогу, прикрывая лицо от искр, и вдруг разом, как порох, ярко вспыхнули ее пышные, красивые волосы.
Внезапно наш грузовик резко затормозил: впереди в черном дыму медленно текла через улицу огненная река: где-то поблизости взорвалось нефтехранилище. И хотя остановились мы на самой середине мостовой, жар с обеих сторон обжигал лицо, горький и едкий воздух захватывал дыхание. Ни звезд, ни ночного, темного неба над нами не было, только вихри искр и клубы багрового дыма над головой. Да и позади все полыхало, как в топке.
К счастью, водитель не растерялся. Хорошо зная город, он тотчас свернул в какой-то проулок и сквозь дым и огонь почти наугад проскочил на соседнюю улицу, где пожары только еще занимались; и мы снова помчались вдоль Волги на север.
Уже показался Мамаев курган, на нем горела трава. Начинался район знаменитых сталинградских заводов-гигантов: отсюда на фронт днем и ночью шли танки, пушки, снаряды. Но странно, чем ближе мы подъезжали к Тракторному, тем меньше вокруг было пожаров, тем легче было дышать. Да и воронки от бомб на дороге попадались не часто. Заводы казались нетронутыми бомбардировкой: их трубы дымили и слышался гул работающих цехов.
Почему же враг не бомбил заводы, выпускающие вооружение для действующей армии? Это мы поняли, когда подъехали к Тракторному, к заводской проходной. Все вокруг было усеяно бумажками, белевшими в свете пожаров, – фашистскими листовками, сброшенными с самолета. Я поднял одну из них и прочел такие стишки: «Дон взяли бомбежкой, в Сталинград войдем с гармошкой!» Далее листовка призывала рабочих и инженеров Тракторного «сохранять станки и сырье до прихода германской армии, с тем чтобы после освобождения от большевизма активно включиться в строительство нового порядка в Европе».
В здании проходной помещался и Тракторозаводский райком комсомола, и мы с Левкиным и Тягуновой сразу пошли туда. В большой полутемной комнате, освещенной свечой, толпились парни, молодые рабочие, – записывались в отряд добровольцев. Я стал заносить их имена в свою записную книжку: они должны были войти в корреспонденцию, которую я рассчитывал к утру передать в газету. Правда, пока я не знал, как это сделать: связи с Москвой не было. Даже находившийся на заводе нарком танковой промышленности В. Л. Малышев, представитель Государственного Комитета Обороны, не смог соединиться со Ставкой ни по телефону, ни по телеграфу: все наземные линии связи были уже перерезаны.
Пока шла запись добровольцев, в углу комнаты у раскрытого сейфа секретарь райкома Лидия Пластикова отбирала документы, подлежавшие немедленному уничтожению, в первую очередь чистые бланки комсомольских билетов. Их побросали в мешок и унесли в котельную. Но одну пачку билетов Пластикова все же оставила. А знамя райкома, висевшее на стене, она сорвала с древка и, сказав: «Ребята, отвернитесь, пожалуйста», спрятала у себя под одеждой. (Забегая вперед, скажу, что это знамя Л. Пластикова сохранила в боях до последнего дня Сталинградской битвы: 2 февраля 1943 года оно было водружено над развалинами разрушенного, но не покорившегося врагу завода-героя.)
Потом я вышел из райкома. Неподалеку от здания уже выстроился отряд добровольцев: плотная, молчаливая, суровая шеренга молодых, а иногда и совсем еще юных, мальчишеских лиц, освещенных светом пожаров. Пламя над центром города вздымалось добела раскаленными, ревущими языками, слышались взрывы и грохот. Горел уже почти весь Сталинград, и пожары все ближе подступали и к Тракторному, к площади у заводской проходной.
А по другую сторону площади, за корпусами завода, тянулся рубеж обороны: вспышки выстрелов и разрывов и медленно плывущие над окопами трескучие факелы осветительных ракет. Еще дальше, на волжском возвышенном берегу, в поселке Рынок, над домишками и деревьями то и дело взлетали ракеты – зеленые, белые, красные, цветные нити трассирующих пуль прошивали багровое небо. Но то был не бой, нет, там, в Рынке, враги праздновали победу. Наконец-то они, завоевав уже пол-Европы, дошли и до Волги, великой русской реки. Именно в том неприметном, безвестном, деревянно-саманном поселочке, что виднелся сейчас вдалеке в ликующем свете ракет, именно там, на песчаном речном берегу, заросшем травой и кустарником, гремящие, грязные гусеницы немецких танков впервые коснулись светлой волжской воды.
Почему же на этот малозаметный поселок было нацелено острие танкового удара 23 августа? Одним броском от Дона к Волге, к Рынку враг перерезал все железные и шоссейные дороги от Сталинграда на север, к Москве, к центру страны. В самом Рынке танки сразу стали обстреливать с берега и судоходный фарватер, который здесь проходил как раз рядом с поселком. Под огнем оказалась и Волга, последняя и единственная транспортная магистраль между югом и центром страны.
Оттуда же, от Рынка, немцы могли атаковать и Тракторный. Наблюдая с возвышенности и видя в бинокли, как из широко распахнутых ворот все время выходят танки и вооруженные отряды занимают рубеж на Мечетке, немцы не могли не понять, что взять завод невредимым им уже не удастся. К этому часу листовки с неба уже не сыпались. Зато в цехах и на площади у проходной все чаще рвались снаряды и мины. С рассветом можно было ожидать и жестокой бомбардировки, а за ней – и атаки.
И вот туда, на рубеж обороны, к Мечетке, уже уходил и отряд добровольцев, ребят с автоматами через плечо, в пиджаках, в рабочих спецовках, с подсумками, полными гранат и патронов. Юнцы несли и тяжелые противотанковые ружья, и по тому, как неумело они это делали, видно было, что они еще не привыкли к оружию и им трудно придется в бою. Для многих из них первый бой на Мечетке может стать и последним в их жизни. И я шел рядом с ними, стараясь запомнить их лица, одежду, выражение глаз, их суровую молчаливость и отблеск пожаров на их новеньких автоматных стволах, еще блестевших от заводской смазки; и я об этом хотел написать в своей газете. С досадой подумал, что в «лейке» есть еще пленка, а я, увы, в этом огненном сумраке ночи не могу заснять для газеты уходящих на фронт добровольцев. Правда, подумал я, скоро рассвет и, когда встанет солнце, я, может быть, сделаю снимки этих ребят там, на Мечетке, в окопах.
Но в те минуты я, конечно, не знал, что пленка в «лейке» останется недоснятой, а корреспонденция – недописанной…
Рано утром, едва в тучах дыма и пепла над пылающим Сталинградом пробилось мутное, багровое солнце, меня ранило осколками снаряда. Он разорвался так близко, что ощутить что-либо я не успел и упал без сознания на сухую, жесткую землю, поросшую выгоревшей травой.
А когда я пришел в себя, было уже под вечер. В окровавленной гимнастерке, с забинтованной головой я лежал вниз лицом на какой-то узенькой койке. Я был не в поле, где меня ранило, а в тесной пароходной каютке, полной едкого дыма. Ее стены горели, на мне тлела одежда, и от этой боли, нестерпимой даже в беспамятстве, я и очнулся. О том, что было дальше, рассказывает архивный документ– мое письмо в редколлегию «Комсомольской правды», посланное уже из госпиталя, из Саратова. «Очнулся, смотрю – я в каюте, на пароходе, все горит, кругом взрывы, крики, палуба в огне. Что произошло потом, помню плохо. Пошел (вернее, пополз) на палубу. Кругом столбы воды, взрывы, пароход накренился, горит. У меня было какое-то бессознательное состояние, но, очевидно, соображал. Стянул с себя все – гимнастерку, портупею, кобуру без пистолета, футляр без «лейки». В воде десятки голов, кругом прыгают те, кто может двигаться. Тяжелораненые кричат, ползут к борту, жар, все горит. До берега (до отмели) метров пятьдесят. Спасло нас, что пароход сел на мель. Помню только: спустился в воду, стало легче, неглубоко, по пояс. Дальше не помню ничего – как выбрался, оказался на отмели. Очнулся 26 августа в госпитале в Ленинске, на том берегу Волги. Теперь знаю, что меня кто-то привез на пароход «Композитор Бородин», который вывозил раненых по Волге. Было это днем 24 августа. Немцы к тому времени прорвались у Тракторного к реке, установили на берегу артиллерию и минометы. Пароход был обстрелян, затонул, сгорел. Из 600 раненых спаслось 130 человек. Многие утонули».
В этом письме много раз повторялось «не помню». После контузии память о прошлом возвращалась медленно и тяжело. Долгими осенними вечерами, в полутемной палате госпиталя, на койке, я, закрывая глаза, мучительно вспоминал, что же было после того, как я сполз с палубы горящего парохода «Композитор Бородин». И вот в памяти слабо забрезжила такая картина: широкая гладь реки, освещенная заходящим солнцем, а на ней, на воде, – неподвижные человеческие тела. Среди них и я, лежащий на невидимой отмели. Воды на ней всего на вершок, но лечь головой на песок нельзя, захлебнешься, и поэтому – вспомнил! – я, как и другие, голову положил на тело мертвого человека. Вероятно, он умер уже на отмели: лежал в воде вверх лицом, в солдатском нижнем белье, без руки, отрезанной до локтя, и течение шевелило его размотавшийся бинт с желтоватыми пятнами крови. А ветер доносил к нам крики и стоны, дым и гарь с пылающего парохода, который застрял на мелководье метрах в двухстах от нас. Мимо нас по реке несло тлеющие головешки, обломки скамеек, хлопья пены, до дыр прожженные матрацы, клочки бумаги, пустые санитарные сумки, комья смятых, грязных бинтов. Проносило и обгоревшие трупы и еще живых раненых, звавших на помощь.








