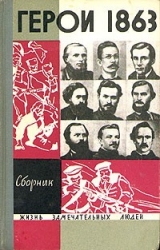
Текст книги "Герои 1863 года. За нашу и вашу свободу"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
Как свидетельствует причастный к возникновению подложного манифеста землеволец Г. П. Гофштетер, вопрос о составлении манифеста поднял Николай Семенович Скрыдлов, родственник Зыгмунта Падлев-ского. Написан манифест был Юлием Бензенгером – землевольцем, давним другом Константина Калиновского. Врученный ему текст Скрыдлов, по словам Гофштетера, передал «в полное распоряжение Пад-левского».
При всей краткости этого сообщения оно дает очень много для выяснения обстоятельств дела. Юлий Бензенгер незадолго до этого– 15 ноября 1862 года – добровольно вступил в Петербурге в армию с целью ведения пропаганды в солдатской среде. Бензенгер был направлен для службы в Нижегородский батальон внутренней стражи. На пути следования 28 ноября Бензенгер совершил побег, а уже 2 декабря сам явился на гауптвахту в Москве, после чего содержался под арестом в Нижнем Новгороде. Таким образом, со всей очевидностью определяется время и место составления подложного манифеста. Мы не ошибемся, если скажем, что и сам побег Бензенгера был вызван данным ему серьезным поручением.
По чьей же инициативе составлен этот манифест? Рассказ Гофштетера можно истолковать так, будто
инициатива исходила, хотя бы косвенно, от Годлевского. К такому именно выводу пришел на основании сообщения Гофштетера известный историк русского революционного движения М. К. Лемк.е, прямо заключивший: «Все это было делом рук польского Временного Народного правительства, даже и не вступившего ни с кем из русских революционеров в какие бы то ни было сношения по этому поводу». Заметим, что Временным Национальным правительством польский ЦНК стал именовать себя только с начала восстания, то есть с 10(22) января 1863 года. Казалось бы, это мелочь, но она показывает, что возникновение манифеста Лемке представлял себе явлением более поздним, чем это было на самом деле.
Итак, Зыгмунт Падлевский немедленно после окончания переговоров с ЦК «Земли и Воли», дух и буква которых обязывали обе стороны к взаимным консультациям и контактам, тайно, без ведома ЦК «Земли и Воли» организовал выпуск подложного манифеста к русскому народу. В то же время Бензенгер, в идейной верности которого «Земле и Воле» нет никаких оснований сомневаться, без указания и ведома руководства организации составил этот манифест при молчаливом попустительстве и одобрении нескольких других землевольцев. Правдоподобно ли это? Конечно, нет. Ни Падлевский не совершил бы такого действия за спиной русских союзников, ни Бензенгер не мог самолично взять на себя решение вопроса первостепенной политической важности.
Объяснить возникновение манифеста можно только одним путем. В чьей бы голове ни родилась эта ложная идея, она могла быть реализована только потому, что была санкционирована руководством русской революционной организации – ЦК «Земли и Воли» или его полномочным представителем. Заметим, забегая несколько вперед, что когда позднее ЦК «Земли и Воли» отнесся отрицательно к планам распространения подложного манифеста, он не занял решительно негативной позиции, на что имел и право и возможности, а в переговорах с польскими конспираторами потребовал одновременного издания и распространения
аналогичной по содержанию листовки-манифеста от имени Временного Народного правления (что, заметим кстати, и было исполнено).
Следует иметь в виду, что написанный на рубеже ноября и декабря 1862 года подложный манифест не был предназначен к немедленному изданию и распространению. Это была как бы заготовка впрок, на случай, если понадобится, и, может быть, именно этим объясняется непродуманность и легкомыслие, которыми отмечено принятие этого плана. Однако уже тогда были предприняты практические шаги для будущего издания манифеста: работавший в типографии Сената наборщик поляк Людвик Кияв-ский скрылся, захватив с собой необходимое количество шрифта.
За всем этим мы потеряли из виду Иеронима Кене-вича. Какое же участие он принимал в составлении подложного манифеста? В самом деле – какое? Он не был, как мы уже знаем, его непосредственным составителем, он вообще не находился в Москве в момент его составления, так как в Москву Кеневич приехал 4 декабря, а Бензенгер явился «из бегов» на гауптвахту еще 2 декабря. Имел ли он какое-либо касательство к возникновению идеи использования манифеста? Нет никаких свидетельств в пользу этого, с другой же стороны, если мы сопоставим дату прибытия Кеневича в Петербург – 25 ноября – с датой побега Бензенгера, совершенного, очевидно, в связи с поручением составить манифест, – 28 ноября, – сомнительность такого предположения бросается в глаза.
Иероним Кеневич не был ни инициатором, ни автором подложного манифеста, задуманного и изданного по согласованному решению русской и польской революционных организаций. На плечи Кеневича легло обеспечение издания манифеста и его распространение. На него, без достаточного к тому основания, легла и вся ответственность за этот ложный политический шаг.
22 декабря 1862 года Кеневич выехал из Москвы в Петербург. Вероятно, тут он узнал о принятом
в Варшаве решении начинать восстание в январе. 6 января 1863 года он уехал в Вильно, и здесь спустя несколько дней его застало сообщение о том, что восстание началось.
Тот план, который полтора месяца назад вырабатывался «на всякий случай» и который был доверен ему, Иерониму Кеневичу, стал актуальным. Но где добыть средства на издание манифеста, на подготовку его распространения? Комитет движения, в это время принявший название Литовского провинциального комитета, никогда не располагал значительными суммами. Тем сложнее было изыскать их в этот момент, когда неожиданное, противоречившее всем предшествующим заверениям начало восстания застало красных в Литве и Белоруссии врасплох. Нужно было создавать, вооружать, экипировать, снабжать повстанческие отряды, а на это требовались деньги и деньги, которых у комитета не было.
Кеневич решил обратиться к организовавшемуся в этот момент комитету белых и даже дал согласие на то, чтобы войти в его состав. Весь этот эпизод известен нам по мемуарам главы этого комитета Якуба Гейштора, и он-то служит важнейшим аргументом для изображения Кеневича агентом белых.
По рассказу Гейштора, сразу же после организации комитета – 27 января – Кеневич представил комитету свой план организации восстания в глубине России. Из сообщения Гейштора явствует, что ни он, ни другие члены комитета и не подозревали, что «план Кеневича» когда-либо и кем-либо рассматривался ранее, что к нему причастны польские красные и русские революционеры. После некоторых споров комитет согласился финансировать предложенный план. Литовских белых страшила социальная революция, но на берегах Немана, а не Волги. Кеневичу было дано пятнадцать тысяч рублей, что не составляло всей требуемой суммы, и он восполнил ее из собственных средств. Уже в последних днях января, как сообщает Гейштор, Кеневич покинул Вильно.
Итак, причастность Кеневича к белому комитету ограничивалась тем, что он получил от него средства,
необходимые для реализации плана, составленного красными, Неоткровенность его с членами комитета, его явное, непонятное лишь самовлюбленному автору подтрунивание над Гейштором («он очень меня ценил и имел даже преувеличенное представление о моем политическом разуме, так как всегда находил у меня большое сходство с Кромвелем», – пишет Гейштор) – как мало это согласуется с отводимой ему ролью агента, орудия белых!
Кеневич организовал печатание подложного манифеста. Существуют разные версии о месте, где был отпечатан манифест. Называется городок Фридрихс-гам в Норвегии (?), хотя город с таким названием находился в Финляндии не особенно далеко от Петербурга; называется и Вильно, что как будто более вероятно. Следует учесть, что, когда ЦК «Земли и Воли» выдвинул требование издать прокламацию от имени Временного Народного правления, она была без промедления отпечатана тем же шрифтом, а значит, типография была под рукой. Если добавить к этому, что манифест печатался дважды (как мы сказали бы сейчас – в два завода) и что по показанию одного из распространителей полученные им экземпляры оставляли впечатление свежеотпечатанных, то не исключено, что подпольная типография находилась в. Москве.
Нам много раз уже приходилось говорить о подложном манифесте. Приведем же его текст.
«Божиею Милостию Мы, Александр Вторый, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем всем Нашим верноподданным.
В постоянной заботливости Нашей о благе всех верноподданных Наших, Мы, Указом в 19 день Февраля 1861 года, признали за благо отменить крепостное право над сельским сословием Богом вверенной Нам России.
Уступая просьбам помещиков, Мы, как ни тяжело было нашему Монаршему сердцу, повелели, однако, всем временнообязанным крестьянам оставаться вте-
чение двухлетнего срока, т. е. до 19 февраля настоящего 1863 года, в полной подчиненности у их бывших владельце».
Ныне, призвав Всемогущего на помощь, настоящим Манифестом объявляем полную свободу всем верноподданным Нашим, к какому бы званию и состоянию они ни принадлежали. Отныне свобода веры и выполнение обрядов ее церкви составят достояние всякого.
Всем крестьянам, как бывшим крепостным, так и государственным, даруем в определенном размере землю, без всякой за оную уплаты как помещикам, так и Государству, в полное – неотъемлемое и потомственное – их владение.
Полагаясь на верность народа Нашего и признав за благо для облегчения края упразднить армию Нашу, Мы отныне впредь и навсегда освобождаем Наших любезных верноподданных от всякого рода наборов и повинностей рекрутских. Затем, солдатам армии Нашей повелеваем возвратиться на место их родины.
Уплата подушных окладов, имевших назначением содержание столь многочисленной армии, со дня издания сего Манифеста отменяется. Всем солдатам, возвращающимся из службы, также всем дворовым людям, фабричным и мещанам повелеваем дать без всякого возмездия надел земли из казенных дач обширной Империи Нашей.
В каждой волости, равно в городе, избирает четырех пользующихся его доверием человек, которые, собравшись в уездном городе, изберут совокупно уездного старшину и прочие уездные власти. Четыре депутата от каждого уезда, собравшись в губернский город, изберут губернского старшину и прочие губернские власти. Депутаты от каждой губернии, призванные в Москву, составят Государственный Совет, который с Нашею помощью будет управлять всею Русскою землею.
Такова Монаршая воля Наша!
Всякий, объявляющий противное и неисполняющий сей Монаршей воли Нашей, есть враг Наш. Уповаем,
что преданность народа оградит престол Наш от покушений злонамеренных людей, неоправдавших Наше Монаршее доверие.
Повелеваем всем подданным Нашим верить одному Нашему Монаршему слову. Если войска, обманываемые их начальниками, если генералы, губернаторы, посредники осмелятся силою воспротивляться сему Манифесту, да восстанет всякий для защиты даруемой Мною свободы, и, не щадя живота, выступит на брань со всеми дерзающими противиться сей воле Нашей.
Да благословит Всемогущий Господь Бог начинания Наши! «С Нами Бог, разумейте языцы и поко-ряйтеся, яко с Нами Бог!»
Дан в Москве, в тридцать первый день Марта, в лето от Рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят третее, Царствования же Нашего в девятое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
АЛЕКСАНДР.
Печатан в Санктпетербурге при Правительствующем Сенате».
Слог, стиль, шрифт, все оформление этого документа в полной мере соответствовали привычному облику царских манифестов. Нет нужды пояснять, что манифестов такого содержания Россия за всю свою тысячелетнюю историю еще не видывала.
Дата, проставленная на манифесте, была в 1863 году днем пасхи, то есть днем, который по традиции избирался для публикации манифестов, объявления амнистий и т. п.
Той же датой, 31 марта 1863 года, было помечено аналогичное по содержанию воззвание к народу от имени Временного Народного правления. Вероятно, печатание как манифеста, так и воззвания происходило в марте.
Февральский приезд Кеневича в Петербург был временем, когда определились все планы. И русские и польские революционеры не теряли надежды на то,
что стихийный взрыв крестьянского движения произойдет сразу же после 19 февраля – дня, когда заканчивался двухлетний срок временнообязанного состояния. Проявлением таких надежд было, в частности, распоряжение, данное Кеневичем двоюродному брату Людвику Климашевскому, управлявшему одним из взятых в аренду у Воейковой имений, – собрав все деньги, находящиеся в кассах обоих имений, прибыть в Москву к 19 февраля. Мы уже говорили, что денег, данных виленскими белыми, было недостаточно, и поэтому Кеневич торопился собрать все принадлежавшие лично ему средства. В том случае, если бы надежды на день 19 февраля не оправдались, был бы пущен в ход документ, датированный следующим «светлым днем» – 31 марта.
В Петербурге Кеневич мог познакомиться со сложившимся за недели, прошедшие после начала восстания, общим стратегическим планом. Развертывание массовой повстанческой войны в Литве, где до сих пор действовали лишь отдельные отряды, было намечено на конец марта – начало апреля. Руководство восстанием в Литве брал на себя Зыгмунт Се-раковский. Усиленные оружием и добровольцами, направлявшимися в Литву морским путем, литовские повстанцы должны были подготовить условия для переноса восстания на восток. Вторая половина апреля была намечена как время повсеместного восстания в Белоруссии. Задачей Людвика Звеждовского, назначенного руководителем восстания в Восточной Белоруссии, было также движение в глубь России навстречу той волне крестьянского восстания, которое должно было подняться на Волге. Так определялась задача, стоявшая перед Иеронимом Кеневичем. Необходимо было срочно установить связи с казанскими землевольцами.
Кеневича хорошо знали руководители московского подполья, но в Казани он никогда не бывал, выдавать себя за русского он не хотел и не мог, а направить в Казань надо было человека, который не произвел бы впечатление чужака. Такой человек быстро нашелся. Это был член петербургской офицерской
организации поручик Максимилиан Андреевич Черняк, наполовину поляк, наполовину украинец. Черняк также не был знаком с Казанью, но близ Казани в Спасском уезде служил двоюродный брат Черняка штабс-капитан Иваницкий, на которогЬ можно было в полной мере положиться.
Расчеты Кеневича и Черняка основывались на уже известных нам предположениях о новом подъеме крестьянского движения, в особенности в Поволжье, на ожидаемом содействии казанских землевольцев, на впечатлении, которое произведет на народ манифест, наконец, на наличии в гарнизоне Казани и других поволжских городов революционно настроенных офицеров и значительного числа солдат поляков.
В средине марта Черняк приехал в Казань. Уже предупрежденный заранее Иваницкий организовал встречу Черняка с группой студентов-землевольцев. Изложенные Черняком планы ошеломили казанских землевольцев. Они также готовились к восстанию, вели пропаганду среди крестьян, создали свою боевую дружину и учились обращению с оружием, но поднять восстание через какой-то месяц? Лучше чувствуя обстановку на месте, они не верили в успех неподготовленного движения. Но, с другой стороны, каждая вспышка в глубине России могла стать существенной помощью повстанцам в Польше, Литве, Белоруссии, а тем самым содействовать победе общего дела. Не чуждо было им и высказанное Иваницким убеждение, что достаточно выставить посреди деревни стяг с надписью «Земля и Воля», чтобы вокруг него собрались все крестьяне. Черняк обещал прислать ко времени, намеченному для начала восстания, из Москвы группу офицеров – руководителей и оружие. Согласие было достигнуто.
Решительный протест со стороны казанских землевольцев вызвало сообщение Черняка о предполагаемом использовании подложного манифеста. Они заявили, что считают такие методы неблагородными и безумными. Народу надо говорить правду. Как образец они привели листовку «Долго давили вас, братцы».
После отъезда Черняка из Казани активную подготовку к будущему выступлению развернул Наполеон Иваницкий. «Это был очень интеллигентный, симпатичный молодой человек лет тридцати, привлекавший всех нас к себе недюжинным умом и безграничной преданностью революционному делу», – писал в своих воспоминаниях землеволец Иван Красноперов. Эта характеристика бесспорно правильна, но не полна. Искренний и горячий революционер, Иваницкий, как и многие участники революционного движения того времени, был очень неопытен. Грядущая революция представлялась ему, как мы видели, делом простым и довольно легким, необходимыми правилами конспирации он пренебрегал. Не удивительно, что среди людей, которым стали известны планы восстания, оказался предатель – студент Иван Глассон.
2 апреля прибывший в Петербург Глассон сделал донос властям о подготовке восстания в Казани. В это же время начали поступать сведения об «апостольской» деятельности землевольцев в Поволжье и Приуралье. Некоторые студенты-«апостолы» были арестованы. Власти всполошились. По приказу из Петербурга в Казани были приняты чрезвычайные меры предосторожности, город был поставлен в военное положение. План неожиданного овладения губернским центром стал невозможен.
Студенты выслали на дороги, ведущие к Казани, дежурных, чтобы предупредить об опасности Черняка, который должен был приехать в Казань. Но вместо Черняка 14 апреля приехал его уполномоченный – петербургский студент Юзеф Сильванд. Он привез большое число прокламаций трех видов (это были подложный манифест, воззвание от имени Временного Народного правления и воззвание с заголовком «Земля и Воля. Свобода вероисповедания»), четырнадцать револьверов, четыреста рублей и уже утратившую значение инструкцию об овладении Казанью.
При встрече с землевольцами на квартире члена польского военно-революционного кружка Ромуальда Станкевича Сильванд выдвинул новый план – отказаться от попытки восстания в Казани, а развернуть
движение на периферии губернии. Участник совещания офицер-революционер Александр Мрочек поддержал эту мысль, предложив атаковать Ижевский оружейный завод, что сразу решило бы вопрос о вооружении восставших.
Но планы эти не получили реализации. При содействии Глассона, вернувшегося в Казань уже в качестве провокатора, власти получили улики, необходимые для ареста Иваницкого. Вслед за тем развернулись аресты среди казанских студентов. В Москве был задержан Мрочек. Следствие по делу о «казанском заговоре» было начато в Петербурге.
Иероним Кеневич с конца февраля находился в Москве. Теперь пребывание его здесь было отнюдь не спокойным. 2 марта полиция получила анонимный донос на него и Воейкову. В доносе говорилось, что на квартире Воейковой собираются поляки и что Кеневич в конце 1862 года отправлял из Москвы оружие и порох. У Воейковой был произведен обыск. Он не дал результатов: хозяйка успела выпустить гостя через черный ход. Угроза на этот раз миновала, но было ясно, что подозрительный иностранец уже привлек к себе внимание. Воейкова уехала за границу и остановилась в родном городе Кеневича Нанси, где в мае ее в последний раз навестил Кеневич.
Результаты поездки Черняка в Казань воодушевили Кеневича, намеченный Иваницким план ночного захвата города представлялся ему.реальным. Но когда из Казани вернулся Сильванд, стало очевидно, что надежд на организованное восстание питать не приходится. Оставалось лишь возбуждение крестьянских волнений посредством подложного манифеста, что, во всяком случае, встревожило бы правительство, а тем самым облегчило бы в какой-то мере борьбу повстанцам. Ведь со дня на день должно было вспыхнуть восстание в Белоруссии, куда уже уехал Звеж-довский. И Кеневич, твердый в исполнении намеченного плана, решил пустить в ход манифест.
Распространителями манифеста стали студенты поляки Александр Маевский, Фердинанд Новицкий, Евстафий Госцевич и Август Олехнович. Никто из них
ранее с Кеневичем не был знаком, связал их с ним член офицерской организации Эдмунд Хамец. Фамилии Кеневича они не знали, но назвался он своим подлинным именем. Первоначально имелось в виду направить их в Казань для участия в восстании, но после возвращения из Казани Сильванда Кеневич решил поручить им подбрасывание подложного манифеста. Студенты были снабжены паспортами на чужое имя, револьверами, деньгами и вырезанными из печатного экземпляра или нарисованными от руки маршрутными картами. Каждый из них получил несколько сот экземпляров манифеста.
22 апреля они выехали из Москвы через Ншкний Новгород в Арзамас, а оттуда Маевский и Олехнович поехали по дороге на Темников, имея целью распространить манифест в Тамбовской, Рязанской и Тульской губерниях. Уже 26 апреля они были арестованы в Спасске Тамбовской губернии. Новицкий и Госце-вич двинулись на юго-восток через Лукоянов и расстались в Городище, откуда Госцевич направился в Симбирскую, а Новицкий в Саратовскую губернию. И они оба вскоре были арестованы: Госцевич – 29 апреля в Симбирске, а Новицкий на следующий день в Самаре.
Эффект распространения в течение нескольких дней на ограниченной территории нескольких сот экземпляров манифеста, большинство которых и не попало в руки крестьян, был, разумеется, ничтожен.
23 апреля, на следующий день после отъезда студентов, Кеневич, у которого в Москве, что называется, горела земля под ногами, выехал в Вильно. Вместе с ним уехал снабженный чужим паспортом Черняк, которого уже разыскивали по сведениям из Казани. В Вильно они расстались. Черняк направился в повстанческий отряд. Под псевдонимом «Ладо» он участвовал в восстании в Литве до последних его дней и был арестован в июле 1864 года.
Кеневич выехал в Варшаву. Он присутствовал на одном из заседаний Жонда Народового и получил даже предложение войти в состав жонда в качестве представителя Литвы. Но Кеневич заявил, что преж-
де всего он должен на короткое время съездить за границу. Причиной, названной им членам жонда, была необходимость обменять или продлить паспорт. Кеневич имел еще поручение, данное ему в Вильно: передать заграничному представителю литовского повстанческого руководства Ахилло Бонольди деньги на закупку оружия для литовских отрядов.
Жонд воспользовался поездкой Кеневича для того, чтобы направить с ним инструкции недавно назначенному дипломатическим представителем повстанческого правительства князю Владиславу Чарторыско-му. Встреча эта носила сухой, официальный характер. В Париже Кеневичу были намного ближе иные эмигрантские круги. Но и здесь орудовали лазутчики III отделения. В результате 17 (29) мая из Парижа в Петербург последовало агентурное донесение, в котором говорилось об отъезде уже ранее взятого на заметку Кеневича через Берлин в Варшаву и о том, что Кеневич говорил о своей причастности к печатанию подложного манифеста. Спустя неделю он был арестован на пограничной станции.
* * *
Так мы вернулись к исходному пункту нашего рассказа. Что же мы узнали о Иерониме Кеневиче? Перед нами активный, деятельный участник революционного движения, несомненный сторонник совместных действий польских и русских революционеров, хладнокровный и решительный человек, умелый конспиратор. Но в то же время облик его не совсем ясен: он хорош и с красными и с белыми, его считают своим и готовы включить в свой состав и литовский комитет белых и изрядно «побелевший» Жонд Народо-вый, он причастен к планам, которым не хватает политической трезвости и которые используют такие недопустимые в революционной борьбе средства, как мистификация. Какой же сделать вывод из этого?
Но не будем торопиться, ведь рассказ наш еще не окончен.
К тому моменту, когда Кеневич был арестован, в распоряжении следователей, помимо агентурного
донесения, было уже еще одно доказательство его причастности к распространению подложного манифеста – сознание студентов-распространителей, что лицо, инструктировавшее их и снабдившее экземплярами манифеста, носило имя «Героним». Неопытные, запутанные перекрестным допросом, они быстро оказались вынужденными рассказать все, что им было известно. Они, правда, надеялись на то, что названные ими люди находятся за пределами досягаемости властей. Но и сказанного ими было достаточно, чтобы представить значение таинственного Иеронима. «С открытием Иеронима, составляющего как бы соединительное звено между орудиями и зачинщиками заговора, – писал в Петербург из Казани направленный туда для руководства следствием сенатор Жданов, –нетрудно было бы открыть весь план, объем и происхождение этого заговора, отыскать начало той нити, конец которой правительство уже имеет у себя в руках». Было решено сосредоточить все следствие в Казани, направив туда Кеневича и возвратив туда арестованных ранее участников «казанского загозора».
Уже первые допросы в Петербурге показали Кене-вичу, что следствию известно многое. Ему был задан вопрос о его причастности к составлению подложного манифеста, а затем и к его распространению, причем были названы фамилии распространителей. Кеневич решительно заявил, что ничего об этом не знает. Но он не мог не понимать, что вопросы эти предвещают очные ставки с некоторыми, а может быть, и со всеми распространителями манифеста, попавшими в руки властей. Следовало еще и еще раз продумать тактику поведения на следствии.
Казанские следователи не торопились с допросом Кеневича. Жданову было ясно, что задача, стоящая перед ним, не проста: «Я в нем нашел одного из тех таинственных рыцарей, которые живо напомнили мне героев в его роде 14 декабря 1825 года». Понимая, что перед ним идейный, твердый и умный человек, Жданов стремился мелкими, но столь ощутимыми для узника облегчениями тюремного режима создать у Кеневича впечатление отсутствия у следователей
предвзятости и неприязни к нему, а в то же время показать ему безнадежность запирательства. С этой целью он устроил в тюрьме «случайную» встречу Кеневича с одним из студентов—распространителей «манифеста», Олехновичем. С садистским наслаждением описывал Жданов эту сцену, потрясшую и Кеневича и менее всего подготовленного к такой встрече Олех-новича.
Чего хотели следойатели от Кеневича? Они стремились, разумеется, прежде всего к тому, чтобы он признал свое личное участие в подготовке восстания в Казани (а студенты рассказали не только о распространении «манифеста», но и о первоначальном проекте посылки их в Казань) и деле о подложном манифесте. Но гораздо важнее была перспектива получить нить, по которой можно было дойти до начала, то есть до центра революционной организации. За это, за такую нить можно было пойти и на то, чтобы облегчить участь самого Кеневича, сохранить ему жизнь. Намеками, прямыми посулами, разрешением писать письма к французскому консулу (впрочем, все эти письма никогда не пошли дальше канцелярий III отделения) ему подсказывали эту лазейку.
Кеневич мог купить спасение, сказав о том, что он знает. А знал он в отличие от юнцов-студентов многое. Он знал многих членов московской организации «Земли и Воли», включая еще находившихся на свободе ее руководителей, он знал членов ее Центрального комитета, он знал историю возникновения подложного манифеста, не говоря уже об осведомленности его в повстанческих делах Вильно, Варшавы, эмиграции, в десятках важнейших вопросов, бывших для царских властей тайной за семью печатями. Не будем оскорблять памяти Иеронима Кеневича похвалою за то, что он не избрал путь предательства.
Но был и иной путь – путь полуправды: сказать не все, что знаешь, а кое-что такое, что не может уже причинить ущерба революционному делу, назвать и выставить на первый план таких людей, которым это не может повредить. В положении Кеневича это, казалось, было бы особенно просто, поскольку, дей-
ствительно, кто были важнейшие инициаторы совместных русско-польских действий, составлявших существо «казанского дела»? Это были расстрелянный в мае в Плоцке Падлевский {пойди допроси его!), находящиеся за границей Слепцов, Утин, наконец, Герцен, Огарев, Бакунин (попробуй поймай их!). Это был трудный и извилистый путь, балансирование на краю пропасти, но некоторым подследственным удавалось пройти им, не подведя товарищей, не запятнав своей чести и все же облегчив свою участь.
Иероним Кеневич отверг эту тактику, хотя не mof не понимать, что для него лично это может оказаться гибельным. Оценить, сидя в одиночной камере, все возможные последствия даже на первый взгляд совершенно пустячной мелочи, угадать, какое толкование и применение могут дать враги любому сообщенному им факту, невозможно, и Кеневич избрал наиболее достойный путь – не сообщать царским следователям ни малейших данных. Он не отказался от ответов на вопросы следователей, но его обстоятельные, часто многословные, учтивые ответы на французском языке сводились к одному: никакого участия в конспиративной деятельности не принимал, никого не знаю, ни о чем не ведаю.
Не изменили его позиции и очные ставки со студентами, которые признали в нем таинственного «Ге-ронима» (лишь Олехнович уклонился от прямого утверждения, сказав, что он похож на человека, инструктировавшего их в Москве). Кеневич решительно отверг факт знакомства со студентами. Но когда во время мучительной очной ставки с Новицким и Олех-новичем подавленные, угнетаемые угрызениями совести студенты разрыдались, Кеневич на глазах у следователей подошел к ним и пожал им руку. Комиссия пыталась ухватиться хотя бы за это и заставить Кеневича признать, что, простив их предательство, он тем самым признал их показания, но получила ответ: «Если виновный вправе прощать своих предателей, то прощение их при сознании своей невинности есть черта, еще более достойная христианина».
Поняв, что никакой нити Кеневич им не даст, цар-
ские следователи озлобились и поставили своей целью во что бы то ни стало собрать материал, достаточный дЛя смертного приговора. Трудность заключалась в том, что показания подсудимых – «оговор» – не признавались законом полноценным доказательством вины при отсутствии признания обвиняемого и вещественных улик. Тогда комиссия пошла на подлый трюк. От рукописной карты, взятой у Маевского, которая была, по-видимому, начерчена Кеневичем, был отрезан клочок с несколькими цифрами (вероятно, подсчетом числа верст между населенными пунктами) и вложен среди бумаг, изъятых у Кеневича. На допросе Кеневич не заметил ловушки и написал на этом клочке, что не помнит, когда писал эти цифры и что они означают. Таким образом, комиссия получила «вещественную улику». Жданов с триумфом сообщал: «Мы прибегли к уловке, не довольно чистой, как все уловки, но цель была достигнута... Это уже составляет на суде довод юридический, а этого довольно...» Но затем его начали одолевать сомнения: «Иероним Кеневич нас очень озабочивает. Нравственное убеждение полное, что он двигатель предполагавшегося в Казани восстания, но первая категория говорит: давай юридические доказательства, основанные на фактах и улике. Улики против Иеронима его жертв [то есть студентов – распространителей «манифеста»] не сильны по закону; признание цифр на карте лишь знаменательно, однако же повесить нельзя». К первой категории, которую упоминает Жданов, были отнесены те «главные зачинщики и двигатели», которых комиссия предлагала предать суду на основе военно-полевых законов, обрекавших подсудимых на смерть.








