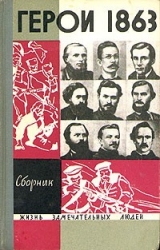
Текст книги "Герои 1863 года. За нашу и вашу свободу"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
* * $
Необычно, хотя и весьма характерно для условий польской действительности XIX века, было само начало биографии Иеронима Кеневича. Этот поляк родился и первые двадцать три года своей жизни провел во Франции, гражданином которой он стал по праву рождения. Иероним Кеневич родился б сентября 1834 года в Меце, в семье эмигранта – участника восстания 1830—1831 годов. Феликс Кеневич не был активным политическим деятелем, он стоял в стороне от бурных идеологических полемик в среде польской эмиграции. Хотя богатое имение Кеневича в Мозыр-ском уезде Минской губернии находилось под секвестром, семья не бедствовала, получая поддержку от жившей в Белоруссии и в Галиции родни. Юный Иероним окончил школу в Нанси и поступил в парижскую Ecole centrale – крупнейшее и уже в ту пору знаменитое высшее техническое учебное заведение. Здесь он встретился и сблизился со своим ровесником – также сыном повстанца-эмигранта Брониславом Шварце.
Сходен и связан был жизненный путь молодых друзей, и еще не раз имя Шварце должно появиться на страницах биографии Иеронима Кеневича. Франция была их родиной, они не чувствовали себя здесь чужаками; на четырнадцатом году жизни Шварце успел получить боевое крещение на баррикадах Парижа. Но эти французские подданные, «французы», как
называли их обоих даже соотечественники, выросли в польских семьях, были поляками, готовыми служить Польше своей борьбой и трудом. Примечательно, что, несмотря на различие семейных традиций – Кеневич, как уже сказано, происходил из помещичьей семьи, а отец Шварце был адвокатом, – оба юноши по собственному влечению или по советам близких избирают техническое образование. В те годы это было отнюдь не заурядным явлением. Юноша из богатой землевладельческой семьи, если видел вообще потребность в высшем образовании, чаще всего избирал право, это было почтенно да и небесполезно при решении сложных имущественных споров о наследовании, купле, продаже, закладе, аренде. Если образование должно было обеспечить юноше в будущем «кусок хлеба», он становился тем же юристом, чиновником, ксендзом. Но инженером? В самой Польше в это время инженеры были наперечет, и почти все они были иностранцами. Но во Франции в средине XIX века наступившая эпоха машины – могучего двигателя прогресса – рисовала перед молодежью новые пути и новые идеалы. И Кеневич и Шварце стали инженерами – строителями железных дорог.
В то время образование завершали несколько раньше, чем в наши дни. Но и сто лет назад девят-надцатилетний инженер был диковинкой. А именно девятнадцати лет от роду, в 1853 году, Иероним Кеневич окончил Центральную школу, получив диплом инженера, и окончил ее, очевидно, весьма успешно, если сразу же после этого он стал преподавателем Политехнического общества в Париже, а затем был приглашен на руководящие должности двумя, пусть даже, как он скромно определяет, второстепенными, железнодорожными компаниями во Франции.
Между тем окончилась Крымская война. Одним из первых проявлений «послесевастопольской весны», а говоря не столь поэтическим языком – вынужденного смягчения карательно-полицейской политики царизма, было объявление амнистии эмигрантам – участникам восстания 1830—1831 годов. Они могли вернуться на родину, но право это предоставлялось
С08
не автоматически, а было обусловлено унизительной процедурой подачи эмигрантами в русские посольства и консульства индивидуальных просьб. Среди польской эмиграции забурлило. Большинство эмигрантов отвергло амнистию.
Феликс Кеневич воспользовался возможностью вернуться на родину. Каковы были руководившие им мотивы – тоска ли по родным краям после четверти века пребывания на чужбине, стремление ли обеспечить материальное положение семьи, поскольку имение его при возвращении освобождалось от секвестра, – этого мы не знаем. Мы можем лишь предполагать, что целью этого уже пожилого человека не была нелегальная политическая деятельность. Вскоре после приезда на родину Феликс Кеневич перенес удар паралича.
В Россию направился и Иероним Кеневич. Но он ехал не с отцом, не в Полесье. Подавать прошение он не был обязан, он-то не был эмигрантом, не был он и русским подданным и менять подданство не собирался. В июне 1857 года он прибыл в Петербург для работы в Главном управлении российских железных дорог. Что влекло в Россию молодого инженера? Стремление быть ближе к семье, весьма высокий по тем временам заработок (2500 рублей в год), перспективы большой самостоятельной работы при строительстве дорог в необъятной стране? Вероятно, все эти факторы в той или иной мере играли роль. Цо Иероним Кеневич интересует нас не как инженер, и не этой стороной своей биографии он вошел в историю. Было бы гораздо важнее получить ответ на вопрос, имел ли приезд Иеронима Кеневича в Россию политические цели, но прямых данных на сей счет мы– не имеем. Мы не знаем, каковы были в те годы его политические убеждения, принимал ли он участие в деятельности каких-либо эмигрантских организаций. Не знаем мы этого и о Брониславе Шварце. Зато нам известно, что, когда в 1856 году Шварце, окончивший несколько позднее, чем Кеневич, Центральную школу, выехал в качестве инженера на строительство железной дороги в Австрию,
он вскоре установил связи с польскими конспиративными организациями, познакомился с некоторыми своими будущими сотоварищами по подготовке восстания 1863 года. Шварце делал попытки, на первых порах окончившиеся неудачей, перебраться в Царство Польское. С весны 1860 года он, возможно не без помощи своего друга, был принят инженером на строительство Петербургско-Варшавской железной дороги и поселился в Белостоке, сразу же развернув здесь подпольную патриотическую деятельность.
Не будем преувеличивать значения этих параллелей Напротив, скажем определенно, что если, отправляясь в Россию, Иероним Кеневич и имел в виду не ограничиваться своей официальной служебной деятельностью, а стремился вести нелегальную политическую работу для дела освобождения Польши, то степень его политической зрелости, понимания задач и путей будущей деятельности могла быть лишь очень незначительной. Он ехал в незнакомую ему страну, вступившую, как это уже было очевидно, в период бурного общественного развития, он не знал не только русских, но, по существу, и своих соотечественников – поляков.
Два года, проведенные Кеневичем в Петербурге (в мае 1859 года он переехал в Москву), – важная часть его биографии. На его глазах развертывалась острая борьба вокруг центральной проблемы эпохи – ликвидации крепостного права, здесь, в Петербурге, всего отчетливее прослушивался пульс страны В Петербурге нетрудно было раздобыть номера «Колокола», молодой поляк не мог не познакомиться со статьями Герцена «Россия и Польша», не мог не задумываться об отношениях обоих народов. С кем общался Кеневич, в какой среде формировались его взгляды на происходившие события, на обязанности патриота? Давая ответ следователям о круге своих знакомств в Петербурге, Кеневич назвал католического архиепископа, виленского епископа и еще несколько столь же «добропорядочных» лиц. Очевидна и понятна тенденциозность этих показаний. К счастью, мы не должны становиться на путь догадок,
чтобы ответить на один из важнейших вопросов, определяющих складывание мировоззрения Иеронима Кеневича. Есть другие данные, говорящие о том, что в Петербурге знакомства Кеневича не ограничивались сослуживцами и высшим клиром
В ходе развернувшегося уже после гибели Кеневича следствия по делу о польских революционных организациях в Петербурге и русско-польских революционных связях накануне и во время восстания царские власти впервые получили сколько-нибудь обстоятельные сведения о кружке Сераковско-го – Домбровского. Особенно подробные данные изложили в своих показаниях бывшие члены кружка Витольд Миладовский и Фердинанд Варавский. Оба они в числе лиц, причастных к кружку, бывавших на так называемых литературных вечерах, упомянули Иеронима Кеневича.
Показания подследственных – ненадежный источник. Особенно сомнительны они в тех случаях, когда речь шла о погибших или находящихся за пределами досягаемости для карательных властей, то есть о тех, кому не могло повредить сообщение о действительных или мнимых их «прегрешениях». Нередко стремление подследственного облегчить собственную участь или отвести внимание следствия от арестованных либо находящихся на свободе в России сотоварищей, диктовавшее ему тактику «валить на покойника», совпадало с заинтересованностью властей пусть задним числом подкрепить доказательствами то шаткое обвинение, на основании которого был вынесен смертный приговор. Именно так получилось с показаниями ближайшего помощника Кеневича по «казанскому заговору» Максимилиана Черняка, в которых он все нити дела вел к покойному Кеневичу. Мы могли бы поставить под сомнение и свидетельства Миладовского и Варавского, если бы они не подкреплялись совершенно иным и предельно выразительным источником
Летом 1862 года Бронислав Шварце, предупрежденный о грозящем ему аресте, покинул район Белостока и перебрался в Варшаву, где жил на нелегаль-
ном положении. Вскоре он был включен в состав Центрального национального комитета, где стал ближайшим сподвижником Ярослава Домбровского, а после его ареста в августе 1862 года стал основным выразителем позиции революционных демократов в руководящем повстанческом органе. И вот в своих написанных много лет спустя мемуарах Шварце, говоря о своей кооптации в Центральный национальный комитет, так объясняет причины, делавшие его кандидатуру приемлемой для Ярослава Домбровского: «Для Домбровского я был коллегой Кеневича и знакомым его петербургских генштабистов (Гей-денрейха, Звеждовского и др.), которые часто ночевали у меня, будучи проездом в Белостоке». Эта короткая фраза не только подтверждает факт знакомства Домбровского и Кеневича, которое могло завязаться только в Петербурге, но свидетельствует о том, что они были близки идейно-политически, ведь то, что Шварце – друг Кеневича, служило Домбровскому порукой при решении такого вопроса как включение Шварце полноправным членом в состав конспиративного повстанческого центра. И Домбровский не обманулся, делая такой выбор.
Источники не позволяют нам раскрыть подробнее характер контактов Кеневича как с Домбровским, так, несомненно, и с другими активными деятелями петербургской офицерской организации. О степени их идейной близости говорит не только приведенный эпизод и посещения Кеневичем собраний революционных офицеров. Есть все основания полагать, что Кеневич стал не только единомышленником Сераков-ского, Домбровского и их сотоварищей, но и доверенным активным деятелем складывающейся революционной организации. И если в Россию в 1857 году Кеневич ехал с патриотическими чувствами, но, вероятнее всего, без ясных целей и связей, то его переезд в мае 1859 года из Петербурга в Москву уже, несомненно, был продиктован конкретными и важными конспиративными задачами.
В Москве Иероним Кеневич жил безвыездно до лета 1861 года. Сюда он возвращался, живя здесь
подолгу, и в 1862 году и 1863 году. Сначала он был помощником главного инженера строительства Мо-сковско-Нижегородокой железной дороги, а с марта 1860 года перешел на более высокооплачиваемую должность главного инженера Саратовской железной дороги. В Москве он сменил несколько квартир: из гостиницы Шевалье, находившейся напротив вокзала Николаевской железной дороги, он переехал в дом Солодовникова на Дмитровке, а затем в дом Дурново на Петровке. Последняя его московская квартира находилась «у Старого Пимена», недалеко от современной Пушкинской площади Молодой инженер, сын богатого помещика, да и сам хорошо зарабатывавший иностранец не привлекал внимания властей. Образ жизни его также был вполне «благонадежный»: он завязал роман с молодой вдовой Александрой Воейковой, родственницей московского жандармского штаб-офицера, взял у нее в аренду два принадлежавших ей имения в Тульской и Калужской губерниях. Никакого повода подозревать в нем революционера, ниспровергателя общественного порядка, при котором ему самому так недурно жилось, он не давал. И позднее перед лицом следственной комиссии Кеневич настойчиво подчеркивал: «Материальный интерес моего отца (а следовательно, и мой), получившего обратно права на значительное имение, давал мне непосредственный материальный интерес в поддержании настоящего порядка вещей, доставившего мне такие большие выгоды». !Это было логично и не раз звучало убедительно, например, при контактах с «собратьями» – помещиками в Литве и Белоруссии, готовых видеть в наследнике богатого имения естественного единомышленника. Но на страницах истории русского и польского революционного движения и до и после Иеронима Кеневича можно найти много имен людей, чья жизнь и борьба были опровержением этой простой, но отнюдь не надежной в своей простоте логики. Следователей Иероним Кеневич не убедил, но для некоторых историков его «сомнительное» для революционера социальное происхождение и положение
стало исходным пунктом построений, бросавших тень не только на самого Кеневича, но и на то дело, за которое отдали жизнь он и его сотоварищи.
Служебное положение и позиция в «обществе» были для Кеневича в Москве превосходным прикрытием его конспиративной деятельности. Он стал представителем, доверенным лицом польской революционной организации. К нему шли конспиративные связи, он, как сообщал Варавский, представлял Москву в формировавшейся сети подпольных организаций.
В самой Москве Кеневич, очевидно, действовал весьма осторожно. В это время здесь в среде полулегального землячества польских студентов – «Огу-ла» складывалась тайная патриотическая организация. Как вспоминал впоследствии один из ее членов, Густав Реутт, вскоре выехавший в Италию, где он учился в военной школе, готовившей командные кадры для будущего восстания, он давал присягу в тайном обществе, для чего его возили «к одному поляку-инженеру, жившему в Москве». Имени этого инженера Реутт, судя по всему, не знал, по-видимому, больше сталкиваться с ним ему не пришлось. Кроме этого, отнюдь не бесспорного по своему содержанию сообщения, у нас нет данных о связях Кеневича с польскими студентами, как'нет их и о связях с находившимися в Москве офицерами поляками, хотя вряд ли можно предположить, чтобы установление таких связей не входило в задачи главного представителя польской революционной организации в старой русской столице.
Благодаря Брониславу Шварце мы знаем, что Кеневич завязал связи, казалось бы, с более далеко отстоявшими кругами – с русскими революционерами. В своих воспоминаниях Шварце упоминает, что из Белостока он ездил в Москву, где при посредничестве Кеневича установил контакт с московской организацией «Земли и Воли». В другом месте, характеризуя позицию Центрального национального комитета в то время, когда он входил в его состав, Шварце пишет: «Комитет свято придерживался
совместного действия с петербургским комитетом «Земли и Воли», на который решающее влияние имел Зыгмунт Сераковский и с которым единодушно действовал в Москве мой коллега по Центральной школе Иероним Кеневич».
И ссылка на Сераковского со специальным указанием на единомыслие с ним Кеневича и сведения о непосредственных контактах Кеневича с землеволь-цами дают нам основание отнести Иеронима Кеневича к числу тех польских революционеров, которые видели в русской революции естественную и ближайшую союзницу борющейся Польши. Из этой среды вышли наиболее последовательные польские революционные демократы 60-х годов.
На страницах этой книги читатель уже встречал имена активных деятелей «Земли и Воли» в Москве, среди них и имя одного из руководителей московского подполья, Николая Михайловича Шатилова, документы которого были использованы при организации побега Ярослава Домбровского. Попытка определить круг связей Иеронима Кеневича среди русских революционеров в Москве неминуемо требует выдвижения гипотез, так как ни одного прямого указания ни сам Кеневич, ни землевольцы не дали. Для одной гипотезы у нас есть, как представляется, не малые основания.
30 июля 1864 года в сараях управления Нижегородской железной дороги в Москве жандармерией были вскрыты хранившиеся уже долгое время сундуки. В них был обнаружен архив польского студенческого «Огула» Московского университета и часть библиотеки «Огула». Найденные бумаги не раскрывали каких-либо революционных тайн: по ним можно было лишь заключить, что внутри «Огула» сложилась и действовала тайная патриотическая организация, готовившая студентов к активному участию в восстании. Но о том, что большинство поляков студентов Московского университета участвовало в восстании, власти уже давно знали, им хорошо были известны часто встречавшиеся в протоколах «Огула» имена казненных Болеслава Колышки и Титуса
Далевского, многих сосланных за участие в восстании.
Значительно более заинтересовал жандармов тот факт, что сундуки, в которых хранился архив «Огу-ла», значились принадлежащими Юрию Михайловичу Мосолову.
И Мосолов и Шатилов были арестованы в 1863 году по так называемому «делу Андрущенко». В ходе следствия явственно определилось, что именно они были руководителями московской организации «Земли и Воли». Оба они были воспитанниками Саратовской гимназии, учениками Н. Г. Чернышевского. Мосолов учился в Казанском, а затем Московском университете. Шатилов, будучи моложе своего друга на три года, поступил в 1858 году сразу в Московский университет. И, наконец, еще одно примечательное обстоятельство: оба они в момент ареста были служащими управления Нижегородской железной дороги, куда Мосолов поступил в 1861 году.
Сопоставим факты. Еще в 1860 или начале 1861 года Кеневич помогает Шварце установить контакты с русскими революционерами – будущими землевольцами в Москве. Один из руководителей московских землевольцев становится хранителем бумаг польской студенчеокой организации. И он и его ближайший сподвижник по подполью – служащие управления железной дороги, одним из руководящих лиц которого до недавнего времени был Иероним Кеневич. Не слишком ли это много для случайных совпадений?
Мы полагаем, что изложенные факты дают нам основание для двух предположений. Во-первых, мы вправе считать, что одним из знакомых Кеневичу русских революционеров был Юрий Михайлович Мосолов, уже в это время активнейший деятель московского подполья, а в недалеком будущем руководитель московской организации «Земли и Воли» Вероятнее всего, именно контакты Кеневича и Мосолова были важнейшим звеном русско-польских революционных связей в Москве. Во-вторых, складывается впечатление, что свои большие связи в управ-
лении Нижегородской железной дороги Кеневич использовал для того, чтобы создать там надежную легальную базу для русских сотоварищей по революционной деятельности.
Летом 1861 года Иероним Кеневич совершил большое путешествие. Маршрут, названный Кенави-чем в его показаниях, был таков: из Мозыря «в Париж, Тур, Нанси, на берега Рейна, в Париж, Берлин, Краков, в Галицию к дяде, затем в Вену, Прагу, Дрезден, Берлин, С.-Петербург, Москву и Мозырь». Все ли этапы этого путешествия отражены в показании? Не лежал ли путь из Мозыря за границу через Варшаву? С кем встречался Кеневич, кроме своего галицийского дяди? Какие знакомства обновил, какие завязал вновь? Каковы были причины и цели этого сложного вояжа, затеянного в тот момент, когда революционный подъем в Царстве Польском и во всей России нарастал с каждым днем? Читатель согласится, что все эти вопросы немаловажны. Но все они остаются без ответа.
С осени 1861 года и до конца 1862 года Кеневич находился более всего в Белоруссии и Литве, выезжая в Петербург и Москву. Живя в Мозыре, Минске, особенно в Вильно, он общался с людьми различного социального положения и политического толка. И здесь – причиной тому как осторожность Кеневича, так и особенности источников, которыми мы располагаем, – более всего известны его контакты с людьми из «лучшего общества» – помещиками, оппозиционность которых царскому правительству выражалось в адресах, принимаемых или проектируемых на дворянских съездах. Эти белые, со страхом наблюдавшие приближение революции, считали Иеронима Кеневича своим, его кандидатура намечалась даже в состав руководящего комитета белых в Литве и Белоруссии. И в то же время невидимые для белых нити связывали Кеневича с партией движения, создавшей летом 1862 г. в Вильно свой комитет, руководивший подготовкой восстания. Еще по Петербургу знал Кеневич одного из деятельнейших членов Комитета движения капитана гене-
рального штаба Людвика Звеждовского, близкого друга Сераковокого и Домбровского. В сентябре 1862 года Звеждовский был переведен в Москву, здесь в начале 1863 года его пути вновь пересекутся с путями Иеронима Кеневича. Весьма вероятно, учитывая близость братьев Виктора и Константина Калиновских к кружку Сераковского – Домбровского в Петербурге, что Кеневич был знаком и с Константином Калиновским – душой партии красных в Литве и Белоруссии. Характерно, что в 1863 году в Москве Кеневич поддерживает контакт с Титусом Да-левским – представителем Виленских красных, в дальнейшем ставшим ближайшим помощником Калиновского.
Близился к концу 1862 год. Объявление о рекрутском наборе вплотную поставило перед Центральным национальным комитетом вопрос о восстании. На берегах Темзы, а затем на берегах Невы был обсужден и заключен союз между польскими и русскими революционерами. Мы не будем вновь пересказывать уже знакомые читателю подробности петербургских переговоров. Напомним лишь, что Центральный комитет «Земли и Воли» решительно высказал свое мнение о нецелесообразности восстания в Польше ранее весны – лета 1863 г., когда ожидался новый подъем крестьянского движения в России. Несмотря на это, один из пунктов согласованного мемориала, подытожившего петербургские переговоры, гласил: «Центральный национальный комитет признает, что Россия еще не так подготовлена, чтобы сопровождать восстанием польскую революцию, если только она вспыхнет в скором времени. Но он рассчитывает на действенную диверсию со стороны своих русских союзников, чтобы воспрепятствовать царскому правительству послать свежие войска в Польшу».
Что мог иметь в виду Центральный комитет «Земли и Воли», принимая на себя такое обязательство? Как представлял он себе и польским союзникам революционные перспективы в России?
Землевольцы исходили из совершенно правильной оценки крестьянской реформы 1861 года как рефор-
мы, не удовлетворившей надежд и чаяний крестьянства. Возмущение крестьян манифестом и «Положениями 19 февраля 1861 года» проявилось в десятках стихийных бунтов, потопленных царизмом в крови. Среди масс темного, забитого крестьянства распространилось убеждение, что реформа 1861 года лишь предварительная, что по истечении двух лет переходного состояния, определенных манифестом 19 февраля 1861 года, последует новый манифест, который и принесет народу настоящую полную волю и даст ему всю землю. Русские революционеры были убеждены в том, что новое разочарование, которое неминуемо ожидало крестьян в 1863 году, подорвет их наивную веру в царскую милость и подымет их на повсеместное восстание. Задачу свою «Земля и Воля» видела в том, чтобы, мобилизуя и организуя революционную интеллигенцию, ведя пропаганду в армии, создать условия для превращения этого восстания во всероссийскую демократическую революцию.
Дальнейший ход событий показал, что распространенное среди русских революционеров убеждение в том, что «народ собран», «народ готов» к повсеместному восстанию, было ошибочно. Царизм использовал созданную реформой передышку для консолидации сил контрреволюции, а волна народного возмущения пошла на убыль. Произошел спад революционной ситуации, но в полной мере это выявил лишь 1863 год.
Теперь же, в канун этого года, с которым земле-вольцы связывали столько надежд, они должны были решить: как быть, если восстание в Польше в силу обстоятельств вспыхнет раньше ожидаемого подъема народного движения в России? Логика революции, логика верности союзу народов в общей борьбе подсказывала: сделать все возможное, чтобы поддержать начавшего борьбу, ускорив революционный взрыв в самой России.
Надеясь на повсеместное крестьянское восстание, землевольцы оценивали по-разному степень его подготовленности в отдельных районах страны. Это зависело от многих факторов: от остроты антифео-
ЗШ
дальной борьбы в предшествующие годы, наличия больших национальных или религиозных групп населения, испытывавших дополнительный гнет самодержавия, развития самих землевольческих организаций.
Одним из районов, привлекавших особенное внимание «Земли и Воли», было Поволжье и Приуралье. Здесь старые, хранимые в народе предания о восстании Пугачева подкреплялись недавним опытом крестьянских волнений: село Бездна Казанской губернии стало символом народного протеста против обманной реформы 1861 года. Здесь рядом с народами, испытывавшими национальный гнет царизма,– татарами, башкирами, чувашами, мордвой, жили гонимые и преследуемые официальной церковью русские люди – староверы, в которых революционеры того времени видели бунтарский элемент. Здесь, наконец, было много разночинной интеллигенции, в среде которой действовала одна из наиболее сильных и активных землевольческих организаций – казанская.
Казанский университет и духовная академия уже не один раз проявили в эти бурные годы свои оппозиционные настроения. Студенты почтили память жертв расстрела в Бездне панихидой, на которой произнес яркую речь А. П. Щапов. Списки этой речи, начинавшейся словами: «Друзья, за народ убитые!», и завершенной возгласом: «Да здравствует демократическая конституция!», распространялись далеко за пределами Поволжья. В самом Поволжье и Приуралье распространялись листовки, не только изданные в Петербурге, – «Великорус», «Земская дума», «К образованным классам», но и своего изготовления. Рукописная прокламация «Пора!», появившаяся в Пермской губернии в конце 1861 года, призывала к вооруженной борьбе с самодержавием в союзе с польским и украинским народами. В это же время в Казани была сделана попытка обратиться к самому крестьянству. «Бью челом народу православному середь горя-злосчастья своего» – начиналось это воззвание, которое, напомнив народу о кровавом
32Э
уроке Бездны, утверждало: «Нечего ожидать радости от царской милости», и призывало: «Пусть узнают силу русского топора мужицкого».
Осенью 1862 года хорошо законспирированный комитет казанской землевольческой организации создал свою типографию, в которой была отпечатана листовка «Долго давили вас, братцы». Простым, доступным пониманию народа языком в ней объяснялось, что «плоха надежда на нашего царя-батюшку», и говорилось: «Надейтесь, братцы, на самих себя, да и добывайте себе волю сами». Для пропаганды среди крестьян казанские студенты-землевольцы с зимы 1862/63 года приступили к «апостольским», как они их называли, поездкам по деревням Казанской, Вятской, Пермской губерний.
Поволжье и Приуралье занимали значительное место в планах «Земли и Воли». Об этом был информирован Герцен, с большой похвалой отзывавшийся о конспиративных приемах казанского комитета. Несомненно, что об этих планах, хотя бы в основных чер-тау, был информирован и представитель Центрального национального комитета Зыгмунт Падлевский. Зафиксированное в совместном мемориале обязательство – действенно поддержать польское восстание, если оно начнется раньше, чем движение в России, практически означало принять меры к ускорению революционного взрыва на Волге. Непосредственно организацией движения в Поволжье занимались казанская и тесно связанная с ней московская организации «Земли и Воли». Помимо контакта между руководством русской и польской революционных организаций был установлен, а точнее сказать – восстановлен контакт польских конспираторов с московскими землевольцами. В Москву вновь отправился Иероним Кеневич.
Мемориал, подытоживший переговоры Падлевско-го с уполномоченными ЦК «Земли и Воли», имеет дату 23 ноября 1862 года. Уже два дня спустя Кеневич прибыл из Вильно в Петербург. Выехал из Петербурга в Москву он 3 декабря. Встречался ли в этот раз Кеневич с членами ЦК «Земли и Воли», неизвестно.
Существующие сведения о его встрече с Утиным могут относиться к его последующим приездам в Петербург – в конце декабря 1862 года и в середине февраля 1863 года. Но не подлежит сомнению, что с Пад-левским и Потебней Кеневич виделся и согласовал с ними планы своих будущих действий.
Вопрос о том, начнется ли восстание в Польше одновременно с рекрутским набором в январе 1863 года или оно будет оторочено до мая, сторонниками чего были не только русские революционеры, но и сам Падлевский, оставался открытым. Окончательное решение было принято лишь в конце декабря. Поэтому меры, которые намечались землевольцами для выполнения обещания о поддержке более раннего восстания в Польше, имели предварительный и условный характер. Такой мерой стала подготовка подложного царского манифеста.
Возникновение этого манифеста, сыгравшего немалую роль в истории «казанского заговора» и громадную роль в судьбе Иеронима Кеневича, составляет одну из очередных загадок в нашем и без того богатом «белыми пятнами» повествовании.
«Польская интрига», «польская диверсия», – восклицали по поводу подложного манифеста черносотенные журналисты; «диверсия белых», – еще и сейчас повторяют некоторые историки, считая создателем этого манифеста «агента белых» Иеронима Кеневича. Но так ли обстояло дело в действительности?
Мысль об использовании подложного манифеста имела в те годы немалое распространение. Вскоре после издания манифеста от 19 февраля 1861 года – в апреле – в Петербурге рассылался манифест с датой 20 февраля, в котором Александр II отрекался якобы от самодержавной власти. Летом 1861 года при переходе границы был задержан офицер-революционер Михаил Бейдеман, у которого были найдены клочки черновика манифеста от имени мифического царевича Константина. Бейдеман тяжело поплатился за свой наивный замысел – после двадцатилетнего одиночного заключения он умер в сумасшедшем доме. Идея поднять крестьян на восстание, используя под-
ложный царский манифест, изданный в момент, когда народ ожидает манифеста о «большой воле», привлекала и некоторых землевольцев.
Ложность, недопустимость подобных попыток эксплуатации наивного монархизма крестьян была очевидна и в то время более зрелым революционерам. Распространение подложного манифеста осудил на страницах «Колокола» Герцен. Он писал в частности: «ДОы уверены, что общество Земли и Воли... не имеет никакого участия в составлении этого манифеста». Осуждение этой ложной тактики руководящим деятелем «Земли и Воли» имело большое принципиальное значение. Как мы увидим, правильную позицию в этом вопросе заняли казанские землевольцы. Однако вопреки высказанному Герценом убеждению манифест возник в землевольческих кругах.








