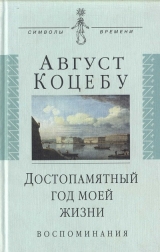
Текст книги "Достопамятный год моей жизни"
Автор книги: Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Так протекали мои дни. Впрочем, я был свободен и никто не наблюдал за мною. Мой добрый унтер-офицер, Андрей Иванович, отправился обратно в Тобольск на другой день по прибытии моем в Курган; заменить его кем-нибудь не нашли нужным, хотя Соколов в первое время своей ссылки в Кургане находился под постоянным надзором. Всякая стража была совершенно излишня. Наша охота, правда, заводила нас далеко от города; но куда могли мы бежать? Курган некогда находился на самой границе Киргизских земель, но несколько лет назад граница была отодвинута на тридцать верст, и для охраны ее построено небольшое укрепление. Если бы даже граница эта прилегала к городской черте, какая могла быть от этого польза людям, лишенным всяких средств к бегству, не говорившим по-русски, а тем менее на языке киргизов. Даже и в этом последнем случае попытка бежать была бы средством самым отчаянным, потому что жители Кургана вспоминают и теперь еще с ужасом о том времени, когда они не могли выйти за город, не подвергаясь опасности попасть в плен к киргизам, бродившим по окрестностям. Киргизы привязывали их к хвостам лошадей и заставляли не отставать от всадников, скакавших довольно скоро, и не только не обращавших внимания на их крики и стоны, но даже не оглядывавшихся. Приехав домой, они осматривали, живы ли их пленники или нет. В первом случае они делали их своими невольниками или, что было всего чаще, продавали бухарцам, которые угоняли их Бог весть куда. Мы должны благодарить небо, что можем ходить свободно на охоту, не опасаясь подобных варваров.
Развлечение, доставляемое охотою, было очень для меня полезно, несмотря на скудные наши к тому средства. Мы имели только пару жалких ружей, которые давали раза четыре или пять осечку, прежде нежели происходил выстрел. Во всем городе не было ни одной охотничьей собаки, не было даже пуделя, который бы ходил в воду и приносил дичь; окрестности были покрыты множеством болотистых озер, и наша охота по преимуществу заключалась в стрельбе бекасов и диких уток. Мы сами должны были исполнять должность собаки и входить нередко по пояс в воду, чтобы искать добычу. Мой поляк был гораздо более меня привычен к этим трудностям; он входил смело в самую глубокую воду, проводил там часы, гонял птиц по тростникам, преследовал и брал то, что мне удавалось подстрелить, и заменял самую лучшую охотничью собаку, которая, впрочем, была даже не нужна здесь, по причине значительного количества дичи. Я не видал никогда в Европе таких многочисленных стай галок, сколько видел здесь уток различных видов. Встречались утки очень маленькие, с длинным, коротким, плоским или круглым клювом, с длинными или короткими ногами, серые, темные, черные с желтыми носами, а иногда, впрочем очень редко, попадалась красивая персидская утка, розового цвета с черным клювом и хохолком на голове, которая при каждом выстреле пронзительно кричала, даже если в нее и не попадали.
Различные породы бекасов были столь же многочисленны и столь же разнообразны. Между прочими встречалась одна порода темно-желтого цвета, на высоких ногах, величиною с голубя, с воротником из перьев около горла. Она вила гнезда в тростниках, с криком поднималась и кружилась над охотником, которому не трудно было убить эту птицу, но мясо ее было невкусно. Раза два видел я птиц с длинными ногами и длинным клювом, белых как снег и величиною с гуся, которые, всегда в числе пяти, искали пищу вдоль озера, но были столь дики и осторожны, что не допускали к себе близко и отлетали, едва охотник приближался к ним на двести шагов. Я не мог узнать, что это за птицы.
Кроме уток и бекасов, попадались еще вяхири в значительном количестве и черные дрозды, летавшие огромными стаями; когда они садились на дерево, то совершенно его покрывали; мясо их было отличного вкуса; но при незначительном количестве пороха, бывшем в нашем распоряжении, мы должны были очень беречь выстрелы и не стрелять таких маленьких птиц.
Мой поляк сообщил мне, что в исходе осени дичи появляется страшное множество и что тогда в изобилии попадаются рябчики, зайцы и пр. Он подтвердил слышанное мною еще в Тобольске, будто в этих местах попадаются дикие индейские петухи, называемые по-русски драхва (drachwa). Медведи не встречаются вовсе около Кургана, а волки редки, потому что местность слишком открытая. Соболя редки, но горностаи встречаются в большем количестве. Коршуны большие и малые наполняют воздух и так мало боятся присутствия людей, что их можно бы стрелять из окон в городе.
С самых ранних лет пристрастясь к охоте, я имел очень приятное развлечение, получив разрешение охотиться. Присоедините к этому то, что окрестности были усеяны самыми красивыми цветами, между которыми красовалась особенно прекрасная spiraea filipendula, что попадались целые равнины, покрытые душистыми растениями, например Божьим деревом (artemisia abrotanum), что всюду виднелись многочисленные стада рогатого скота и лошадей, бродившие без пастухов, и что, наконец, во все время моего пребывания здесь стояла отличная погода. В то время как в Лифляндии лето стояло холодное и дождливое, в Азии оно было одно из самых теплых и сухих. Всякий день были грозы, но они скоро проходили и освежали воздух, не охлаждая его.
Другим развлечением служили мне долгие и частые прогулки по берегам Тобола. У берегов этой реки были особенные места, к которым собирались молодые девушки из города купаться и мыть белье. Это купанье представляло собою настоящие гимнастические прелестные упражнения. Купальщицы то переплывали весь Тобол без малейшего усилия, то ложились на спины и неслись по течению, то резвились, преследовали одна другую, ныряли, опрокидывали и хватали друг друга, словом проявляли такую смелость, что неопытный зритель должен был ежеминутно опасаться, что которая-нибудь из них непременно сейчас утонет. Все это делалось, однако, очень прилично. Из воды виднелись одни только головы и трудно было бы различить пол купающихся, если бы, по временам, они не обнаруживали свои груди, что их нисколько, по-видимому, не стесняло. Прежде нежели выходить из воды после купанья, они просили любопытных удалиться; если им в этом отказывали, то женщины, стоявшие на берегу, составляли тесный круг около той, которая выходила из воды, и каждая давала ей что-либо из ее одежды, так что она быстро появлялась совершенно одетою.
Я всегда встречал этих девушек веселыми, улыбающимися и в хорошем расположении духа. Капитан-исправник, большой поклонник прекрасного пола, часто приходил по вечерам ко мне в то время, когда красавицы Кургана отправлялись за водою, садился у моего окна и наблюдал за проходившими. Он называл многих из них по имени, хвастался благосклонностью некоторых из них, и полудружественный и полустыдливый вид, с которым некоторые из них кланялись ему, проходя мимо, доказывал, что он говорил правду.
Частые посещения жителей Кургана сделались мне наконец в тягость, хотя я и не мог не видеть в этом доброго их ко мне расположения.
Регистратор или что-то вроде этого, живший против меня, видя что я курю по временам трубку у окна, сам большой любитель курения, объявил мне, что будет приходить всякое утро курить и проводить со мной время. Я должен был употребить все усилия, чтобы отклонить его от этого намерения, так как ни он, ни другие обыватели Кургана не могли понять, как могу я сидеть дома постоянно один и любить уединение; они не подозревали, что, имея в руках сочинения Сенеки и образ милой супруги в сердце, не бываешь один.
Сочинениям Сенеки обязан я многим, даже всем; не думаю, чтобы в продолжение восемнадцати веков нашелся бы человек столько его благословлявший и столько уважавший его память, как я. Часто, когда отчаяние проникало в мое сердце, я протягивал руки к этому другу, доставлявшему всякий день душе моей утешение, порождаемое терпением и мужеством. Сходство судеб наших делало мне его еще милее. Он был также изгнан из родины, был также невинен и томился восемь лет на пустынных скалах Корсики. Описание его положения, сделанное им самим, чрезвычайно напоминало мне мое собственное; он жалуется на суровый климат, на дикие нравы жителей, на грубый и чуждый для него язык; все это совершенно подходило к моему положению. Но в особенности приводили меня в восторг сильные и энергические места в его сочинении, его прекрасные изречения по поводу страха смерти. Я тщательно собрал их, освоил с ними мой ум и сердце и носил их всегда с собою, как Фридрих Великий тот благотворный яд, которым предполагал воспользоваться, когда убедился бы, что все потеряно. Я не в силах лучше описать состояние души моей и доставить каждому несчастливцу, который прочтет эти страницы, более действительного утешения, как познакомив его с некоторыми из этих изречений, которые мне удалось постоянным их повторением запечатлеть не только в моей памяти, но и в моем сердце. Вот они:
Самое последнее из страданий может ли быть большим злом? Неужели трудно привыкнуть презирать смерть? Не случается ли рисковать ею всякий день, из пустяков, например из корысти? Раб, чтобы избегнуть гнева своего господина, кидается вниз с крыши; беглец, опасаясь быть пойманным, закалывает себя. Почему же мужество не могло бы вызвать тех же последствий, что страх?
Потеря жизни есть единственная вещь, о которой нельзя сожалеть впоследствии.
Ты попадаешь в руки врага, он тебя уводит… куда? Без него ты шел бы тою же дорогою, какою следовал со дня твоего рождения. Разве только с сегодняшнего дня замечаешь ты меч, висящий над твоею головою? Смотри поэтому спокойно на приближение твоего последнего часа для того, чтобы страх, внушаемый им, не отравил бы все остальные часы…
Долгая жизнь – вот цель всех людей; они мало заботятся о том, чтобы она была честною и благоразумною, между тем от воли твоей зависит украсить жизнь добродетелью, но ты не властен ее продлить.
Смерть есть порог жилища спокойствия, а ты между тем дрожишь, переступая оный.
Мы все – большие дети, которые страшатся смерти точно так же, как страшатся маленькие дети самых близких своих родственников, когда они надевают на лицо маски. Кто может быть нам ближе смерти? Сорви с нее мужественно личину, отними у нее топор, веревку, лиши ее спутников, докторов, священников и всех погребальных принадлежностей; и что же останется? ничего кроме смерти.
Стоны и рыдания да не смущают тебя; это не смерть; это только боль. Всякий человек, одержимый подагрою, всякий истощенный распутник, всякая женщина при родах испытывают боль. Чем боль сильнее, тем она короче.
Я умру, то есть я перестану страдать; я освобожусь от оков, я перестану тосковать об участи моей жены, моих детей; я перестану быть рабом даже самой смерти.
Смерть освобождает тебя от всех страданий, даже от страха, ею внушаемого…
Не умираем ли мы всякий день? Ребенок растет, но жизнь его уменьшается. Мы разделяем со смертью каждый наш день. Мы осушаем чашу не при последней капле; умереть ничто иное, как завершить смерть.
Пока живешь – учись умирать, хотя ты только один раз всего будешь в состоянии применить к делу то, чему выучишься. Научаться умереть – это разучаться быть рабом.
Дети и безумцы не страшатся смерти. Как унизительно для разума не дать нам того, что доставляет безумие.
Опять становиться тем, чем были, – вот что значит умереть. Светоч после того, как он погас, неужели несчастливее, чем он был до того, как зажгли его. Не представляем ли мы собою светочи, которые гасит и зажигает пламенное дыхание природы. Ветер часто, правда, колышет огонь, но до дуновения и после него царствует глубокая тишина.
Думать, что смерть только следует за жизнью, есть заблуждение: она ей также предшествует. Кончить или не начать существовать, – это одно и то же.
Смерть – цель нашего странствования, или просто место отдохновения, в котором мы меняем одежду; в последнем случае тем лучше для нас; мы выигрываем потому, что одежда наша стесняла нас со всех сторон. Но если смерть есть цель нашего странствования, то не стоило и предпринимать его: однако утомленные, мы засыпаем и не боимся сна.
Мы только плавали вдоль берегов жизни. Детство, отрочество, зрелый возраст проносятся быстро мимо наших взоров, как города и села мимо глаз мореходцев. Наконец мы замечаем гавань и принимаем ее, безумцы, за подводный камень.
Рабство тяжко; но кто же принуждает тебя быть рабом? Тысячи путей ведут к свободе, – пути легкие и короткие. Благодари Богов, не принуждающих никого жить насильно.
Чтобы быть счастливым, не надо жить долго, надо жить весело. Поэтому мудрец живет не сколько может, но сколько хочет. Если несчастие нарушает его спокойствие, он избавляет себя от бремени. Ему решительно безразлично ожидать смерти или идти ей навстречу, осушать чашу по каплям или одним залпом. Кто избавляется от опасности жить несчастливо, тот живет хорошо.
Телесфор, обыватель Родоса, был трус; заключенный в клетку тираном, его притеснявшим, и получая пищу как дикий зверь, он говорил: «Пока живу – надеюсь». Неужели можно приобретать жизнь всякою ценою? Вы говорите, судьба может сделать все для существа, которое живет, а я утверждаю, что она не может ничего сделать человеку, умеющему умереть.
Сколько раз открывают себе жилы, чтобы уменьшить головную боль, а вы будете колебаться открыть себе жилы, чтобы уменьшить скорби несчастной жизни?
Встречаются защитники добродетели, утверждающие, что самоубийство – преступление, точно так же как встречаются собаки, которые лают на вас, когда вы приближаетесь к дверям свободы. Творец был более сострадателен. Одна дорога ведет к жизни, но тысячи ведут к выходу из нее.
Я могу выбрать дом, в котором буду жить, и корабль, на котором поеду; неужели я не властен выбрать себе тот род смерти, который должен привести меня за пределы гроба?
Долгая жизнь не всегда бывает самое худшее. Поэтому смерть должна повиноваться нашей воле. Мы должны дать другим отчет в нашей жизни; в смерти же нашей мы обязаны отчетом только самим себе.
Не стану отрицать, что в числе этих изречений есть довольно мишурные; но кто же может упрекать меня, если в моем положении я уклонялся от тщательного рассмотрения их прежде нежели усваивал их себе. Я видел, что чрез несколько месяцев исчезнет последняя моя надежда; я представлял себе, что жена моя сделалась жертвою печали и могилы; что Обольянинов (генерал-прокурор Павла I), для нас более страшный чем смерть, препятствует ей соединиться со мною; что мои денежные средства истощатся к лету; что я буду принужден работать как простой чернорабочий при тридцати градусах для добывания себе куска хлеба и стакана кваса; я представлял себе такую жестокую будущность; что же оставалось мне кроме смерти?
Мое намерение было зрело обдумано и план составлен. Если бы моей жене удалось приехать ко мне, я придумал последний и единственный способ для моего бегства. Мое предположение основывалось на том, что можно было проехать Россию из конца в конец, не подвергаясь никакому осмотру. План мой состоял поэтому в следующем:
Я приказал бы сделать в моей большой комнате дощатую перегородку и поставил бы в одном из углов большой шкаф с платьями. После этого я бы жил с моим семейством спокойно и видимо довольный месяца два. К концу этого времени я стал бы выказывать постоянно увеличивающееся ослабление здоровья и наконец расстройство ума. Это продолжалось бы тоже месяца два. Наконец, однажды вечером, в темноте положил бы я на берегу Тобола, около проруби, из которой берут зимою воду, мою шубу и меховую шапку; сделав это, я бы пробрался тайно к себе домой и спрятался бы в шкафу, в котором была бы заранее сделана отдушина.
Жена моя объявляет всем, что я исчез. Меня повсюду ищут и находят только мою одежду. Все признают, что я кинулся в воду; найденное собственноручное письмо мое извещает о моем намерении лишить себя жизни. Жена моя в отчаянии. Она лежит по целым дням в постели, а по ночам снабжает меня пищею. Об этом происшествии доносят в Тобольск и в Петербург. Там кладут это донесение в сторону и меня позабывают. Некоторое время спустя жена моя понемногу поправляется и просит себе паспорт на проезд в Лифляндии), в чем ей не могут отказать. Она покупает большие крытые сани, в которых человек мог бы лежать во всю длину своего роста; это единственный экипаж, способный к исполнению такого предприятия. Я ложусь на дно саней, меня прикрывают подушками и разными вещами. Жена моя, помещающаяся на сиденьи, дает мне воздуху по мере надобности. Если силы не покинут меня дорогою, я могу быть уверен, что беспрепятственно доеду до дверей моего дома в Фридентале, потому что, как я сказал выше, внутри России никого не осматривают дорогою. Можно проехать от Полангена до Чукотского Носа без того, чтобы кто-либо полюбопытствовал узнать, что вы с собою везете.
Главное условие успеха заключалось в том, чтобы придать вероятие моей смерти; но это было тем легче сделать в Кургане, что обыватели были все люди простые, не подозрительные и не способные проследить всю нить столь хитро задуманного плана.
Приехав в Фриденталь, мне было бы легко прожить некоторое время вдали от всех. Кроме того, в Эстляндии я имел много друзей, на которых мог положиться так же, как на свою жену. Кнорринг и Гук доставили бы меня таким же способом в Ревель, а великодушный Унгерн-Штернберг переправил бы оттуда в свое имение, около Гапсаля, а потом водою на остров Даго; там я сел бы на рыбачью лодку и переехал бы в Швецию, на что при попутном ветре требовалось всего часов двенадцать. Повторяю, все зависело от моего здоровья, т. е. позволило ли бы оно мне выдержать трудности такого переезда, потому что для человека, имевшего счастье обладать такою женою как моя и преданными друзьями, план этот представлялся удобоисполнимым.
План бегства, задуманный мною в Лифляндии, – о чем теперь я могу смело говорить – имел те же самые основания. Я хотел распространить молву, что утонул в Двине, а сам скрылся бы в развалинах Кокенгузена. Лёвенштерн для видимости заставил бы искать мой труп в этой реке. После всех поисков, оказавшихся тщетными, Щекотихину послали бы удостоверение о моей смерти; обо мне скоро забыли бы в Петербурге, и мои друзья могли бы легко спасти меня вышеизложенным способом.
Но выполнение моего плана казалось несравненно легче в Кургане. Не трудно понять, что тело, попавшее под лед в Тоболе, не могло быть отыскано, между тем как бесплодные поиски в Двине, не покрытой льдом, могли бы возбудить подозрение. К тому же в Сибири не редкость, что несчастные оканчивают свои страдания самоубийством.
Мысль моего друга Киньякова состояла в том, чтобы я, хорошо переодевшись, присоединился бы к одному из караванов, возвращающихся из Китая. Он сам бы попытался спастись этим путем, но этот благородный человек опасался ухудшить положение своих братьев. Для меня же это предприятие было неисполнимо; необходимо было быть природным русским, или по крайней мере знать русский язык настолько хорошо, чтобы иметь возможность выдать себя за русского ямщика. Поэтому я остался при своем плане и написал немедленно жене моей, чтобы она привезла с собою все необходимые для этого вещи и в каждом письме намекал ей о своем намерении словами: «если ты ко мне приедешь, то ты будешь для меня дороже, нежели Лодоиска для своего Лувэ». В Кургане нашел я доброго человека, вызвавшегося доставлять мои письма жене моей без всякой о том просьбы с моей стороны; он доставил ей одно из них гораздо скорее, нежели шли письма обыкновенным путем. Если я не называю его имени, то причину этого угадать не трудно; сердце мое несметное число раз произносит его имя за молитвою.
Как жалею я несчастных желчных философов, приписывающих природе человека врожденную, первобытную испорченность. Мои страдания подтвердили мое мнение, что человек может доверяться человеку. Как мало встречал я людей жестоких и нечувствительных во время моих бедствий; как мало людей, похожих на сурового Щекотихина, или на сладкого Простениуса. Да, я говорю это с полным убеждением. Сделайся несчастлив, и везде найдутся друзья; в самых отдаленных местах, в самых пустынных странах ты найдешь всегда сердца и руки, готовые встретить тебя с объятиями.
К числу таких людей в особенности принадлежат честные и добрые обыватели Кургана. Они всегда приглашали меня на свои праздники, заставляли делить с ними каждое удовольствие, каждый лакомый кусок. При приезде моем они не знали, что я сочинитель, но одна статья московской газеты, в которой говорилось о лестном приеме, оказанном мне в Германии, сообщила им о моем литературном существовании и увеличила в глазах их мое значение. Добродушие и предупредительность, с которыми они старались рассеять меня и привлекать в свое общество, нередко тяготили меня, потому что с одной стороны я мало был расположен тогда к общественной жизни, а с другой – самое общество их представлялось мало привлекательным для европейца, как я, избалованного лучшим обществом.
Приведу пример. Заседатель, Иуда Никитич, праздновал день своего ангела, который в России, как известно, считается гораздо важнее дня рождения. Однажды утром он пришел ко мне и пригласил к себе к двенадцати часам. Я пришел и застал там всех именитых жителей Кургана. При моем входе меня приветствовали радостным криком пять человек, называемых здесь певчими; они, стоя спиною к гостям и прикладывая правую руку к губам, чтобы усилить звук, орали во все горло в одном из углов комнаты. Так встречали каждого входящего. На громадном столе стояло блюд двадцать, но не было ни приборов, ни стульев вокруг. Это имело вид завтрака или закуски. Преимущественно тут находились пироги, приготовляемые обыкновенно с говядиною, но на этот раз с рыбою, по случаю поста. Кроме этого, стояло множество холодной рыбы и несколько пирожных. Хозяин с большою бутылкою водки в руках ходил по комнате и торопился угощать своих гостей, которые постоянно пили за его здоровье, но к величайшему моему изумлению не обнаруживали ни малейших признаков опьянения. Вина совсем не было и вообще во всей Сибири я нигде и ни у кого не пил вина, за исключением губернатора в Тобольске; это вино было довольно сносное, русское, которое он получил, если я не ошибаюсь, из Крыма. Вместо вина Иуда Никитич угостил нас другою редкостью, именно медом, напитком, который очень ценится в Сибири, так как в этой стране нет пчел; однако все гости, кроме меня, предпочитали водку.
Я ждал каждую минуту, что отворят дверь в другую комнату и попросят садиться за стол; но нет: гости понемногу, друг за другом разошлись; надо было и мне последовать их примеру.
– Что же, это конец? – спросил я Грави, шедшего со мною.
– О нет, – отвечал он, – каждый уходит домой спать, а в пять часов снова все соберутся.
К назначенному часу я опять явился. Сцена несколько изменилась; большой стол по-прежнему стоял посреди комнаты, но вместо пирогов, рыбы и водки на нем красовались во множестве сладкие пироги, миндаль, изюм и китайские варенья, отменного вкуса; из числа их особенно выдавался род желе или компота из яблок, нарезанных ломтиками.
Теперь появилась хозяйка дома, молодая и привлекательная особа, и вместе с нею вошли жены и дочери гостей. Подали чай с французскою водкою, пунш, в котором сок клюквы заменял лимон. Поставили карточные столы и составили бостон, тянувшийся до тех пор, пока спиртные напитки позволяли игрокам отличать карты. После ужина все наконец разошлись.
Не трудно поверить, что с моей стороны требовалось необычайное усилие для участия в подобных развлечениях. Как счастлив был я, когда мог вернуться домой, вздохнуть свободно в своей комнате, или с ружьем на плече гулять вместе с благородным Соколовым.
Так протекали дни мои в Кургане. Я пользовался постоянно хорошим здоровьем, что после многих лет, проведенных в болезнях, немало способствовало без сомнения тому, что ум мой просветлел. Я надеялся. Я представлял себе в воображении мое семейство, собравшееся вокруг меня. Вместе мы не могли быть несчастливыми даже в Кургане. Это было мое убеждение, и я знал, что жена моя разделяла этот взгляд.
Кроме того, это была не единственная и последняя моя надежда. Не представил ли я мою докладную записку государю? государю, без сомнения, любившему оказывать справедливость и не красневшему исправить порыв увлечения или подозрения, вызванный в нем клеветой, государю, который, сам отец семейства, позволял правдивому голосу проникать в свое сердце, несмотря на все к тому преграды, воздвигаемые генерал-прокурором. С каким удовольствием желал я благополучного путешествия Щекотихину, сколько раз рассчитывал я дни и недели, необходимые для достижения Петербурга, дни и недели, необходимые для доставления известия о моей судьбе с устьев Невы до берегов Тобола. В конце августа, если все мои расчеты оказались бы основательными, я мог ожидать получения окончательного обо мне приговора.
Но я худо рассчитал! Слава Богу! я худо рассчитал!
КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Содержание
Введение. – Письмо русского посланника к автору.
– Путешествие из Веймара в Берлин. – Совет русского посланника в Берлине. – Последний совет старика в Заневе, городе Померании. – Прибытие к границе России. – Арестование. – Отъезд в Митаву. – Событие в доме курляндского губернатора. – Надворный советник Щекотихин. – Приказание отправиться в Петербург и приготовления к этой поездке. – Сенатский курьер Александр Шульгин. – Горестная разлука с женою и детьми. – Открытие, что цель поездки Сибирь. – Намерение бежать и приготовления к этому. – Ночное бегство. – Скитание в лесах Лифляндии. – Надежда найти убежище в Штокманнсгофе. – Приключение в этом замке. – Господин Порстениус портит все дело. – Вторичное арестование. – Щедрость госпожи Лёвенштерн и ее семейства. – Отъезд из Штокманнсгофа. – Меры предосторожности, принятые против автора. – Редкое гостеприимство г. Коха. – Утешение надворного советника и курьера. – Гостеприимство русских крестьян. – Меры предосторожности, принятые против отчаяния ссылаемых. – Полоцк. – Рапорт Щекотихина. – Смоленск. – Варварское обхождение. – Москва. – Возмутительный обман. – Неустрашимость, единственное достоинство Щекотихина. – Опасность погибнуть в Суре около Васильска. – Спутник в несчастий. – Старик 130-ти лет. – Генерал Мертенс. – Казань. – Гостеприимство, оказанное автору. – Собрание материалов для докладной записки государю. – Молодая татарка. – Последнее жестокое разочарование. – Поездка по пермским лесам. – Пермь. – Гроза. – Сибирские крестьяне. – Екатеринбург. – Открытие секретного письма. – Граница Тобольска. – Бедный сумасшедший старик. – Приезд в Тобольск. – Первое объяснение с губернатором. – Помещение в Тобольске. – Автор сдается полицейскому чиновнику. – Г. Киньяков. – Барон Соммаруга. – Удивительное поведение его жены. – Граф Салтыков. – Купец Беккер. – Психологическое явление. – Советник Петерсон. – Краткое содержание докладной записки государю. – Великодушие губернатора. – Дозволение нанять лакея. – Итальянец Русс, или Росси. – Внезапное ограничение свободы. – Нежная сострадательность тобольских купцов. – Описание различных разрядов ссыльных и обращение с ними. – Участь майора из Рязани. – Образ жизни автора в Тобольске. – Несчастное положение губернатора. – Описание Тобольска. – Рыбный рынок. – Театр. – Богатство. – Произведения земли. – Болезни. – Приказание оставить Тобольск. – Автор продает карету; обман. – Приготовления к отъезду. – Великая жрица Солнца. – История г. Грави. – Поляк Соколов. – Первая квартира. – Описание некоторых жителей города. – История поляка. – Помещение, нанятое автором; описание этого помещения. – Цена съестных припасов. – Скромный стол. – Образ жизни автора и его суеверие. – Соседние киргизы. – Охота. – Прогулки по берегам Тобола; женщины и девушки в Кургане. – Сенека. – Намерение бежать. – Описание празднества. – Заключение.








