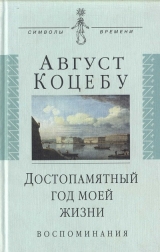
Текст книги "Достопамятный год моей жизни"
Автор книги: Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Мое письмо произвело впечатление, которого я вовсе не ожидал. На другой же день я получил от Брискорна, секретаря государя, следующее письмо:
«В начале чтения вашего письма государю императору я имел удовольствие получить приказание немедленно послать указ о назначении вас директором труппы немецких актеров с производством в чин надворного советника и с содержанием по тысяче двести рублей в год. Когда я дочитал до того места, в котором вы выражаете намерение ехать в деревню, его величеству благоугодно было приказать спросить согласие ваше на вышеупомянутое назначение. Исполняя это приказание, покорнейше прошу сообщить мне в возможной скорости, изволите ли вы принять благосклонное назначение нашего всемилостивейшего монарха, – и остаюсь с совершенным уважением.
Брискорн».
При письме находилась следующая приписка:
«В качестве директора театра вы будете находиться под непосредственным начальством гофмаршала двора Нарышкина».
Затруднительное положение, в которое я был поставлен этим письмом, равнялось моему страху. Отказавшись в Вене заниматься таким неблагодарным ремеслом, несмотря на милость и благосклонность барона Брауна, я должен был теперь снова принять на себя заведование театром. Я не раз давал клятву моей жене и самому себе не допускать более, чтобы меня увлекли на этот тернистый путь; горьким опытом я знал, что величайшие артисты нередко бывают самые безнравственные и несговорчивые люди; что одно замечание, самое незначительное, сделанное самым негласным образом кому-либо из них, делает его вашим непримиримым врагом. Большинство драматических артистов, даже самые замечательные из них, любят не искусство, а артиста, т. е. самих себя. Как они восхищаются большою мимическою картиною, состоящей из карикатур и странных образов, лишь бы только дорогая им маленькая их фигурка выказывалась бы с блеском в этой картине. Вот к какому заключению приводит меня печальный и долгий двадцатилетний опыт. Читатель извинит мне это отступление, которое я оканчиваю перифразом известных слов Шекспира: «Тщеславие – это имя всех актеров!»
С таким настроением духа и с таким пагубным сокровищем опытности, приобретенной на стольких театрах, я должен был стать во главе труппы, которую содержатель (антрепренер) по фамилии Мире (Miré) составил из остатков различных странствующих трупп, подбавив несколько актеров из Германии, правда, порядочных, но еще весьма далеких от совершенства. До этого времени труппа содержалась на счет собранной петербургскими купцами по подписке суммы, которая приходила к концу. Император, по представлению графа Палена, приказал принять содержание театра на счет казны. К моему несчастью, возвращение мое из ссылки совпало с этим предположением и император возымел мысль, довольно, впрочем, естественную, поручить мне заведование этим новым делом. Большая ко мне благосклонность с его стороны и желание сделать мне удовольствие, без сомнения, побудили его к такому назначению; тем менее я смел отклонить от себя милость, которую он предполагал оказать мне этим.
В моем ответе я старался самыми тонкими оборотами, какие только мог придумать, избавиться от этого назначения, изобразив самыми яркими чертами с одной стороны мою безграничную признательность к государю, с другой же – мое необходимое отвращение к такого рода обязанности. Все это оказалось бесполезным. Вместо ответа я получил копию с трех указов, из которых одним, на имя гофмаршала, я назначался директором придворного немецкого театра, другим, данным Сенату, я производился в надворные советники, а третьим производство назначенного мне содержания относилось на счет собственных сумм его величества. К этому содержанию, которое могло казаться незначительным, присоединили еще тысячу восемьсот рублей из театральных сумм на разъезды и, кроме того, большую и удобную квартиру с отоплением и освещением. В материальном отношении государь сделал все и даже более того, что я вправе был от него ожидать; в этом отношении моя признательность была безгранична. Я получал теперь, включая доход с пожалованного мне имения, по крайней мере, девять тысяч рублей в год, кроме полного сбора со второго представления каждой из моих новых пьес, что увеличивало мой доход еще несколькими тысячами рублями в год. Но нуждался ли я в подобного рода увеличении моего благосостояния? Спокойствие, тишина, здоровье, приобретаются ли они золотом? Не имел ли я дом, правда, менее прекрасный, но более веселый в Иене и Веймаре? Не обладал ли я и без этого доходом, правда менее значительным, но достаточным, чтобы жить? Не жил ли я постоянно во владениях государя, бесспорно менее могущественного, но совершенно свободно и вдали от всякого страха и опасности? Наконец, – и этот один довод был значительнее всех остальных, – не оставил ли я там добрую и нежную мать, которой я обязан всем моим образованием? Она ожидала моего возвращения с величайшим нетерпением и считала меня единственным утешением ее преклонных лет.
Между тем из Тайной Экспедиции мне возвратили все бумаги, отобранные у меня на границе. Все было в целости до малейшего листочка. Я должен упомянуть при этом о чрезвычайно замечательном обстоятельстве.
С самого первого дня арестования до окончания моей ссылки я был вполне убежден, что во всем написанном мною не было строчки, которая могла бы дать правительству повод подвергнуть меня такой жестокой участи. Однако в моих бумагах, действительно, оказалась одна строчка, которая, если бы дошла до сведения государя, быть может, увеличила и, наверное, продолжила бы мое бедствие. Эта строчка находилась в дневнике, который я вел в Вене. При моем приезде в этот город, прежде нежели меня узнали, мне приписывали республиканские убеждения. Через несколько времени после моего водворения, я сообщил барону Брауну мои опасения по этому поводу.
– Будьте покойны, – ответил он мне, – если вы сами уверены в самом себе. Император справедлив и никого не осудит без самого строгого и беспристрастного рассмотрения дела.
Записывая эти слова в своем дневнике, я прибавил следующее размышление: «Теперь я спокоен. Я достиг многого. Имп. П… редко находит, чтобы стоило рассматривать дело».
Это несчастное замечание, эти слова поистине оскорбительные и дерзкие, я совершенно забыл. Можно вообразить себе страх, овладевший мною, когда, пробегая свои бумаги, я вспомнил эти строки. Но можно себе также представить мою необычайную радость и признательность, когда я увидел, что какая-то великодушная и благосклонная рука вычеркнула эти строки с таким усердием и тщанием, что даже я сам с большим трудом мог разобрать их содержание. Вот доказательство, что, несмотря на ужас, вообще внушаемый Тайною Экспедициею, лица, принадлежащие к ее составу, подчиняясь строгим приказаниям им данным, всегда, где только можно, повинуются самым нежным влечениям собственного сердца. Эта похвала и должная справедливость относятся в особенности к статскому советнику Макарову (Makaroff). Он часто проливал слезы вместе с несчастными, и сердце его обливалось кровью всякий раз, когда он был обязан предавать их в руки палачей. Не знаю, кто именно обязан был просматривать мои бумаги, Макаров или Фукс, или кто другой; несмотря на все мои старания, я никогда не мог узнать этого. Я должен ограничиться выражением моей глубокой признательности перед людьми и Богом лицу, мне неизвестному. Какое счастье для меня, что я попал в такие руки! Указание этой одной строки могло бы погубить меня навсегда!
Я нашел, кроме того, в моих бумагах некоторые незначительные выражения, подчеркнутые карандашом; это были мои простые заметки, разные статистические выписки, анекдоты, черты, которые, желая сохранить в памяти, я записал вместе с моими замечаниями и рассуждениями.
Мне отдали драму «Густав Ваза», завернутую особо с надписью «не делать никакого из нее употребления». Одно выражение навлекло на эту пьесу такое решительное осуждение, именно то, в котором говорилось, что если монарх повелевает совершить преступление, то всегда находит тысячи рук, готовых поразить жертву.
Без сомнения, любопытно знать, какому счастливому обстоятельству я обязан моим освобождением. Читатель уже знает, что этим я обязан не докладной моей записке, посланной из Тобольска. Из моего рассказа видно, что курьер, доставивший мне указ о моем освобождении, встретился около Казани с везшим мою записку государю. Я сообщаю здесь все, что узнал по этому поводу из самых достоверных источников.
Меня уверяли, что жестокий генерал-прокурор в течение целого месяца оставил все мои бумаги без движения, ни разу не вспомнив о несчастном, томившемся в ссылке. Наконец сам император осведомился об их содержании и данный ему отзыв о совершенной их безвредности был первою, по всей вероятности, причиною, которая произвела перемену во взгляде императора относительно меня. Я сомневаюсь, однако, чтобы одна моя невинность была причиной моего освобождения. Известно вообще, что сильным мира сего гораздо легче оставить без изменения сделанную ими несправедливость, нежели сознаться в ней и исправить. Это общее правило, из которого, однако, император Павел I и некоторые другие государи представляют редкое исключение. Мой добрый гений создал еще другое обстоятельство, явившееся как нельзя более кстати. Года четыре тому назад я написал небольшую драму под заглавием «Старый кучер Петра III», внушенную мне увлечением одним великодушным поступком императора, и я, конечно, не воображал тогда, чтобы она могла когда-либо так сильно повлиять на мою судьбу. Эта драма была переведена на русский язык молодым человеком по фамилии Краснопольский (Krasnopolski). Желая посвятить свой перевод императору, он обращался с просьбою об этом ко многим высокопоставленным лицам, которые советовали ему не делать этого, или, по крайней мере, умолчать в переводе, что это мое произведение, так как достаточно было моего ненавистного имени, чтобы испортить все дело, тем более, что русские и немецкие актеры, давая мои пьесы, не отваживались обозначать на афишах мою фамилию.
Благородный молодой человек не решился, однако, на такое литературное похищение.
– Пьеса написана Коцебу, – говорил он, – я только переводчик; я не хочу быть вороною в павлиньих перьях; я должен оставить его фамилию в заглавии пьесы.
Встретив затруднения лично поднести государю свой перевод, он послал его по почте.
Эта посылка произвела необычайное впечатление на государя. Он прочел пьесу, она его тронула и ему понравилась. Он приказал наградить переводчика богатым перстнем и запретил в то же время напечатать эту рукопись. Спустя несколько часов он опять потребовал рукопись к себе, прочел ее снова и дозволил печатать с исключением некоторых выражений, как например (кто бы мог это подумать), «Император поклонился мне; он кланяется всем порядочным людям». В продолжение дня он пожелал просмотреть рукопись в третий раз, снова прочел ее и разрешил печатать без всяких пропусков. В то же время он объявил, что поступил со мною нехорошо, должен поправить свою ошибку и считает своею обязанностью сделать мне подарок, равный полученному кучером от его отца (т. е. в двадцать тысяч рублей). В ту же минуту отправлен был за мною курьер в Тобольск.
Вскоре была получена моя докладная записка. Император прочел ее два раза, несмотря на то, что она была очень длинна. Тронутый ее содержанием, он приказал эстляндскому губернатору выбрать для меня отличное казенное имение, вблизи Фриденталя. Такое приказание одинаково делает честь ему и сердцу. Он не довольствовался сделать мне подарок, он хотел сделать его приятным для меня образом. Нельзя отрицать, что в подобном приказании обнаружилась большая деликатность и благородство. Впрочем, в окрестностях Фриденталя не оказалось такого имения, какое государь желал мне подарить.
Вот все, что мне удалось узнать достоверного о причинах моего освобождения. Я еще менее знаю о причинах моего арестования и ссылки и сомневаюсь, чтобы рука времени могла когда-либо приподнять завесу, покрывающую эту тайну.
Несмотря на столько видимых и красноречивых доказательств расположения ко мне государя, ужас до того овладел моею душою, что я не мог видеть без сильного волнения сенатского курьера или фельдъегеря. Я не отваживался ездить в Гатчину, не взяв с собою порядочного количества денег и не будучи готовым отправиться вторично в ссылку.
9-го октября я получил в первый раз приказание немедленно прибыть в Гатчину. Я отправился на рассвете. Курьер приехал за мною ночью, и я, дрожа всем телом, пошел прощаться с женою. Судя по быстроте, с которою сообщили мне это приказание, я полагал, что дело касается чего-нибудь чрезвычайно важного. Ничуть не бывало. Государь приказал мне иметь самый строгий надзор за выбором пьес и исключать все подозрительные места. Он говорил еще накануне с приближенными о необходимости цензуры и хотел возложить ее на меня. Я хорошо понимал, что рано или поздно эта обязанность сделается для меня камнем преткновения, скалою гибели, о которую мой, только что спасшийся от бури, утлый челн может разбиться снова. Я вошел с представлением о назначении для меня особого цензора, указывая на то, что автор не может быть в то же время и цензором, что ослепленный самолюбием, он невольно может совершить что-нибудь противное воле государя. Мне стоило много труда добиться осуществления моей просьбы. Наконец мне это удалось; моя добросовестность даже понравилась государю, и он назначил моим цензором Аделунга, человека очень ученого, соединявшего с ученостью много хорошего вкуса, очень известного в Германии изданием сборника памятников древней германской литературы, найденными им после больших трудов и тщательных изысканий в Ватиканской библиотеке в Риме.
Невозможно составить себе понятия о той невероятной строгости, с которою этот достойный человек и я сам должны были цензуровать пьесы. Довольно привести несколько примеров, чтобы показать, какое сильное отвращение я должен был испытывать к возложенной на меня обязанности.
Слово республика не должно было встречаться в моей драме «Октавия». Антоний не смел говорить умираю свободным римлянином. В комедии «Эпиграмма» должно было из императора Японии сделать простого владельца этого острова. Равным образом необходимо было исключить вредную мысль, что икра получается из России и что Россия страна отдаленная. Не позволялось камергеру полагать, что он хороший патриот, потому что не соглашался вступить в брак с иностранкою. Равным образом не допускалось говорить, что камер-лакей дерзок. Надо было исключить фразу, в которой говорилось, что его величество не болен и не ослеп. Не позволялось, чтобы князь имел борзую собаку, чтобы советник чесал ей за ухом и чтобы пажи надевали на голову советника бумажный колпак. В пьесе «Два Клингсберга» русский князь, о котором мимоходом упоминает госпожа Вунчель, был обращен в иностранного вельможу и вместо польской шапки так же Вунчель должна была надеть венгерскую. Слово крепость заменялось словом тюрьма, слово царедворец – словом льстец (что конечно не очень лестно для царедворцев), выражение мой дядя министр – заменили выражением мой всемогущий дядя. Восклицание молодого Клингсберга о тетке и Амалии: пожалуй, они сделаются принцессами, показалось слишком оскорбительным и было исключено.
В пьесе «Аббат Эпэ» не позволено было, чтобы в Тулузе обитали граждане. Франваль не смел говорить горе моей родине; он должен был сказать горе моей стране, потому что особым указом воспрещалось русским иметь родину. Аббат Эпэ, который как известно приезжает из Парижа, не смел прибывать оттуда и не смел упоминать ни о лице этого города, ни даже о Франции.
Познания в естественных науках Бюффона, наука д’Аламбера, чувствительность Руссо, ум Вольтера, все это было безжалостно исключено одним прочерком пера.
В пьесе под названием «Секретарь» необходимо было совершенно исключить всю роль заговорщика.
Хотя я привел только отдельные примеры, взятые наудачу, чтобы не входить в слишком большие подробности, но они дают достаточное понятие о крайней строгости, которую цензор вопреки своему желанию должен был соблюдать при исполнении своей обязанности. Сколько раз прежде я потешался глупостью цензора в Риге (Туманского), совершенно тупого человека, который, например, в моей пьесе «Примирение» вычеркнул следующие слова сапожника: Я отправлюсь в Россию; говорят, там холоднее здешнего (он сгорал безнадежною любовью) и заменил их следующими: Я уезжаю в Россию, там только одни честные люди! Я не предполагал тогда, что в Петербурге будут когда-либо из страха делать то же самое, что Туманский по глупости делал в Риге.
Мы были бы поставлены в немалое затруднение, если бы государь, по какому-нибудь случаю обратив внимание на подобные исключения и переделки, спросил бы нас, на каком основании это сделано? Например, из «Октавии» были исключены между прочим два места. В одном из них говорилось, что властелин награждает повара за отменно вкусное блюдо домом, который ему даже не принадлежит. – Разве я когда-либо сделал что-нибудь подобное? – мог спросить император, а если не делал, то почему же сочли вы это место для меня оскорбительным?.. В другом месте Цезарь говорит, что Антоний, как всем известно, находился под влиянием собственных рабов. Император мог также спросить, разве вы полагаете, что я нахожусь под влиянием и господством разных любимцев и камер-юнгфер? А если вы этого не предполагаете, то зачем же вычеркнули эти слова?
Эти два примера – а я мог привести их тысячу, – показывают, до чего должность цензора была опасна для лица, исполнявшего эту обязанность, и до чего цензура была стеснительна для меня, подвергавшегося ей постоянно. Аделунг, при самом лучшем желании, не мог облегчить бремя этой должности ни для меня, ни для себя.
Кроме этого стеснения существовала еще тысяча неприятностей, не замедливших внушить мне отвращение к моей должности. Я не упоминаю о бесконечных ссорах и дрязгах с актерами, об их упрямых характерах и безграничном самолюбии. Все это было обыкновенное. Одно обстоятельство, гораздо сильнейшее, препятствовало развитию немецкого театра – именно зависть французских актеров, или, точнее сказать, зависть госпожи Шевалье, которая была их главою, или вернее, их душою. Нельзя сказать, чтобы она опасалась превосходства немецкого драматического искусства над французскими талантами; она очень хорошо знала и посредственность нашей труппы, и то расположение, которое русские с незапамятных времен оказывают всему французскому, а потому и не могла предаваться таким ребяческим опасениям. Но она не хотела допустить, чтобы кто-либо кроме ее доставлял развлечение государю. Она добилась того, что итальянские и русские актеры не приглашались играть в Гатчине и в Эрмитаже; даже французской трагической актрисе, госпоже Вальвилль, она дозволяла играть очень редко. Очень могло случиться, что немецкая труппа, хотя бы только своею новизною, обратит на себя внимание государя, заслужит его одобрение и он привыкнет посещать немецкий театр, через что госпожа Шевалье одним разом в неделю менее будет показываться на сцене перед государем. Вот это именно она и желала по возможности отвратить.
Четыре раза император выражал желание видеть в своем дворце немецкое представление, четыре раза я получал приказание от гофмаршала приготовиться, и четыре раза госпожа Шевалье сумела этому воспрепятствовать.
Зная довольно хорошо вкус императора и, кроме того, получив точное приказание поставить на сцену одну из моих пьес, я выбрал для первого представления «Примирение», а для второго «Холостяки», сочинение Иффланда. Пьесы, назначавшиеся к представлению в присутствии императора, должны были быть не длинны и продолжаться не свыше полутора часа и ни коим образом более семи четвертей часа. Я принял на себя неблагодарную обязанность укоротить эти пьесы и применить их к назначенному времени. Все это оказалось напрасным трудом. Госпожа Шевалье сумела доказать, что хорошенькие султанши с вздернутыми носами, о которых говорит Мармонтель, еще не вымерли.
Что мне осталось делать? Конечно, я мог лично обратиться к государю и получил бы от него приказание, которое сделало бы бесплодным всякое возражение; но настроение двора мне было очень хорошо известно, а потому я решился терпеливо переносить то, что не в силах был изменить. Госпожа Шевалье держала себя, впрочем, относительно меня прекрасно, желая этим вознаградить за те неприятности, которым подвергала немецкую труппу и ее директора. Я пользовался редкою исключительною милостью быть принятым в ее доме и присутствовать у нее на обедах. Она сделала мне честь исполнить роль Гурли в моей пьесе «Индейцы в Англии», которую некий маркиз Кастельно по своей жестокой доброте обратил в комическую оперу, не лишенную интереса, потому что известный капельмейстер Сарти написал очень хорошую к ней музыку. Госпожа Шевалье простирала свое доверие к моим талантам до того, что просила меня написать для нее комическую оперу, притом французскую, и в моем вкусе. Сила обстоятельств заставила меня серьезно заняться этою просьбою.
Все ее вежливости, которые могли лишь обеспечить мое личное положение, не делали приятным мое общественное положение и это побудило меня при первом удобном случае просить об увольнении от должности. Нужно ли изобразить сильными, но верными красками состояние моей души, чтобы оправдать такое решение? Увы! я разделял опасение и беспокойство почти всех жителей Петербурга. Злодеи, злоупотребляя доверием монарха, по природе расположенного к добру, представляли ему во всем какие-то небывалые призраки, в существование которых они сами не верили, и достигли того, что в стране водворился террор. Каждый вечер я ложился с мрачными предчувствиями; ночью внезапно просыпался и вскакивал в смертельном ужасе при малейшем шуме, при стуке всякой проезжавшей по улице кареты. Каждое утро первою заботою было избегнуть возможных бедствий в течение дня. Выходя из дому, я еще издали искал глазами государя, чтобы вовремя выйти из экипажа; я наблюдал с большим беспокойством за цветом моей одежды, ее покроем и отделкою; я был принужден оказывать внимание женщинам сомнительной репутации и мужчинам ограниченного ума; я сносил дерзости мужа госпожи Шевалье, невежественного балетмейстера; при каждом представлении моей пьесы, дрожа всем телом, я ожидал, что постоянно зоркая и бдительная полиция или Тайная Экспедиция откроют в ней что-либо подозрительное или оскорбительное. Каждый раз, когда жена моя отправлялась с детьми гулять и не возвращалась долее обыкновенного, я дрожал, опасаясь, что она слишком поздно вышла из экипажа при встрече с государем и была отправлена за это в общую тюрьму, как это сделали с женою содержателя гостиницы г. Демута. Я редко смел поверять мои горести какому-нибудь другу, потому что стены слушали и брат не мог положиться на брата. Я не имел возможности достать себе книг, чтобы чтением развлечься в такое смутное и бедственное время, – почти все книги были запрещены.
Я должен был отказаться от употребления пера, потому что возможно ли было что-либо доверить бумаге, которую во всякий час могли у меня отобрать. Я подвергал опасности свое здоровье всякий раз, когда должен был по делам своим проезжать мимо дворца, так как во всякое время года, несмотря ни на какую погоду, все обязаны были снимать шляпу, приближаясь к этой груде камней и удаляясь от нее. Самая невинная прогулка обращалась в мучение, потому что почти всегда можно было встретить несчастных, которых вели или в тюрьму, или для наказания кнутом.
Ссылаюсь на всех жителей Петербурга, если изображенная мною картина покажется слишком мрачною. О! если бы государь, искренно желавший счастья своих подданных, знал бы все это!..
Можно вообразить себе увеличение моего ужаса, когда среди этих беспрестанных тревог я получил 16 декабря утром, в восемь часов, приказание от графа Палена немедленно явиться к нему. Хотя он выбрал гонцом очень скромного и образованного молодого человека, из числа моих знакомых, и поручил ему предварить меня, что я не должен ничего пугаться, но, признаюсь, достаточно было одного его появления и первых его слов, чтобы страшно испугать как меня, так и мою жену, едва не упавшую в обморок.
Граф Пален сообщил мне, улыбаясь при моем появлении, что государь решился послать вызов или приглашение на турнир всем государям Европы и их министрам и указал на меня, как на человека, который мог написать это приглашение и напечатать его во всех газетах. Он прибавил к этому, что барон Тугут должен, по преимуществу, подвергнуться жестоким нападкам и сильному осмеянию и что генералы Кутузов и Пален должны быть секундантами императора (мысль о секундантах явилась в голове императора за полчаса до моего приезда, и он написал об этом Палену карандашом записку, которая и лежала на столе графа). Это странное приглашение надлежало составить в час времени, и мне было приказано лично представить его государю.
Я повиновался и через час с небольшим принес графу написанный мною вызов на поединок. Граф, знавший лучше меня намерения государя, нашел, что вызов не довольно язвителен. Он приказал мне сесть за его письменный стол, и я набросал другой проект вызова, который ему понравился гораздо более первого. Мы оба отправились во дворец. В первый раз в моей жизни я должен был явиться пред человеком, который своею жестокостью и своими благодеяниями, причиненными мне ужасом и радостью, внушенными мне отвращением и признательностью, сделался для меня столь великим лицом. Я никогда не желал иметь подобной чести и сомневался, чтобы она была мне когда-либо оказана, потому что мой вид мог только быть неприятен государю и служить ему как бы упреком.
Мы ожидали довольно долго в приемной. Император поехал куда-то верхом и возвратился поздно. Граф вошел к нему с моею бумагою в кабинет и после довольно долгого там пребывания вышел не в духе и сказал мне, проходя мимо, только следующие слова:
– Приходите ко мне в два часа; вызов все еще не довольно резок.
Я вернулся домой, убежденный, что этот случай не доставит мне расположения государя. Не прошло получаса, как прибежал опрометью камер-лакей от государя с приказанием, чтобы я немедленно к нему явился. Я поспешил повиноваться.
При моем входе в кабинет государя, в котором никого не было кроме его и графа Палена, он встал из-за своего письменного стола, сделал два шага ко мне и, поклонившись с особенным благоволением, сказал:
– Господин Коцебу, я должен прежде всего помириться с вами.
Я был сильно поражен этим нежданным приемом. Цари имеют в своих руках в виде скипетра волшебную палочку, делающую их всемогущими: это милосердие! Всякое злопамятство исчезло из моего сердца при этих словах императора. Согласно с этикетом, я хотел стать на колени и поцеловать его руку; но он меня любезно поднял, поцеловал в лоб и на хорошем немецком языке сказал:
– Вы слишком хорошо знакомы со светом, чтобы не иметь сведений о современных политических событиях; вы знаете, какое участие я принимал в них. Я часто поступал неловко, – продолжал он смеясь, – справедливость требует, чтобы я был за это наказан; я сам определил уже себе наказание. Я желаю, чтобы это (он показал бумагу, бывшую в его руке) было напечатано в «Гамбургской Газете» и других журналах.
После этого он дружески взял меня под руку, подвел к окну и прочитал бумагу, написанную его рукою на французском языке. Вот ее содержание слово в слово;
«Нам сообщают из Петербурга, что Российский император, видя, что европейские державы не могут прийти к взаимному между собою соглашению, и желая положить конец войне, опустошающей Европу в продолжение одиннадцати лет, возымел мысль назначить место для поединка и пригласить всех прочих государей прибыть туда и сразиться между собою, имея при себе секундантами, оруженосцами и судьями поединка своих самых просвещенных министров и самых искусных генералов, как например, гг. Тугута, Питта, Бернсторфа, сам же он намеревался взять с собою генералов Палена и Кутузова. Неизвестно, насколько вероятен этот слух; во всяком случае, он не лишен, по-видимому, основания, так как в нем проявляется то, в чем часто обвиняли государя»[3]3
Приводим это письмо в подлиннике с сохранением правописания.
«On apprend de Petersbourg, que l’empereur de Russie voyant que les puissances de l’Europe ne pouvait s’âccorder entre elle et voulant méttre fin à une guerre qui la desoloit depuis onse ans, vouloit proposer un lieu ou il inviterait touts les autres souverains de se rendre et y combattre en champ clos, ayant avec eux pour écuyer, juge de camp et héros d’armes, leurs ministres les plus éclairés et les généraux les plus habiles, tels que M-rs Thugut, Pitt, Bemstorff, lui même se proposant de prendre avec lui les generaux C. de Païen et Kutusof, on ne scait si on doit y ajouter foi, toute fois la chose ne parait pas déstituée de fondement, en portant l’empreinte de cé dont il a souvent été taxé».
[Закрыть].
При последних словах он чистосердечно засмеялся. Я также улыбнулся.
– Чему вы смеетесь? – спросил он меня два раза сряду и очень скоро, продолжая смеяться.
– Тому, что ваше императорское величество имеете такие подробные обо всем сведения.
– Возьмите это, – продолжал он, передавши мне бумагу, – и переведите на немецкий язык. Сохраните у себя подлинник, а мне принесите копию.
Я вышел и сел за работу. Последнее слово taxé меня затрудняло. Должен ли я был перевести его немецким словом, соответствующим accusé, или нет? Выражение это могло показаться государю слишком резким и оскорбительным. После долгих обсуждений я прибегнул к маленькой уловке и написал «к чему его часто считали способным» (dont on l’a souvent jugé capable).
В два часа я возвратился во дворец. Граф Кутайсов доложил государю о моем приходе, и меня немедленно ввели в кабинет, в котором он находился один.
– Сядьте, – сказал он мне ласково.
Из уважения я не решался на это, но он более строгим голосом сказал:
– Сядьте же, я вам говорю.
Я взял стул и сел против него за столом.
Он взял французский оригинал в руки и сказал:
– Прочтите мне ваш перевод.
Я начал медленно читать, посматривая по временам из-за бумаги на государя.
Он засмеялся, когда я дошел до слова en champclos. Впрочем, по временам он качал головою для выражения одобрения, пока я, наконец, дошел до слова taxé.
– Считали способным? (jugé capable), – сказал он; – нет, это не то. Вы должны были передать слово taxé.
Я осмелился заметить, что на немецком языке taxer означает определять цену какого-либо предмета или поступка.
– Это очень хорошо, – возразил государь, – но слова считать способным не передают значения слова taxer.
Тогда я отважился сказать тихим голосом, что можно употребить выражение «обвиняют».
– Очень хорошо, это так: обвиняют, – повторил он раза три или четыре, и я исправил перевод по его приказанию.
Он дружески поблагодарил меня за мой труд и отпустил домой.
Я ушел, очарованный и тронутый лестным и любезным приемом, мне оказанным. Все лица, имевшие близкие с государем сношения, засвидетельствуют, что он умел быть чрезвычайно ласковым и привлекательным и что тогда было очень трудно и почти невозможно не поддаваться ему.
Я не счел возможным умолчать о малейших подробностях этого обстоятельства, наделавшего столько шума в мире. Вызов к государям был напечатан через два дня в русской газете, к величайшему изумлению всего города. Президент Академии наук, получивший рукопись для ее напечатания, не верил собственным глазам. Он лично отправился к графу Палену, чтобы удостовериться, нет ли тут какого-либо недоразумения. В Москве номер газеты с этим вызовом был задержан по распоряжению полиции, которая не могла допустить мысли, что это напечатано по воле государя. То же самое случилось и в Риге.








