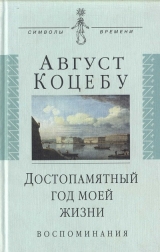
Текст книги "Достопамятный год моей жизни"
Автор книги: Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
У противоположного берега находилось много до того мелких мест, что виднелась трава затопленных лугов; лодка наша часто садилась на мель.
Тогда гребцы должны были входить по пояс в воду, чтобы сдвинуть лодку с места, на что требовалось и много времени, и много труда.
Наконец, после семичасового переезда мы благополучно достигли противоположного берега; с этой минуты все затруднения на воде были уже преодолены, потому что все реки, которые предстояло мне переезжать и которые причинили мне столько беспокойства во время поездки в Сибирь, уже вступили в свои берега. Мрачная Сура, прекрасная Кама, величественная Волга, быстрая Вятка, словом сказать, все реки вошли снова в свои пределы, как бы не желая противопоставлять препятствий моему быстрому возвращению на родину.
Впрочем, перед приездом в Тюмень я подвергся новой опасности. Я сделался болен и даже очень болен. Не могу себе объяснить причину моей болезни; признаки ее были совершенно для меня новы. Я ощущал такое сильное волнение, что должны были ехать совсем шагом даже по совершенно ровной и гладкой дороге. К сожалению, я не имел с собою никакого лекарства, кроме лимонада в порошке. Мой друг Петерсон, правда, предлагал дать мне на дорогу разных лекарств, но, полагая, что нельзя захворать во время такого чудного путешествия, я отказался от его предложения. К тому же, я не знал бы, которое из них должен принять, так как я совершенно не мог понять, что у меня за болезнь. Мне оставалось только вооружиться терпением, но мучившая меня мысль, что, быть может, я умру, находясь так близко от цели, не обняв своих, не располагала к терпению.
Меня дотащили до Тюмени к двенадцати часам дня. Курьер мой советовал мне остаться здесь необходимое для моего выздоровления время и начать лечиться, но я отказался от всякого промедления в дороге. Как лечиться в Тюмени? Какого медицинского пособия мог я ожидать в городе, где не было врача и где какой-нибудь невежественный фельдшер стал бы лечить меня? Я предпочитал поэтому продолжать путь. Не достигал ли я уже границ Сибири? Мне хотелось умереть не в стране моей ссылки.
Мы отправились далее, но боли мои в скором времени усилились до того, что на следующей станции, не имея возможности выносить езды в кибитке, я должен был остановиться в жалкой деревне. Это было вечером. Я приказал устроить себе постель в кибитке и пытался заснуть, но не мог. Боли мои препятствовали этому, но это был их последний приступ, и я одержал над ними верх. Перелом болезни был весьма сильный и продолжительный: я обязан ему, быть может, хорошим здоровьем, которым пользовался прошлую зиму, проведенную мною лучше, чем остальные за последние десять лет.
На следующее утро я, хотя еще чувствовал большую слабость, был в состоянии продолжать путь и в десять часов утра увидел среди леса пограничные столбы Тобольской губернии, на которые при моем въезде я смотрел с замиранием сердца.
При отправлении моем из Москвы мне позволено было купить несколько бутылок вина для подкрепления моих слабых сил. Я выбрал бургонское вино, стоившее сорок рублей бутылка. Денежные мои средства не позволяли мне купить его много, а потому я ограничился только тремя бутылками и пил их исключительно в видах здоровья.
До приезда в Тобольск я уже выпил две бутылки, а третья последовала за мною в Курган. Я тщательно сохранял ее как сокровище, предназначая отпраздновать ею день приезда в Сибирь моей жены. Теперь же, в виду этого пограничного столба, я откупорил ее штопором, подаренным мне моею матерью к Рождеству, которым еще я ни разу не пользовался, и выпил несколько рюмок, проливая слезы радости; я угостил также этим вином курьера и ямщика, а пустую бутылку разбил о столб. После этого, как бы ничего более уже не опасаясь, я закричал ямщику: «пошел! пошел!»
По мере выздоровления и укрепления сил, я становился бодрее и веселее духом и спешил ехать далее. Я встретил при этом два препятствия.
Прежде всего, кибитка моя находилась в отчаянном положении. Я купил ее подержанною, и она сделала со мною около четырехсот миль, считая в том числе поездку в Курган и обратно. Она разваливалась с каждым часом и угрожала совершенным разрушением. Я принужден был останавливаться раз двадцать дорогою, чтобы чинить ее, и ожидал с минуты на минуту, что мне придется ее бросить. Я решился на первой же станции ее оставить и пересесть в почтовую кибитку, хотя из всех возможных экипажей это, бесспорно, самый плохой и самый неудобный. Кибитка эта ничто иное, как простая телега, не всегда покрытая, и слишком короткая, чтобы можно было в ней лечь; ее меняют вместе с лошадьми на каждой станции, при чем, разумеется, приходится перекладывать вещи.
Бывало, в свежие ночи едва успеешь, завернувшись в одеяло, сколько-нибудь согреться, как снова приходится вылезать из телеги, несмотря ни на какую погоду; если же шел дождь, то одеяло делалось мокрым и, вместо того чтобы на станции согревать тело, приходилось высушивать одежду. Нужно обладать железным сложением, чтобы выдержать путешествие в подобном экипаже.
Мой курьер представлял мне все эти неудобства и старался поколебать мое намерение, рассказывая об испытанных им страданиях во время езды на перекладных. Но я рассчитал, что потеряю, пожалуй, день или более, если моя кибитка сломается. Возможность, что моя дорогая Христина лежит больная, и даже опасно; надежда, что мое прибытие возвратит ей здоровье и быть может самую жизнь, – все эти соображения одержали верх. На следующей станции я велел узнать, кто самый бедный человек в деревне, и подарил ему мою старую кибитку. Таким образом одно затруднение было благополучно отстранено; но устранение другого представляло много препятствий. Я не знал, каким образом придать энергии моему ленивому Карпову. Я делал ему подарки, упреки, угрозы, смеялся над ним, но все это было напрасно: его леность и беспечность были непобедимы. Он постоянно зевал или спал. Вероятно, за мои прегрешения выбрали мне самого ленивого, самого медлительного и самого нерасторопного из курьеров: он приводил меня в отчаяние.
К великому моему удовольствию, вскоре явился ко мне ангел-освободитель, в лице другого курьера, – Василий Сукин (Wassili Sukin). Он был послан императором прямо из дворца, с приказанием скакать во весь дух и привезти из Сибири одного купца, сосланного туда лет восемь всемогущим в то время князем Потемкиным. Этот курьер приехал в Тобольск до моего отъезда и ожидал своего пленника, содержавшегося, если я не ошибаюсь, в Пелыме, в расстоянии тысячи верст от Тобольска; он мог уехать только через несколько дней после меня. Купец этот приехал в Тобольск с опухшими ногами, покрытыми ранами, но, несмотря на столь жалкое положение и разрушенное свое здоровье, хотел немедленно ехать; нетерпение придавало ему крылья, и, благодаря лености моего Карпова, он догнал нас около Екатеринбурга.
С этой минуты я поехал гораздо скорее. Василий Сукин был молодой человек, живой и деятельный, услужливый и настойчивый; когда было нужно, он не задумывался брать кнут в руки и погонял им лошадей и ямщиков; Карпов избавился от всех хлопот и ему оставалось только следовать за Сукиным, но и это он исполнял неисправно, и мы всегда опаздывали приезжать на станцию, где, благодаря распорядительности Сукина, уже находили лошадей заложенными, так что нам оставалось лишь пересесть из одной телеги в другую. Без услуг, оказанных мне Сукиным, я приехал бы в Петербург восемью днями позже.
Скажу несколько слов о русском купце, ехавшем с Сукиным. Он был одним из казенных подрядчиков, занимавшихся поставкою в срок разных предметов для казны. Он нажил себе большое состояние и имел дома в Петербурге и в Москве. Раздраженный напрасными проволочками, разными притеснениями и отсрочками в платеже, происходившими по вине князя Потемкина, он позволил себе громко высказать в передней этого вельможи несколько неумеренных слов, за что был в ту же минуту отправлен в Сибирь, лишенный всего – даже шубы. Он был, как говорилось, забыт в Пелыме, в глубине Сибири, где зарабатывал себе дневное пропитание трудами рук, как самый простой работник. Он полагал даже, что на основании какого-то рапорта его считают умершим; тем сильнее был его восторг при известии об освобождении; он совершенно не знал, как и через кого государь мог узнать об его существовании и невинности. Отправляя его в Сибирь, ему не позволили даже проститься с женою и детьми, и с этого времени он ничего не слыхал о них. Можно себе вообразить, как он торопился увидеться с ними. Хотя он был стар и слаб и принужден был на каждой станции перевязывать свои раны на ногах, тем не менее он постоянно торопился ехать далее.
15-го июля мы приехали в Екатеринбург и здесь немного отдохнули. Я купил на здешней гранильной фабрике несколько драгоценных камней по очень сходной цене. Я предназначал сделать моим дочерям из этих камней ожерелья, которые, переходя из рода в род, служили бы воспоминанием о самом несчастном и жалком годе жизни их отца.
Проезжая через несколько дней Кунгур, скверно вымощенный город, я едва не лишился жизни. Мы быстро спускались с горы, как вдруг лопнула ось; телега опрокинулась, а лошади продолжали бежать и тащили меня по мостовой. Шапка долго защищала мою голову, но наконец она свалилась, и я неизбежно разбил бы себе голову, если бы, к нашему счастью, мужикам, шедшим на базар, не удалось удержать испуганных лошадей. Еще несколько шагов и я бы погиб, но теперь отделался только довольно значительным ушибом. Ямщик пострадал гораздо более: он был весь в крови; Карпов же, сидевший на телеге, свесив ноги, просто упал в грязь.
18-го числа я приехал в Пермь и остановился у честного часовых дел мастера Розенберга. Здесь я спокойно отдыхал на том самом диване, на котором лежал в отчаянии два месяца тому назад.
От Перми до Казани мы проехали без всяких приключений. Веселое настроение моего духа часто прерывалось встречами с колодниками, которых гнали в Сибирь. Одни из них сидели в телегах и кибитках; другие же большею частью шли пешком, закованные попарно, в сопровождении вооруженных мужиков, которые сменялись в деревнях. На некоторых из ссыльных была надета деревянная колодка, охватывавшая шею, с рукояткою, висевшею на груди; в этой рукоятке были проделаны два отверстия, в которые продевали руки несчастных и затем заковывали их. Это было ужасное зрелище! Все шедшие пешком просили милостыню; с какою радостью я давал им деньги, возвращаясь сам из ссылки в объятия моего семейства.
Я встречал также большие толпы поселенцев, отправляемых насильно в новый город, который по приказанию государя воздвигался на Китайской границе. Взрослые шли пешком, а дети торчали на телегах среди разных вещей, домашней утвари, собак, птиц. На лицах этих поселенцев я не приметил выражения радости или надежды.
22-го июля мы въехали в Казань и остановились в очень хорошем доме, где давались общественные праздники, у очень доброй и услужливой хозяйки. Я не позабыл посетить доброго Естифея Тимофеича в его домике, наполненном тараканами, и поблагодарить еще раз за оказанное мне прежде гостеприимство.
Следующее обстоятельство побудило меня остаться целый день в Казани. Здесь жила родственница моей жены; я хотел повидаться и поговорить с нею, зная, что она находится в переписке с родственниками в Эстляндии; я надеялся через нее получить известие о моей жене и успокоиться. Вхожу с трепетом в ее квартиру, она встречает меня с объятиями, но, увы! я не слышу ни одного слова утешения; судьба моей жены и детей совершенно ей неизвестна! Один из ее братьев, правда, писал недавно и сообщал разные новости, как например о том, что баронесса Деллинсгаузен, сестра моей жены, собирается ехать в Германию, но о моей доброй Христине ни слова! Если бы этот человек знал только, какое томительное и горькое мучение причинило мне его молчание, он конечно превозмог бы осторожность, доведенную до крайности и в нескольких словах, совершенно неприметно для постороннего, не упоминая вовсе моего ненавистного в то время имени, написал бы просто: наша кузина Христина там-то, делает то-то, здорова и т. д. По крайней мере, из такого письма я мог бы заключить, что моя жена жива.
В Казани я был очень приятно поражен. Многие знакомые и незнакомые немцы, французы, русские прибежали ко мне отчасти из любопытства, отчасти из участия и старались выказать мне свое расположение. Два месяца тому назад они знали, что меня провезут чрез их город и тогда еще старались повидаться со мною, но это им не удалось, так как Щекотихин принял против этого меры.
Казань – большой, населенный, хорошо обстроенный и по наружности веселый город. По величине построек и количеству товаров здешняя таможня мало уступает московской и петербургской. Древняя крепость татарских ханов, разрушенная царем Иваном Васильевичем, представляет на вершинах скал величественные и живописные развалины. Она была очень обширна, часть этих развалин поправлена и служит жилищем для начальника города.
Иностранцы, живущие в Казани, весьма приветливы и любезны; они составляют очень хорошее общество. Я полагаю, что выбрал бы местом своего жительства Казань, если бы должен был жить внутри России.
При отъезде несколько карет и дрожек сопровождали меня до Волги, которая при первом моем проезде подходила к городским стенам, а теперь уже вступила в свои берега, отстоящие на семь верст от города. В Казани я купил себе кибитку, чтобы ехать с большим удобством.
За Волгою Карпов указал мне место, где он встретился с Щекотихиным и Ольгиным, очень изумившимися при известии о моем возвращении из ссылки. Щекотихин очень сожалел, что не предугадал такого благоприятного исхода моего дела. По-видимому, эти сожаления проистекали не из хорошего побуждения.
Между Казанью и Нижним Новгородом очень часто попадались мне по обеим сторонам дороги вооруженные люди, сидевшие около разложенных огней. Любопытство побудило меня наконец остановиться и спросить, что они здесь делают. Мне дали следующее не очень утешительное объяснение: в соседнем городе Маресьеве происходит ярмарка, которая привлекает множество воров и разбойников, и чтобы защитить по возможности дорогу от их разбоев, назначаются из жителей соседних деревень стражники. Что касается меня, то я не встретил ничего подозрительного во время дороги. Но, вообще говоря, при первой же встрече с почтой в здешних местах начинаешь убеждаться, что дороги не совсем безопасны. Телега, в которой сидит почтальон, всегда сопровождается несколькими конными мужиками, вооруженными саблями и ружьями и поспевающими с большим трудом за телегою. Эта мера предосторожности основана на указе императора Павла I, по которому губернатор отвечает за всякое разграбление почты, совершенное в пределах вверенной ему губернии. Очень естественно, что губернаторы, особенно в малонаселенных местностях, принимают все необходимые против этого меры; но мне кажется, что подобное приказание довольно строго в стране, где огромные леса служат для разбойников недосягаемым убежищем и все человеческое могущество оказывается недостаточным, чтобы предупредить нападение со стороны злодеев.
Приближаясь к Нижнему Новгороду, я был обрадован зрелищем, которого давно уже был лишен: я увидел в первый раз вишневые деревья и пчелиные улья. Известно, что в Сибири нет ни пчел, ни раков. Точно так же фруктовые деревья очень редки в этой стране; вот почему я чрезвычайно обрадовался, приметив моих старых знакомых. «Вот я и в Европе! – воскликнул я, – вблизи своей родины!»
Увлеченный этой мысли, я вздумал в Нижнем Новгороде пообедать по-европейски, но оказалось, что здесь не существует ни одной гостиницы, а есть только жалкие кабаки, в которых нечего есть. Я вернулся на почтовую станцию и расположился в своей кибитке пообедать черствым хлебом и сыром, между тем как Сукин торопил, чтобы скорее закладывали лошадей.
Через него на станции узнали, кто я такой, и несколько минут спустя явился лакей от супруги почтмейстера с приглашением пожаловать к ней обедать. Я долго отказывался, ссылаясь на мою небритую бороду, всклокоченные волосы, рваный халат и т. д., но все было тщетно: лакей приходил несколько раз звать меня к обеду и наконец сообщил, что я буду обедать один в комнате и никто меня не будет беспокоить.
Я не мог долее сопротивляться таким любезным настояниям, притом же и желудок мой, худо питавшийся несколько дней, побуждал меня принять приглашение. Я вышел из кибитки и явился в дом почти в таком же виде, как бедный Том в «Короле Лире». Меня ввели в нарядно убранную комнату, посередине которой стоял маленький стол с одним прибором. Я оставался несколько минут один, но вскоре вошла очень красивая, молодая дама, хозяйка дома, и на немецком языке извинилась в своей нескромности, проистекавшей из сильного желания познакомиться со мною.
Хотя я и принадлежал к поклонникам прекрасного пола, но, признаюсь, появление этой дамы чрезвычайно меня смутило. Я был перед нею точно Диоген перед Аспазиею. Вся ласковость ее обхождения не в состоянии была осилить ложного стыда, овладевшего мною. При взгляде на мой старый халат, а еще хуже на зеркало, я чувствовал себя как бы уничтоженным. Что же сделалось со мною, когда вскоре вся комната наполнилась мужчинами и женщинами, очень прилично одетыми, русскими и немцами, обращавшимися ко мне с большою любезностью! Я не переставал сидеть подобно испанскому королю и то конфузился от весьма лестных обо мне отзывов, то был тронут до слез живым участием ко мне собравшихся лиц, дошедших до того, что они взяли первый том моих сочинений и сравнивали приложенный к нему портрет мой с оригиналом в длинной бороде.
Хотя и мой желудок, и мое тщеславие нашли себе здесь обильную пищу в буквальном и переносном смысле, но признаюсь, что только по возвращении в кибитку я вполне оценил приятность времени, проведенного мною в доме почтмейстера. Воспоминание об этом случае, оригинальном и единственном в своем роде, на границах Азии, в стране, которая слывет дикою и необразованною, тронуло мое сердце и наполнило его отрадой. Можно ли было думать встретить в Нижнем Новгороде друзей моей музы, готовых меня утешить, мне услужить и оказать мне почет единственно потому, что они видели во мне старого знакомца и приятеля, с давнего времени уже снискавшего их расположение. Такого рода награду я предпочитаю всем фимиамам газет, тем более что этот фимиам, возжигаемый живым (смею это сказать) писателям, редко бывает чист, бескорыстен и непорочен.
Дорогою между Нижним и Москвою угрожала мне еще одна опасность, от которой, однако, я избавился, благодаря моей бдительности. Я не спал четыре ночи подряд и решился к вечеру, по случаю проливного дождя, остаться в деревне до рассвета. Я положительно приказал, чтобы лошади были заложены к четырем часам и чтобы меня немедленно разбудили. Это было исполнено; я встал, посмотрел в окно и, заметив, что уже светает, поскорее сел в кибитку и поехал. Сукин и купец отправились вперед; ямщиком у них был молодой парень, а у меня – человек пожилой, с черною бородою и свирепым взглядом.
Выехав из деревни, я убедился, что свет, принятый мною за зарю, происходил от луны; я вынул мои часы и увидел, что был только час пополуночи. Это меня поразило. Ямщики в России, как и в Европе, предпочитают всегда опаздывать; почему же вдруг меня заставили выехать тремя часами ранее? Я решился не спать всю дорогу. Пока обе наши повозки ехали близко одна от другой, я не мог ничего опасаться и потому, как только ямщик пытался под разными предлогами отставать от Сукина, я настойчиво погонял его.
Мой Карпов по своем похвальному обыкновению заснул, и я не хотел его будить, пока не понял, в чем дело. Ямщик постоянно оборачивался и посматривал на нас обоих; всякий раз, когда наши глаза встречались, я пристально глядел на него, как бы говоря: «я не сплю». Наконец мне пришла мысль посмотреть, что он будет делать, если убедится, что я сплю. Я закрыл глаза, но, конечно, при малейшем подозрительном движении ямщика немного открывал их. Эта предосторожность показалась мне еще более необходимой после того, как я приметил большой нож, висевший на поясе у ямщика; я увидел это страшное оружие в то время, как он слезал, чтобы связать старую, оборвавшуюся постромку. Мы не имели оружия, и он мог, не слезая с козел, дать нам два хороших удара и отправить спящих на тот свет.
Едва я принялся опять за свою роль и притворился спящим, как ямщик обернулся и долго на меня смотрел. До сего времени, побуждаемый моими угрозами и бранью, он ехал очень близко от первой кибитки; теперь же он поехал тише и понемногу начал отставать. Чтобы убедиться еще более в его злых намерениях, я хотел дать возможность первому ямщику уехать вперед немного, но он вдруг остановился и принялся что-то поправлять у хомута лошади.
Мой ямщик тоже остановился и слез с козел под предлогом подвязать колокольчики на дуге. Начинало светать, и я хорошо видел, что колокольчик крепко привязан и что мой ямщик только возится для вида, чтобы удобнее наблюдать, сплю ли я или нет. Убедившись, что я сплю, он кликнул тихим голосом молодого ямщика и сказал ему несколько слов, которых я не понял. По ответу последнего я заключил, что он его спрашивал о том, что делают ехавшие с ним; он ему сказал одно слово: «спят».
После этого они повели между собою тихим голосом разговор, продолжавшийся довольно долго и весьма меня беспокоивший. Наконец я прервал эту беседу энергическим ругательством и сказал ямщику прямо, что он мошенник. Он стал оправдываться, но я резко утверждал, что понял их разговор. Я начал уверять, что везу с собою важные депеши, угрожая ему пистолетом, которого со мною не было, разбудил моего курьера, сообщил ему в чем дело, выскочил из кибитки и вызвал Сукина и купца. Все мы принялись бранить и стращать ямщика; он, ворча, сел на козлы и поехал, уже более не оборачиваясь.
Проехав версту от этого места, я увидел двух человек, по-видимому, нас ожидавших, так как они стояли неподвижно. Мой ямщик, как только заметил их, начал громко кричать и погонять лошадей, как бы давая этим знать, что мы не спим. Мы скоро проехали мимо этих подозрительных личностей; они пристально смотрели на нас, но не решились что-либо предпринять; мы благополучно доехали до станции.
Я глубоко убежден до настоящего времени, что существовал замысел убить нас или, по крайней мере, ограбить. Замысел был направлен против меня, и это объясняется очень просто. Купец ехал в открытой телеге; можно было разглядеть все его вещи, перекладывая их с одной телеги в другую: они не могли никого ввести в искушение. Между тем можно было предполагать, что я везу с собою сокровище в кибитке, купленной в Казани; накануне я отворял свой дорожный ящик и могли заметить мой серебряный кофейник и другие вещи. Не требовалось быть хорошим физиономистом, чтобы заметить, что Карпов глупец, от которого легко избавиться. По-видимому, был составлен такой план: давши Сукину вместе с купцом уехать вперед, подвезти меня потихоньку к тому месту, где встретились две темные личности; тут нас бы ограбили, а быть может, и убили, и ямщик мог бы утверждать, что он ни в чем не виноват. Это предположение еще более подтверждается тем, что мой ямщик с самого начала говорил, что лошади очень замучены, едва везут, между тем, после того как замыслы его не удались и более не было надобности удерживать лошадей, он поехал гораздо шибче молодого ямщика.
Избегнув этой последней опасности, я, наконец, после столь продолжительного путешествия по пустынным местам увидел 28 июля в полдень необъятную Москву.
Я остановился на некоторое время на возвышении и наслаждался прекрасным видом; но вскоре, однако, поспешил ехать, надеясь получить здесь какие-нибудь сведения о моем семействе. Проехав множество улиц и переулков, я остановился в гостинице, принадлежавшей доброй старушке француженке. Беккер рекомендовал мне ее. После нескольких часов отдыха, крайне мне необходимого, я обчистился, привел с помощью гребня и бритвы в порядок мою наружность и направился к французскому книгопродавцу Куртенеру (Kourtener), которого Беккер мне очень хвалил. Описание, сделанное им, оправдало мои ожидания. Куртенер принял меня чрезвычайно радушно.
Прежде всего я, разумеется, спросил его о моем семействе. Он смутно припоминал, что слышал о том, будто бы император приказал потребовать мою жену в Петербург и принял ее самым любезным образом. В величайшем беспокойстве я прервал его, желая узнать, от кого и где он слышал эту новость. Он не мог ничего припомнить.
Я отправился вместе с ним к Карамзину, очень уважаемому писателю, известному даже в Германии по его «Письмам русского путешественника». Он принял меня дружественно и сообщил тот же самый слух. Он равным образом не мог указать мне источника этого слуха; но оба они обещали мне по возможности справиться.
Можно себе вообразить мое наслаждение, когда я снова очутился среди авторов и книгопродавцев, после того как прожил четыре месяца почти совсем без книг. Карамзин имел в своем кабинете собрание литографированных портретов важнейших немецких ученых; я мог беседовать с ним о Виланде, Шиллере, Гердере, Гете и моей родине, которую он очень любил.
Я провел в Москве этот и следующий день до вечера и посвятил это время осмотру городских достопримечательностей. Надежды мои получить известия о моем семействе оказались тщетными; маловероятную новость о приеме, оказанном жене моей в Петербурге, я скоро стал считать ложным слухом.
Мне очень хотелось посетить в Твери генерала Мертенса, чтобы вспомнить грустный переезд чрез Волгу, совершенный вместе с ним; но он осматривал свое новое губернаторство.
В Вышнем Волочке я решился расстаться с моим любезным Василием Сукиным, который до сих пор сопровождал меня единственно из расположения, не желая покинуть меня совершенно на произвол моего ленивого спутника. Я хотел, чтобы Сукин скакал вперед и предварил бы мою жену о моем скором приезде в Петербург, если она там действительно уже находилась. Я дал ему к моей жене письмо, в котором просил ее выехать мне навстречу на первую станцию. Вместе с тем я дал ему адрес моего старого и верного друга Грауманна (Graumann), от которого он мог узнать, где живет в Петербурге моя жена.
Он уехал, напутствуемый моими искренними пожеланиями; я рассчитывал, что он может приехать в Петербург сутками ранее меня. Мне казалось, что такое выражение моей доверенности к Сукину кольнуло моего честолюбивого и неуклюжего Карпова. Он сделался несколько развязнее и живее. Мы проехали Новгород, известный по сношениям своим с Ганзейским союзом, – но не остановились в нем; справляясь о Сукине, я всякий раз узнавал, что он только что проехал.
На предпоследней станции его постигла маленькая неприятность: он забыл по неосторожности на столе подорожную, без которой не смел явиться в Петербург. В страшном беспокойстве он остался ожидать нас на последней станции, и мы отдали ему бумагу, которую, к счастью, захватили с собою. Было около четырех часов пополудни. Мы немного принарядились, и я сел в свою кибитку в большом волнении.
В Царском Селе, летней резиденции государя, нас три или четыре раза останавливали на разных пикетах и подвергали таким подробным расспросам, что я не раз вздыхал от нетерпения. Но мне суждено было вынести еще испытание: множество войск получили приказание отправиться в этот день в Гатчину, любимое местопребывание императора, на смотр. На расстоянии десяти или двенадцати верст от Петербурга мне попались навстречу шесть полков со всеми их обозами; и не было никакой возможности ехать далее и пришлось провести целый час в томительном ожидании. Можно вообразить мое отчаяние.
Кроме того, я едва не навлек на себя большой неприятности. Великий князь Александр ехал верхом впереди войск. Я совершенно не знал его в лицо, а если бы даже и знал, то мне был неизвестен строгий приказ, при встрече с особами царской фамилии выходить из экипажа и кланяться. Мой беспечный Карпов также ничего этого не знал, – и мы остались в кибитке.
Меня неизбежно арестовали бы и посадили в тюрьму при полиции, если бы великодушный князь, заметивший нас, не показал себя выше той невольной ошибки, которую я сделал, не оказав ему заслуженного почтения.
К девяти часам вечера мы приехали к городской заставе и подверглись опять длинному и томительному допросу. Нам дали казака верхом для сопровождения к коменданту, жившему в императорском дворце. Курьеры наши побежали наверх, а я в невыразимом волнении остался ждать на площади, которую очень хорошо знал.
Прошло четверть часа пока нас позвали к графу Палену, генерал-губернатору города. Его не было дома, и нам разрешили не ожидать его возвращения. Я сгорал желанием поспеть еще в тот же вечер к моему другу Грауманну, как бы поздно ни было; но курьеры имели положительное предписание доставить меня и купца к генерал-прокурору. Нас повезли к нему. Оказалось, что он в Гатчине, а его помощник по управлению так называемой Секретной Экспедицией, статский советник Фукс (Fuchs), жил далеко от дворца. Что теперь делать? Курьеры оставили нас на улице под надзором многочисленной прислуги генерал-прокурора, столпившейся вокруг нас из любопытства, и побежали на квартиру Фукса.
Я стоял добрые полчаса, облокотясь на перила набережной Мойки, и смотрел на ее покойные волны, обуреваемый самыми разнородными ощущениями. Наконец курьеры возвратились, а за ними шел и статский советник Фукс. Он обошелся со мною очень вежливо и указал на маленькую комнатку, в которой я мог провести ночь. На просьбу мою дозволить навестить друга моего Грауманна он отвечал, что хотя я более и не числюсь государственным преступником, но он прежде всего должен донести обо мне рапортом в Гатчину и испросить дальнейших обо мне приказаний. Он обещал исполнить все это тотчас и послал рапорт с эстафетой. Ответ, конечно, мог последовать только завтра, а потому он предлагал мне как-нибудь устроиться на эту ночь.
Я спросил его о моей жене, но он не мог сообщить мне о ней никаких сведений. Таким образом рушилась надежда, которую я лелеял в душе во время всего пути от Москвы до Петербурга. Я попробовал узнать от него о причинах моей ссылки; он ответил мне только – что ссылка моя последовала по особому высочайшему повелению, и что государь в течение последних дней неоднократно спрашивал, не возвратился ли я назад, что все мои бумаги находятся у генерал-прокурора и будут мне в целости возвращены.
После этого он пожелал мне покойной ночи и пошел отправлять эстафету.








