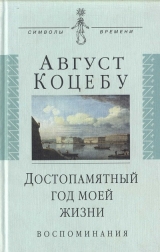
Текст книги "Достопамятный год моей жизни"
Автор книги: Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Мы прожили в Казани, или точнее сказать в татарском ее предместье, два дня. Опять карандашом и по-прежнему украдкою написал я записку моей жене; не знаю, получила ли она ее. Потом я поспешил набросать на бумагу материалы для докладной записки, которую намеревался послать государю; для этого требовалась величайшая с моей стороны осторожность, так как мне было положительно воспрещено что-либо писать. Я мог писать только карандашом, купленным мною в Москве под предлогом желания записывать станции; я имел с собою два словаря, чтобы освоиться с русским языком; на полях страниц этих словарей делал я заметки для моей докладной записки. Для этого занятия я пользовался всяким мгновением, когда оставался один; эти мгновения обыкновенно были очень коротки, но необходимость сделать починки в моей карете заставила Щекотихина два раза ходить к кузнецу, что предоставило в полное мое распоряжение несколько часов. Словари дали мне возможность записать многое, чего никто не подозревал, и в настоящую минуту я продолжаю писать в постели за ширмами, сквозь которые проникает, однако, свет. Я могу писать, не будучи отрываем от этого; меня не тревожат, полагая, что покой мне очень полезен. Я считал это занятие необходимым, во-первых, потому, что не полагался на уверения Щекотихина, что мне будет позволено писать из Тобольска, а во-вторых, потому, что имел случай переслать черновой проект прошения моей жене; она переписала бы его и послала по назначению.
Остальное время, проведенное нами в Казани, я прожил довольно скучно; сидя у окошка, выходившего на двор, я смотрел на свою карету: она напоминала мне все страдания, вынесенные мною в ее небольшом пространстве в продолжение целых трех недель.
Хорошенькая татарка, жившая надо мною, впрочем, забавляла меня несколько минут, не потому чтобы я был поражен ее красотою или молодостью, но потому что представила мне маленький образчик совершенно для меня новых татарских нравов. У татар существует обычай, что женщина, увидев незнакомого человека, должна убегать или скрыть свое лицо. Она беспрестанно ходила в небольшой чулан, выстроенный против моих окон. Я ее стеснял: всякий раз, выходя из чулана, она не знала, на что решиться. Видя, что я спокойно сижу у окна, она покрывалась большою простынею и перебегала чрез двор; иной раз она закрывалась только руками, что было крайне неудобно, если она держала в них что-нибудь; чтобы пособить этому, она приподнимала конец платка, надетого на шею, и заслоняла им свое лицо, но в то же время открывала шею; скрывая одно, она обнажала другое. Когда она роняла что-либо из рук и нагибалась, чтобы поднять, тогда я видел ее лицо и плечи. Я полагаю, что едва ли возможно было совместить за раз столько кокетства и столько стыдливости. Признаюсь, что в другую, более удобную для веселья минуту, я наслаждался бы долее этою проделкою.
Небо уготовило мне новое сильное потрясение при выезде из Казани. При самом отъезде, когда мы уже прощались, наш курьер, стоявший у окна, закричал: «сенатский курьер!» – и в то же время назвал его по имени и спросил: «Кого тебе надобно». – «Да тебя»…. это слово тебя крайне меня смутило; колена мои подогнулись; я ничего не видел. Что нужно от нас сенатскому курьеру, подумал я, какое известие привез он? Оно, верно, касается меня.
Но я ошибся и дело оказалось проще: два сенатора отправлялись ревизовать губернии в Сибири. Сопровождавший их курьер, узнав о нашем прибытии, пришел навестить старого своего товарища Александра Шульгина. Никогда в жизни моей не испытывал я такого разочарования. Я долгое время не мог очнуться и прийти в себя; с этих пор я потерял всякую надежду дождаться приезда курьера с радостным для меня известием; сколько до этого желал я замедлить мою поездку, столько же теперь хотел ее ускорить. Я хотел знать свою участь, чтобы сообщить о ней своей жене и представить жалобу государю.
Мы выехали из Казани 17 мая, т. е. 29 числа по новому стилю; несмотря на жаркую погоду, в лесах мы видели много снега. От Казани до Перми около шестисот верст; дорога идет все лесом и лишь кое-где попадаются деревушки. Дорога прямая и широкая, но часто встречаются страшные болота и по ним мостовняк, езда по которому может просто вытрясти душу.
Мы встречали часто колодников, скованных попарно; их гнали в Иркутск, или на рудники в Нерчинск; между ними попадались и женщины; их сопровождали крестьяне ближайших к дороге селений. Они просили подаяния. – Ах! хотя я ехал в карете, но был без сомнения несчастнее их; страдания определяются состоянием души. Вид этих колодников, мрачность темного леса, рассказы о страшных убийствах, совершенных в этих пустынных местах, все это должно было увеличивать мою тоску; но милосердый Господь помогает несчастному и посылает ему надежду тогда, когда отчаяние его одолевает. Да, в этом лесу надежда – это благодетельное светило – явилось глазам моим. Оно светило мне, правда, издали, как солнечный луч, проникающий сквозь лес, но оно появилось мне наконец, и сердце мое еще в это самое мгновение ощущает его живительную теплоту. Я не могу в настоящее время сказать, почему произошла во мне такая перемена. Буду ли я в состоянии когда-либо это объяснить?[2]2
Моя надежда основывалась на плане бегства из Сибири, который я надеялся осуществить при помощи моей жены. Об этом я скажу впоследствии. Примеч. автора.
[Закрыть]
Если буду, то тогда осуществится и самая надежда. Я могу только сказать, что она была основана на любви ко мне моей жены; это крепкая основа, конечно, если жена моя еще жива; ее любовь служит мне порукою в том, что она меня отыщет.
Мы приехали в Пермь без всякого приключения. Это довольно скучный город, в котором Щекотихин не нашел приятелей; необходимо было остановиться на постоялом дворе; я заметил, что теперь он стал менее недоверчив ко мне. Он чаще оставлял меня одного; ящик с моими деньгами оставлялся на столе возле меня, и Щекотихин не думал даже запирать его. В одну благоприятную минуту я взял тайком сто рублей. Мысль обокрасть собственную казну была мне внушена каким-то предчувствием, что она скоро должна будет подвергнуться последнему нападению. Действительно, Щекотихин не замедлил попросить у меня денег; я ему наотрез отказал; после этого он сделался до того суров и угрюм, что я решился открыть перед ним ящик. – «Смотрите, – сказал я ему, – тут всего сто десять рублей. Какая это незначительная сумма при моем положении, особенно когда я должен приобретать себе все необходимые предметы в стране, совершенно мне неизвестной. Это все, что у меня остается для того, чтобы существовать до тех пор, пока не получу пособия от моего семейства, которое находится в пятистах милях от меня. Вот вам, однако, пятьдесят рублей; если вы этим не довольны, делайте, что хотите; но я знаю, что могу жаловаться». Эти последние слова, по-видимому, поразили его. Он сделался гораздо сговорчивее, взял пятьдесят рублей и перестал меня мучить. Кроме того, он имел свои правила, прямо противоположные правилам моряков, которые грубы в начале плавания и делаются учтивыми в концу оного; Щекотихин же становился все более и более угрюм по мере приближения к цели нашего путешествия. Вероятно, опасения, что я убегу, заставляли его смягчать свое обращение; но теперь, не опасаясь этого, он не считал нужным стеснять себя долее.
Мы собирались уезжать, не помню с какой станции, часов около восьми вечера; но надвигалась гроза, слышались уже громовые удары и я просил Щекотихина, по крайней мере, переждать грозу. Он отказал мне в этом. Я указывал ему на опасность, которой мы себя подвергали, путешествуя в такую грозу: наши лошади подкованы, в карете много железа, которое, как известно, притягивает молнию. Он мне сказал, смеясь, что все это сказки. Я прибавил, что осторожные люди выходят из карет и останавливаются в случае, ежели гроза застигнет их дорогою. Он смеялся надо мною еще более и спросил, как могу я верить такому вздору? Взбешенный его нелюбезностью и глупостью, – что конечно не должно было бы меня сердить, – я вскочил в карету. К чему мне страшиться смерти, подумал я; он один должен страшиться ее, потому что для него только и есть дорогого, что жизнь.
Мы поехали, а громовые удары делались все сильнее. Мы ехали равниной, покрытой вереском, который горел по обеим сторонам дороги. Огонь по временам столбом поднимался к небу, потом как бы замирал до тех пор, пока не встречал на пути своем сухой травы, которая вспыхивала.
Хотя огонь этот был не опасен, но вид его был страшен. С одной стороны трещал огонь на земле, с другой – гремел гром и вспыхивали молнии на небе. Мы проехали таким образом несколько верст и добрались наконец до небольшого соснового и березового леса. Миновав этот лес, мы подъехали к большой речке. На берегу находился паром, а на противоположной стороне реки стояла деревня; она была пуста. Мы начали звать людей, чтобы переправить нас, но река была так широка, что прошло довольно долгое время, пока нас услыхали; наконец появился человек в челноке. Хотя паром ходил по веревке и течение реки было довольно слабое, нам казалось, что одного человека недостаточно, чтобы нас переправить, но Щекотихин кричал, чтобы он подал паром. Мужик отвечал ему, что по случаю мелководья это невозможно, что паром сядет на мель, что нельзя будет его сдвинуть, когда на него поставят нашу карету с лошадьми, что мы можем переехать реку вброд. Мы послушались и двинулись; коляска наша до ступицы вошла в густой ил. Четыре лошади дошли до парома, но пятая завязла задними ногами и упала на бок. Крики, удары, всякого рода понукания, – ничто не помогает; лошадь не встает, а между тем остальные лошади тянут. Спутники мои вышли из кареты, я один остался, очень довольный случившимся. Впрочем, заметив, что тонкая веревка, удерживавшая плот, может оборваться от усилия лошадей, я счел благоразумным последовать примеру моих спутников; я выскочил в воду и влез на плот; Щекотихин взял кнут, сел на козлы; ямщик тянул лошадей за уздцы, курьер погонял их прутом, мужик стоял у веревки, а я, сложив руки и промочив ноги, стоял при страшной грозе под проливным дождем. Во время этой возни молния вдруг падает у самого берега; удар был страшный; у наших людей опустились руки, но потом они стали усердно креститься и повторяли беспрестанно слова: «Господи помилуй!» Щекотихин стал в тупик, сконфузился; курьер упрекал его за то, что он меня не послушал; я же молчал и посмеивался.
От Перми до Тобольска считают около девятисот верст, но дорога здесь хороша и местность живописнее и веселее, нежели от Казани до Перми; здесь уже встречаются не мрачные еловые леса, но большею частью молодые березняки и обширные поля, очень плодородные и хорошо возделанные; богатые деревни, то русские, то татарские, находятся в близком друг от друга расстоянии; крестьяне имеют до того довольный вид, особенно в праздничные дни, что забываешь совсем, что находишься в Сибири; избы в деревнях даже гораздо чище, чем в других местностях России; дома имеют две комнаты: одна обыкновенно называется избой, а другая – горницей; комнаты эти имеют окна, в которых слюда заменяет стекла; столы покрыты салфетками, на стенах висят хорошие образа, кроме того, множество домашней утвари, которой мы очень давно не встречали в домах сельских жителей, как то: стаканы, чашки и пр., и пр. Мне казалось, что я заметил у них еще более гостеприимства нежели у русских; они говорят совершенно другим языком.
В будничные, рабочие дни народу почти не видно; мы проезжали десятки верст, не встретив ни души, и эти безлюдные, но очень хорошо возделанные места, казались обработанными каким-то волшебством. Но нет ничего веселее обывателя русской деревни в праздничный день; на улице или площади стоит толпа девушек, одетых в красные, белые, или синие платья; они поют и пляшут. Молодые парни также веселятся, но их как-то мало; вероятно, последние рекрутские наборы значительно убавили их число. Я никогда не замечал, чтобы девушки и парни участвовали в играх или плясках вместе.
Вообще говоря, крестьяне сохраняют благоговейное воспоминание об умершей императрице; они обыкновенно называют ее матушкою; напротив того, о сыне ее, царствующем государе, говорят редко и очень осторожно, сдержанно.
В Пермской губернии только один значительный город, Екатеринбург, Здесь Щекотихин случайно открыл все мои тайные записки и наброски, что привело его в ужасный гнев. Он хотел разорвать мои словари, но я воспротивился этому.
– Я покажу их губернатору, – сказал он мне, – я непременно покажу их.
– Вы можете это сделать, – отвечал я. – это проект докладной записки, которую я хочу подать государю; я начал составлять ее с тем большею уверенностью, что вы сами положительно уверили меня, что это мне будет позволено.
– Это будет зависеть от инструкций, которые получит губернатор, – ответил он мне.
– Вот как! – возразил я, – следовательно, несмотря на все ваши клятвы, вы еще не уверены в том, что мне позволят писать; вы, быть может, не совсем убеждены даже в том, останусь ли в Тобольске, а между тем вы самым положительным образом уверяли меня в этом.
Он был немного смущен и старался снова меня уверить, что у него нет никакого приказания везти меня далее Тобольска; этим, впрочем, дело и ограничилось. Мои упреки заставили его позабыть остальное; он, по крайней мере, не говорил мне об этом более, но растравил снова мои раны; я уверился, что судьба моя еще не решена окончательно и что чаша горя еще не испита мною до дна.
Тюмень – первый сибирский город, который встречается на пути, верстах в сорока от границы, означаемой столбами с надписью: «Тобольская губерния». Щекотихин указал мне на них и объяснил их назначение; я ничего не отвечал ему; сердце мое было растерзано. Ах! неужели недостаточно быть жертвою страданий, причиняемых нам живым воображением, неужели необходимо, чтобы видимые, вещественные предметы увеличивали бы еще наши мучения!
Я находился, таким образом, действительно в Сибири; то, что мне пришлось испытать на первой почтовой станции, не могло облегчить горя, причиненного мне въездом в эту страну. Я расскажу это печальное приключение, которое, растерзав мое сердце, осталось запечатленным в нем кровавыми чертами.
Мы меняли лошадей на станции; я сел у дверей избы и ел хлеб с молоком; как вдруг старик лет шестидесяти с белыми как снег волосами упал пред нами на колени и с чрезвычайным волнением спрашивал, не имеем ли мы для него писем из Ревеля? Я смотрел с большим вниманием на старика и не мог ничего ему отвечать; я не был уверен, хорошо ли я понимал его слова. Тогда подошла ко мне женщина и шепнула на ухо: – «Этот старик помешан; всякий раз, когда он увидит проезжающих, он слезает со своего одра и делает один и тот же вопрос. Дайте мне клочок бумаги, – прибавила она, – я заставлю его сейчас уйти; без этого мы от него не отделаемся скоро, он будет плакать, стонать и ни за что не уйдет сам». Она взяла от меня бумагу и, делая вид как бы получила письмо, прочла вслух: «Мой дорогой супруг, я совершенно здорова и твои дети также; будь покоен, в скором времени мы тебя навестим». Старик слушал с величайшею радостью, он улыбался, потирал бороду, взял потом бумажку и спрятал за пазуху. Потом он рассказал мне и довольно связно, что был когда-то солдатом, служил во флоте в Ревеле, в Кронштадте и других местах, что он теперь инвалид и недавно покинул свою жену и детей, находящихся в Ревеле. Женщина заметила нам, что это было лет тридцать пять тому назад. Он стал спорить с нею, опровергать и наконец сел на край скамейки, а мои спутники стали над ним потешаться по-своему, но он не обращал на них внимания и произносил какие-то слова, которые я не расслышал; наконец, он вскрикнул громким голосом: «Милая моя голубка! где-то ты теперь? в Ревеле ли, Риге или Петербурге?»
Эти слова имели до того близкое отношение к моему настоящему положению, что я едва мог встать и уйти в избу, где горько заплакал. Этот добрый старик изображал, быть может, собою участь, меня ожидающую; быть может, когда-нибудь, лишенный рассудка, я также буду спрашивать у проезжающих писем из Ревеля; уже теперь могу я вместе с ним воскликнуть: «Милая голубка, где-то ты теперь? в Петербурге, Риге или Ревеле?» Никогда в жизни не испытывал я подобной грусти. Образ этого старика никогда не изгладится из моей памяти; он представляется мне и наяву и во сне; он не покидает меня.
Запрягли лошадей, а я не переставал рыдать. Спутники мои, видя, что я не допил молока, не понимали, что со мною делается; я не хотел сказать им о том, что происходило в моей душе; они стали бы надо мною смеяться. Стыжусь даже признаться, что, расставаясь со стариком, я дал ему немного денег: человек, который около тридцати пяти лет только и думал, что о своем семействе, был человек необыкновенный; деньгами нельзя было облегчить его страдания, поэтому он принял их от меня с равнодушием и даже не поблагодарил; я чувствовал, что краснею от стыда и, закрыв лицо руками, ушел. Вот чем ознаменовался мой въезд в Сибирь; до самого Тобольска не мог я забыть этого неприятного для меня приключения. Иртыш и Тобол сильно разлились и затопили всю местность мили на четыре кругом; мы должны были оставить карету, сложить все наши вещи в небольшую лодку и продолжать путешествие водою. День был очень теплый; мы плыли довольно скоро; спутники мои захрапели, и я на свободе отдался вполне томительному беспокойству относительно того, оканчивается ли теперь мое путешествие или нет.
Часа через три я увидел Тобольск, в расстоянии полумили. Город этот расположен на берегу Иртыша; колокольни придавали ему великолепный вид, особенно в той его части, которая называется цитаделью и где обращает на себя внимание дом губернатора; но так как город незадолго перед тем частью выгорел, то кажется красивым и обширным лишь издали. Теперь только был я в состоянии оценить все различие между грубою, но доброю душою Александра Шульгина и страшною жестокостью варвара Щекотихина. Последний, проснувшись, предался самой непристойной радости; он шутил, смеялся без малейшей деликатности, обязывающей иметь уважение к несчастному существу. Мне казалось, что я вижу в нем палача, который, отрубив голову, принимает самодовольный вид и радуется своей ловкости. Курьер же напротив, спокойный и грустный, зная, что приближается время, когда участь моя будет решена, по временам поглядывал на меня украдкою с состраданием и жалостью.
Мы подъехали на лодке к самому городу; нижняя его часть была затоплена; по улицам разъезжали по всем направлениям челноки, на которых и производилось сообщение.
Тридцатого мая, в четыре часа, мы остановились около большой базарной площади. Мы потребовали кибитку, сложили в нее вещи и направились к губернатору. Подъехав к дверям его дома, Щекотихин пошел вперед и оставил меня на улице. Я ждал четверть часа; это было чрезвычайно томительное ожидание. Люди губернатора смотрели на меня и перешептывались; все это меня беспокоило; наконец Щекотихин явился и сделал мне знак. Мы пошли к беседке, в которой губернатор отдыхал после обеда. Дорогою я спросил Щекотихина. – «Ну что же? остаюсь я здесь или нет?» Этот человек имел бесстыдство ответить сухо: – «Право, не знаю». Беседка была закрытая; я вошел один и представился губернатору насколько мог бодро. Губернатор г. Кушелев (Kuschelef), которого очень хвалили мне в Перми за его человеколюбие, был лет сорока, имел очень умное и благородное лицо. Первый его вопрос был:
– Говорите ли вы сударь по-французски?
Вопрос этот привел меня в восторг; наконец-то я мог объясниться.
– Да, – ответил я поспешно.
Он предложил мне сесть.
– Ваша фамилия мне известна: это фамилия одного писателя.
– Увы, милостивый государь, я сам этот писатель.
– Как! – воскликнул он, – это невозможно! По какому случаю вы здесь?
– Ваше превосходительство, я полагал, что вы сообщите мне причину этого.
– Я, я? Но я решительно ничего не знаю. Все, что сообщено мне о вас в указе, заключается в том, что вы президент Коцебу из Ревеля и поручаетесь моему надзору. Вот и все.
Он показал мне указ, который состоял строк из пяти – шести, не более.
– Я еду не из Ревеля, а с прусской границы.
– Быть может, вы не имели разрешения на въезд в империю?
– Я имел паспорт совершенно законный, за подписью императора, посланный мне по его приказанию; но на этот паспорт не обратили внимания; меня исторгли из среды моего семейства, чтобы везти в Петербург. Дорогой, ничего мне не объяснив, свернули и привезли меня сюда.
Губернатор хотел что-то сказать, но воздержался.
– Неужели вы ничего не знаете? Не подозреваете ли вы, в чем вас могут обвинять?
– Я решительно ничего не подозреваю, клянусь вам. Ваше превосходительство можете легко поверить, что в продолжение длинного путешествия я ломал себе голову, чтобы приискать какую-либо причину моего ареста; но я ничего не мог найти.
Губернатор, помолчав немного, сказал:
– Я прочитал все ваши произведения, переведенные на русский язык, и очень рад познакомиться с вами, но в видах вашего интереса желал бы сделать это знакомство в другом месте.
– Встретить такого человека, как вы, большое для меня облегчение, и я льщу себя надеждою, что могу, по крайней мере, остаться в вашем соседстве.
– Несмотря на все удовольствие пользоваться вашим обществом, я не могу исполнить ваше желание.
Я ужасно испугался и воскликнул с горестью:
– Неужели я не смею даже и здесь остаться. Надо быть очень несчастным, чтобы считать милостью позволение остаться в Тобольске, неужели должен я еще далее влачить свое жалкое существование.
– Я сделаю все, что от меня зависит для облегчения вашего положения, но мне приказано назначить вам пребывание не в Тобольске, а в Тобольской губернии; вы знаете, что я не вправе уклониться от исполнения данных мне приказаний; выбирайте любой город, кроме Тюмени, потому что он лежит на большой дороге.
– Я решительно не знаю Сибири; я совершенно полагаюсь на расположение и доброту вашего превосходительства; нельзя ли только мне поселиться поближе к Тобольску.
– Поезжайте в Ишим (Jchim), это самый ближайший город; всего в 342 верстах или пятидесяти милях от Тобольска, но я дал бы вам дружеский совет ехать лучше в Курган; это не много далее; он в 427 верстах или шестидесяти милях; но климат в Кургане гораздо мягче, это Сибирская Италия, там растут даже дикие вишни, но, что гораздо лучше диких вишен, там хорошее общество и можно жить очень приятно.
– Я очень устал; не могу ли я остаться здесь несколько дней отдохнуть.
– Да, – благосклонно сказал он, подумав несколько времени, – это можно; я к вам пришлю доктора.
– Я имею еще просьбу: могу ли я написать императору, – спросил я, запинаясь.
– Без сомненья.
– А моей жене?
– Также, но не иначе как чрез генерал-прокурора, который просмотрит письмо и, если не найдет в нем ничего предосудительного, прикажет доставить его по назначению.
Я почувствовал значительное облегчение.
Губернатор приказал приискать мне хорошую квартиру в городе и простился со мною, а также и Щекотихиным, с которым обошелся довольно сухо.
– Остаетесь вы здесь? – спросил меня Щекотихин.
– Нет, – резко ответил я ему.
Щекотихин сообщил мне, что губернатор спросил его, не родственник ли я или не однофамилец ли автора, но он не понял этого последнего слова.
Я, разумеется, рассмеялся. Не менее смешно было удивление Щекотихина, когда он увидел, сколько лиц знают меня в Тобольске и какое оказывают мне внимание; никто ранее не говорил ему обо мне, ни его приятель Максимов в Москве, ни Естифей Тимофеич в Казани. Откровенно говоря, я сам был очень удивлен, увидав, какою известностью пользовалось мое имя, и встретив столько сострадательных людей в столь диких и отдаленных местах.
Однако будем продолжать рассказ.
Полиция немедленно указала нам квартиру, занимавшуюся обыкновенно важными лицами, посылаемыми в Сибирь. Она состояла из двух комнат, принадлежавших мещанину. Так как он несет эту повинность бесплатно, то вовсе и не заботится о содержании квартиры в порядке. Разбитые стекла, грязные стены, на которых висели обрывки старых обоев, множество насекомых, лужи воды под окнами, издававшие тяжелый, смрадный запах, – вот что поразило нас при входе в эти комнаты; но эта квартира, казалось, была очень хорошею для того, кто за несколько минут перед тем предполагал, что будет сидеть в тюрьме. Разве не мог я ожидать этого? Если меня могли привезти в Сибирь, то точно так же могли заключить в темницу, заковать в кандалы, даже наказать меня кнутом, если бы возымели подобное желание; все это было одинаково возможно.
Теперь меня не томила более неизвестность; участь моя была решена и определена; я достиг предела моего несчастия и стал взвешивать объем моего бедствия.
Путем любезностей, изумивших моего квартирного хозяина, но обратившихся во мне в привычку, я довел его до того, что он притащил мне немного мебели, а именно: стол и несколько деревянных скамеек; он хотел, но не мог достать мне постель; впрочем, я отвык пользоваться ею и мне сделалось не в диковинку спать на полу, разложив предварительно мою шинель и старый шелковый кафтанчик, которым одевался сын мой, выходя на улицу или защищаясь от сквозного ветра; не знаю, как сунула этот кафтанчик в карету горничная, но я очень ей за это благодарен; вид его вызывает во мне ряд приятных воспоминаний. К этому присоединил я еще тюфяк, купленный мною. Вот мое смертное ложе, подумал я, ложась в первый раз, и по настоящее время считаю его таковым.
Чрез час пришел полицейский чиновник и принял меня от Щекотихина, к которому теперь слава Богу все мои отношения прекратились. Этот чиновник по фамилии Катятинский (Katatinsky) был очень предупредителен; его сопровождал унтер-офицер.
– Я буду приходить всякий день, – сказал он мне: но только для формы, чтобы сделать вам визит и узнать о вашем здоровье, так как я всякий день должен подавать о вас рапорт; но этот человек, – он указал при этом на унтер-офицера, – будет постоянно при вас находиться, не столько для того, чтобы стеречь вас, сколько для того, чтобы помогать вам и быть вам полезным.
С этими словами он вышел.
Щекотихин, довольный, что избавился от обязанности стеречь меня, сказал мне, уходя, что сейчас приведет ко мне одного приятеля, которого год тому назад также сопровождал в эти места. Он мне говорил дорогою много хорошего об этом человеке, но так как похвалы Щекотихина еще не служили для меня большою рекомендациею, то я не имел ни малейшего желания познакомиться с его приятелем. Однако познакомившись с ним, я был крайне изумлен, встретив в Киньякове (Kiniakoff) одного из самых образованных молодых людей; он говорил со мною по-французски, уверял, что читал неоднократно мои произведения, и высказал мне по их поводу много лестного; он предложил мне свои услуги, сожалел, что я испытываю участь, подобную его собственной, и что совершил путешествие в таком худом обществе, с таким негодяем! Этот лестный эпитет означал Щекотихина.
– Но он говорил мне, что вы его приятель!
– Какой приятель, Боже Избави; но вы поймете, что я был вынужден поддерживать с ним хорошие отношения.
Киньяков, сын симбирского дворянина, был сослан в Сибирь вместе с двумя своими братьями и несколькими офицерами за то, что они осмелились подтрунивать над императором; он один имел счастье остаться в Тобольске; остальные были разосланы по отдаленным местам; один из его братьев, младший, был заключен в оковы в небольшом укреплении за четыре тысячи верст от Тобольска, а другой – томился в ужасном Березове, самом страшном месте из всей преисподней.
Я нашел утешение, встретив человека, обладавшего, по-видимому, благородными чувствами, с которым по прошествии четверти часа я был уже в самых дружественных отношениях. Он обещал мне достать книги. Боже мой, какое счастье! Я узнал от него, что император изгнал из своих владений иностранную литературу; что многие из моих пьес играются очень часто, но довольно, впрочем, плохо, в театре в Тобольске; он предложил мне свою квартиру и стол, на что имел разрешение. Мы проговорили более часа и расстались очень довольные друг другом. Потом посетили меня другие лица: барон Соммаруга (Sammaruga), подполковник австрийской службы, имевший орден Марии Терезии; он дрался на дуэли из-за одной девицы во время пребывания своего в Риге; противник его, имевший большие связи, требовал, чтобы его сослали, добился этого, но не сделался чрез это счастливее, потому что Соммаруга женился на молодой особе, которая, покинув родителей, отправилась вслед за мужем, чтобы разделять с ним бедствия. Она совершила это путешествие, не зная русского языка, с одним только ямщиком. Узнав в Москве, что муж ее болен в Твери, она немедленно вернулась к нему, чтобы ухаживать за ним и потом уже направилась вместе с ним в Тобольск, где я был свидетелем ее постоянной к нему привязанности: она выказала и мне свое человеколюбие; не умея готовить кушанья, я часто довольствовался одним сухим хлебом; она не раз присылала мне суп и жаркое.
Я видел также графа Салтыкова, человека богатого и пожилого, сосланного за то, что брал лихвенные проценты; он жил на широкую ногу, был очень любезен в обществе и говорил свободно на многих языках; от него я доставал себе газеты.
Три купца из Москвы, два француза и один немец, попали также в число несчастных за то, что провезли на двести рублей контрабанды; последний из них, по фамилии Беккер, был очень хороший и чрезвычайно услужливый человек; жена его рассталась с ним и поехала в Петербург ходатайствовать об его возвращении; если бы это ей не удалось, она должна была вернуться и привезти с собой детей; я надеялся, что этот случай доставит и мне возможность соединиться с моим семейством.
Меня посетили также четыре поляка, сосланные в Сибирь за неосторожные политические поступки; это были бедные люди дворянского происхождения, которым отпускалось от казны по двадцати копеек в день. Словом сказать, посещения не прекращались, что было очень неудобно для меня, я был рад, когда наконец наступила ночь и я, освободившись от этих гостей, мог лечь в постель и свободно предаться моим мыслям.
Я заснул и ночью случилось со мною приключение, по моему мнению, очень замечательное; оно касается области медицины, и я прошу добрых друзей моих Галля и Гуфланда объяснить мне его. Около полуночи я проснулся и полагал, что нахожусь на корабле; не только я ощущал качку, но слышал даже шелест парусов и крики матросов. Я лежал на полу и мог видеть небо только тогда, когда обращал взгляд на окно; обстоятельство это еще более усиливало мою иллюзию; я чувствовал, что это иллюзия, и старался ей противодействовать; во мне как будто были две души: одна поддерживала мое заблуждение, а другая твердила, что это химера. Я прошел, шатаясь, по комнате, осмотрел все окружающее меня и убедился, что все решительно находится на месте по-прежнему, как было накануне. Когда посмотрел в окно, то все дома, за исключением одного каменного здания, показались мне кораблями, все видимое пространство – необъятным морем. – Куда влекут меня? – спрашивала одна моя душа. – Никуда, – отвечала другая, – ты в своей комнате. Это странное состояние, которое очень трудно описать, продолжалось около получаса; галлюцинация немного ослабевала и наконец совершенно прекратилась. Только сердце билось очень сильно и пульс был скорый и судорожный; но у меня не было ни жара, ни головной боли; я полагаю, что это было начало умопомешательства. На другой день меня посетил надворный советник Петерсон, старший доктор; он объяснял этот странный бред моею необычайною усталостью как физическою, так и умственною; но это объяснение показалось мне неудовлетворительным, хотя быть может и невозможно дать другое. Тем не менее я встретил этого очень хорошего человека с самым благоприятным для него предубеждением; он был уроженец той же местности, где родилась и моя жена; он скоро приобрел мое доверие откровенным и благородным участием к моему положению. В продолжение всего моего пребывания в Тобольске он оказывал мне знаки самого искреннего расположения, последствия которого я ощущаю до сей минуты. Его дружбе обязан я множеством лекарств первой необходимости, которые при том уединении, в котором я влачу жизнь мою, являются неоценимыми, тем более, что здесь нет врача. Сверх того, он всячески хлопотал у губернатора и делал невероятные усилия к тому, чтобы меня оставили в Тобольске; если это ему не удалось, то единственно по следующей причине: обыкновенно в приказе, сопровождающем ссыльного, означается, должен ли местом ссылки быть самый город Тобольск или Тобольская губерния; в последнем случае иногда положительно означается самое место в губернии, а иногда и не означается, и тогда губернатор может послать, куда ему угодно. Все мои новые друзья были уверены, что приказ относительно меня был неопределителен и что губернатор может оставить меня в Тобольске, но по правилам губернатор не может назначить местом ссылки тот город, в котором имеет сам свое местопребывание; если же он иногда и уклоняется от исполнения этого правила, то только разве в том случае, когда личность ссыльного совершенно ничтожна и нет поводов предполагать, что за ним будут следить.








