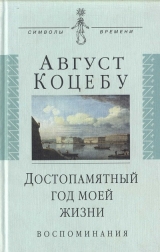
Текст книги "Достопамятный год моей жизни"
Автор книги: Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Я хотел закрыть ноги шинелью, которую мне дали, но курьер присвоил ее себе и, кроме того, надел мои сапоги; я не требовал возвращения моих вещей; спутники мои пользовались ими как своею собственностью, нисколько не беспокоясь тем, что вещи эти им не принадлежат. Если удавалось им хотя раз воспользоваться моею вещью, они присваивали ее себе уже навсегда.
Бесцеремонность их распространялась и на мои деньги; за всякую малость, которую мне покупали, или за ничтожнейшую починку кареты, я давал двадцатипятирублевую бумажку; ее разменивали, но редко приносили мне сдачи, а если и отдавали, то не в том количестве, как бы следовало. Наконец у Щекотихина не хватило денег; он без церемонии начал занимать их у меня. Однажды я отважился не согласиться на такой заем и обращение его со мною изменилось до того резко, что я вынужден был наконец согласиться на его просьбу. Все расходы на пищу падали на мой счет, и хотя я в продолжение всей дороги не ел ничего кроме хлеба, яиц, иногда немного жареной телятины, и пил только молоко, это путешествие обошлось мне более четырехсот рублей, не считая кареты. Я платил за все; спутники мои брали деньги, покупали себе водку и не давали ничего крестьянам за взятые у них припасы. Эти несчастные даже не смели жаловаться.
Я не могу не отдать должной похвалы гостеприимству русских крестьян, которое обнаруживается все сильнее по мере того, как углубляешься во внутрь страны. Они все спешат предложить вам пристанище, вы делаете им честь и одолжение, останавливаясь у них; они дают вам все, что имеют с величайшею радостью и чрезвычайно довольны, когда вы у них что-либо берете. Я не могу забыть крестьянку, которая при нашем приезде очутилась в большом затруднении; она все суетилась и твердила: «вот приехали хорошие гости, а я ничего не могу предложить им». Слово «гости» заставило меня улыбнуться.
Никогда крестьяне ничего от вас не требуют: они не хотят ничего брать за взятый у них хлеб, квас и тому подобные предметы; если же вы берете у них курицу, сливки, яйца, то от вас зависит назначить за это цену; они всем довольны, как мало им ни дайте. Не получая от солдат и курьеров ничего, кроме страшных ругательств, они воздерживаются заявлять свое неудовольствие. Я уверен, однако, что путешественник может отыскать многое у русского крестьянина, если станет обращаться с ним честным образом. Когда нам хотелось иметь что-либо, несколько выходящее из ряда обыкновенных предметов потребления, я один отправлялся на поиски и, обещая дать хорошую цену, получал в изобилии все, что желал; но способ, к которому в этом случае прибегают солдаты и курьеры, поистине возмутителен. – «Где десятский?» (это нечто вроде старшины в Германии). Он почтительно является. – «Достать нам то и то». Он извиняется, что этого достать не может. Тогда начинают его всячески ругать и угрожают поколотить; он уходит и, если найдет требуемое, то приносит; но так как он знает, что ему ничего не заплатят, то всегда выбирает и приносит самое худшее. Без этого, сильно вкоренившегося, злоупотребления путешествие по России было бы очень приятно, так как всегда встречаются добрые и гостеприимные крестьяне, которых очень легко расположить в свою пользу; какая-нибудь безделица, совсем пустая вещь, кусок сахара, данный детям, доставляют вам сейчас приятелей. Я поступал таким образом в продолжение всего путешествия и расположил в свою пользу всех матерей; я давал подарки по преимуществу маленьким девочкам, такого же возраста как и мои. Часто, очень часто на глазах моих навертывались слезы. – «Вы конечно имеете детей», – спрашивали меня крестьянки. – «Шесть человек, – отвечал я вздыхая, – самому младшему из них едва минул год». Тогда я замечал, что лица их выражали сострадание ко мне, и я садился в карету, напутствуемый их благословением.
Но прекратим это отступление от предмета рассказа и вернемся к тому, что меня касается. Вторую ночь, когда мы остановились на ночлег, приняты были большие предосторожности для пресечения мне возможности бежать; заперли ставни, поставили часовых, а постель мою устроили рядом с постелью Щекотихина, причем с другой ее стороны лег на полу курьер, так что если бы я хотел уйти, то должен был наступить на него.
Борода моя очень отросла; я хотел сам выбриться, но мне отказали в этом; надобно было позвать цирюльника. Напрасно объяснял я, что уже с давних пор бреюсь всегда сам и что если бы имел намерение покуситься на свою жизнь, то мог бы кинуться в любую реку; все это было тщетно, но Щекотихин принял к сведению сказанное мною относительно реки и всякий раз, когда мы переезжали реку, он садился против меня с тем, чтобы наблюдать за малейшим моим движением.
Глупый и жалкий человек! могущество твоего государя не может так далеко простираться; одна дорога ведет нас к жизни, но есть тысячи к тому, чтобы избавиться от нее, и никто в мире не в состоянии воспрепятствовать мне разорвать мои оковы, когда я захочу. Мне помнится, что я читал у Рейналя, что негры нередко лишают себя жизни, переворачивая язык к глотке. Благодаря Бога, я не сделаю никогда ничего подобного, во мне живет еще луч надежды; он значительно угас, но может просиять и возрастить плоды, которые заставят меня желать жить.
Мы приехали наконец в Полоцк; это единственный значительный город, попавшийся нам после Риги. Мы только переменили там лошадей; но пока их запрягали, Щекотихин счел своею обязанностью написать рапорт о своем следовании. Он делал это в каждом городе, что побудило меня сохранять хорошие с ним отношения и поступать с ним насколько можно осторожно. Я был уверен, что он умолчит о моем неудавшемся бегстве из опасения лишиться на будущее время требовавших особенной доверенности поручений сопровождать других арестованных лиц, лишиться приятного зрелища их разлуки с семейством и лестного для него звука их жалоб. Но очень могло быть, что в рапортах своих он упомянет о некоторых мелочных подробностях для меня неблагоприятных; быть может, он это и сделал, несмотря на всю мою относительно его угодливость; кто знает? Я заметил, что он не великий мастер владеть пером; он долгое время сидел над тремя строчками, и мне было очень смешно смотреть, как он три раза начинал писать конверт. Щекотихин был годен только к тому занятию, которое имел, а именно: к сопровождению осужденных на место их наказания; он исполнял эту обязанность с большою ловкостью и сметливостью, – два драгоценные качества, приобретенные им долговременным отправлением этой обязанности. Конечно, он не всегда сопровождал таких почетных лиц; он был только простым офицером, прикомандированным к сенату, но его переименовали в гражданский чин надворного советника ввиду важности возлагаемого на него поручения сопутствовать мне. Не знаю почему и на каком основании сочли нужным дать мне в спутники лицо в таком чине. Желали ли этим избежать присутствия солдат и стражи, или по другим каким-либо причинам, не знаю; но не подлежит сомнению, что Щекотихин первый раз исполнял свою должность в чине надворного советника и очень гордился этим.
Чин этот оказывал значительное влияние и на то уважение, с которым дорогою относились ко мне. Я казался всем особою важною, интересною, которую сопровождал надворный советник, тогда как важные лица и даже генералы ездили в сопровождении фельдъегеря и в простой кибитке; это лестное различие имело большое значение.
Дорогою от Полоцка к Смоленску у меня опять сделались боли в желудке; к этому присоединилось еще невольное трясение, дрожание, судороги во всех членах, сильный жар в голове и груди; все это заставляло опасаться скорого удушья. Жар начинался болью в голове, шумом в ушах и появлением искр в глазах. Пульс мой постоянно менялся, я не имел ни аппетита, ни сна, бредил наяву, имел странные фантастические видения; мысли мои путались, были неясны и смутны – я находился почти без чувств; мысль о моей жене и детях моих не имела для меня отрады; мысль же о смерти не представлялась более горестною.
Я не имел с собою никаких лекарств за исключением кремортартара, взятого из Штокманнсгофа. Самые лучшие рецепты, давно мною собранные от известных докторов Германии, были опечатаны вместе с прочими моими бумагами. Несмотря на мои просьбы, я не мог получить эти рецепты обратно; быть может, их приняли за тайную переписку или шифрованные письма. Я был лишен всякой помощи и испытал некоторое удовольствие приехать в Смоленск, где надеялся найти облегчение. Сохранением моей жизни обязан я новым лучом надежды, вновь во мне появившимся.
Мы приехали очень поздно. Щекотихин, опасавшийся постоялых дворов, приказал ехать на почтовую станцию, но нас не могли поместить в ней и так как я решительно отказался ехать далее, то он принужден был попытаться ночевать на постоялом дворе. Двор этот казался очень хорошим; содержатель его встретил нас со свечами и по широкой лестнице привел в большую переднюю. Я полагал, что мы нашли себе очень удобное помещение, но Боже, какое разочарование овладело нами при виде самих комнат. Пол весь дрожал и качался, окна без стекол, комната низкая без мебели, не было ни стула, ни скамейки, ни зеркала; стоял один стол и станок деревянной кровати; ничего более; на стенах висели клочки самых старых обоев.
Я посмотрел вокруг себя, но не счел нужным заявить какое-либо неудовольствие. Я просил принести сена на пустую кровать и немедленно лег, как только его притащили. Холод проникал из окон. Кроме халата и шинели, данных мне в Штокманнсгофе, я не имел ничего, чтобы покрыться; холод и насекомые отнимали сон.
Утром со мною сделалась сильная лихорадка; глаза готовы были выскочить из орбит. Я с нетерпением ждал, когда Щекотихин проснется, чтобы попросить позвать ко мне доктора; но этот жестокий человек отказал мне в этом. Он полагал, что отдых лучше всего поможет мне и что для этого достаточно пробыть в Смоленске один день.
Курьер, знавший только одно средство против всех телесных и душевных болезней, дал мне очень умный совет: хорошо есть и много пить.
Такое жестокое обхождение возбудило во мне негодование; в наказание я не говорил решительно ни одного слова с моим палачом и не согласился оставаться в Смоленске. Я сказал, что если уже умирать, то лучше в открытом поле. Я покинул свою жалкую кровать.
Так как дорогою я выразил желание выпить стакан ренвейна, то Щекотихин купил мне бутылку, она стоила два рубля, но вино было до того отвратительно, что пришлось его вылить, потому что мои спутники не любили вина и пили только одну водку.
Между Смоленском и Москвою мне стало еще хуже; общее онемение делало меня не чувствительным ко всему, я не видел ничего вокруг себя. Чтобы составить себе понятие о моем положении, необходимо представить человека, проснувшегося среди мрака, который, не имея ни малейшего понятия о месте где находится, желает идти ощупью, а между тем лишен всякого свободного движения.
По временам представлялась моему воображению жена моя, мимолетно, как приятный луч, достигавший глаз моих, которые одни и участвовали в этом.
Щекотихин, заметив, что болезнь моя становится опасною, стал выказывать некоторую заботливость; он обещал мне по приезде в Москву достать мне доктора. Я мало обращал внимания на это обещание и если бы в припадке горячки воображение мое не представляло бы глазам моим жену и детей, я бы кинулся в объятия смерти с тем же порывом, с каким кидаешься в объятия друга, ожидаемого с нетерпением.
Мы приехали в Москву седьмого мая старого стиля; Щекотихин по разным закоулкам, самым грязным и смрадным, привез меня к дому майора Максимова (Maximoff), своего товарища и хорошего приятеля. Этот несчастный майор жил в лачуге, состоявшей из двух маленьких комнат, в которых помещался также служивший вместе с ним прапорщик; три посетителя, очутившиеся здесь случайно, делали это помещение очень тесным и неудобным. Впрочем, майор был очень приветлив и радушен; он старался всячески облегчить мое положение; дал мне бульону, кофе и принудил лечь на его постель, которая хотя была жестка, но оказала мне большую пользу.
Щекотихин, полагая, что я сплю, сообщил своему товарищу о счастливой перемене своей судьбы. Я с удовольствием слушал, как приятель его выражал ему свое сожаление о том, что он исполняет подобного рода поручения. Но Щекотихин только улыбался, вытягивая свои морщины, и нисколько не обращал на это внимания; наконец он встал и ушел, обещая достать мне доктора; я тщетно ожидал его; когда по возвращении моего палача я просил его исполнить обещание, он ответил, пожимая плечами, что это не согласно с данными ему приказаниями.
– Разве вам приказано уморить меня?
– О нет, вы не умрете.
При этих словах я замолчал. Боже мой, подумал я, перед смертью я желал бы написать духовное завещание и проститься хотя бы письменно с моею женою. Эти две мысли только и занимали меня; но в этом мне также было отказано. Для духовного завещания требовался нотариус, как добыть его после того, как мне не позволили позвать даже доктора? Я хотел отстранить это затруднение, попросив, чтобы ко мне пригласили священника. Поверите ли, что мне отказали и в этом. Я тщетно объяснял, что независимо от спасения моей души должно принять во внимание, что я, как отец семейства, обязан привести в порядок мои дела, что никто не лишается права делать завещание, что государь, очевидно, не имеет в виду подвергать наказанию мою жену и моих детей; все эти доводы были тщетны. Щекотихин оставался непоколебимым.
– Но ради Бога, – сказал я ему, – позвольте мне написать несколько слов моей жене; вы прочтете их, вы обещали ей и повторяли мне самому обещание, что позволите мне ей писать.
Он немного подумал и согласился.
Я написал жене моей не более пяти строк; я не описывал ей моей несчастной доли, но советовал ей вооружиться твердостию и беречь здоровье, столь необходимое для детей, лишенных отца. Я перевел письмо мое Щекотихину, сам запечатал и отдал ему; он попросил майора снести его на почту. Окончив это дело, я успокоился, но чрез несколько времени курьер пришел и сообщил мне, что письмо мое сожгли. Я содрогнулся при этих словах; я не уважал Щекотихина, но возмущенный таким коварством я его возненавидел; я стал его презирать и почувствовал к нему отвращение.
Несмотря, однако, на всю его бдительность и строгий за мною надзор, мне удалось написать второе письмо. Я не могу сообщить здесь, как удалось мне это сделать; я, быть может, причиню вред сострадательной душе, давшей мне средство к этому; да вознаградит ее за это Бог. Не могу, однако, не сообщить, что и это письмо не дошло до моей жены. Курьер Александр Шульгин, поклявшийся мне всеми святыми доставить это письмо, не исполнил своего обещания.
На другой день вечером мы выехали из Москвы; вечер был прекрасный; проезжая чрез город, мы миновали березовую аллею, которая походила очень на липовую аллею в Берлине; много народа прогуливалось здесь; виднелись прекрасные экипажи, нарядно одетые и очень красивые дамы, расфранченные и статные мужчины; никто, однако, не обратил внимания на бедного писателя, который, быть может, в тот же вечер будет доставлять им развлечение одною из своих пьес. Как часто в свете счастливые и несчастливые сталкиваются друг с другом, но как редко, однако, чтобы один из них постарался распознать другого; всякий, занятый исключительно сам собою, встречает то розы, то шипы ее.
Вид этого гулянья не возбудил во мне приятного ощущения, но доставил маленькое развлечение от моих страданий. Не знаю, чему должен я приписать мое выздоровление? действию ли весны, моей полной покорности Провидению, или совершенному отсутствию всякой надежды (потому что потеря надежды доставляет спокойствие). Силы мои значительно окрепли, как только мы выехали из Москвы; я сам ободрился и старался утешить себя примерами тех несчастных, положение которых напоминало мое. Я вспомнил о Напер-Танди, о сосланных в Кайэнну; но первый принимал деятельное участие в смутах своей страны, другие же, хотя, быть может, и более меня несчастные, участвовали в управлении потрясенного государства; они были, без сомнения, невинны, но их подвергали наказанию за высказанные ими мнения; но какие же мнения высказал я? Наконец, если их страдания превосходили те, которым я подвергался, по крайней мере, моя невинность была более очевидна.
В самом деле, нет ничего мучительнее положения, в котором находится человек, который всякий раз, когда заглянет в себя, встречается с мыслью о своем несчастий. Он похож на Лаокоона, обвиваемого и давимого со всех сторон змеями.
Таким представлялся я себе, сидя в глубине кареты; я был один; возле меня не было никого, кто бы мог дать мне совет или утешить меня, или слушать мои жалобы; я не имел никакого развлечения, кроме сиплого пения курьера Шульгина и грубых пошлостей ненавистного мне Щекотихина: остроты его были одни и те же и всегда очень грубы. Если курьер засыпал, он начинал водить около его носа завязкою от трости до тех пор, пока тот просыпался; потом он начинал набалдашником тереть ему между плечами; подъезжая к горе, он кричал молоденькая горка, а к небольшому холму – вот старуха.
Оценить все отвращение, которое я должен был питать к подобным скотам, может только человек, посещавший, подобно мне, хорошее общество. Щекотихин часто твердил мне, что имеет в своем владении пятьсот душ крестьян; не знаю, правду ли он говорил, но судя по тому, что я видел, могу сказать, что он сам не имел души. Единственное хорошее качество, которое можно было в нем найти, – была неустрашимость в опасностях; он отыскивал даже те, которые можно было избегнуть; он никогда не тормозил при спуске с горы. Однажды лошади понесли нас по крутой горе, у подошвы которой протекал большой ручей; через него был перекинут мост, но по направлению, принятому лошадьми, видно было, что они на него не попадут; мы были совсем близко от края берега, когда Щекотихин не задумываясь выскочил из кареты, оступился и упал; но тем не менее поддержал экипаж, который готов был опрокинуться; ямщик круто свернул лошадей, и этим чрезвычайно отважным поступком мы избегли неминуемой опасности.
Щекотихин часто представлял нам доказательство подобной отваги, особенно при переездах чрез реки, опасные в России и особенно весною; снег так быстро тает весною, что вода сильно прибывает и превращает ручьи в большие реки. Кроме того, средства для переезда через реки очень неудовлетворительны; на две лодки, соединенные между собою ветвями и покрытые досками, помещают телеги, кареты, лошадей, людей; два гребца приводят в движение этот плавучий мост, а сзади третий дает направление; таким образом переправляются с Божьей помощью в самых опасных местах. Во время переезда вода проникает в лодки и наполняет их по мере приближения к берегу; часто вместо лодок имеется только плот из бревен, связанных между собою прутьями; при этом всегда замочишься. Такие паромы всегда тащат веревкою, но достигнув значительно быстрого течения, предоставляют их на произвол течения, давая направление по диагонали.
Мы должны были однажды переправляться чрез реку Суру около небольшого городка Васильска. Когда мы к ней подъехали, был сильный бурный ветер и эта маленькая река, совершенно ничтожная летом, до того выступила из берегов и разлилась, что затопила прилегающую местность на милю и покрывала высокие деревья. Мы долгое время ждали, прежде нежели решились переправиться; паром был на том берегу и потребовалось более двух часов, чтобы переправить его на нашу сторону; наконец мы заметили, что он начинает приближаться к нам. По тому, как он тихо приближался, несмотря на то что был пустой и имел пять лишних гребцов, можно было заключить, что если его нагрузят, то он употребит на переправу еще гораздо большее время. Все гребцы утверждали, что мы подвергнемся большой опасности и что лучше обождать пока ветер стихнет. Щекотихин не хотел слушать этого совета и требовал, чтобы нас немедленно переправили; я также желал этого; я пренебрегал судьбою и вызывал ее сделать меня еще более достойным сожаления. Гребцы решительно отказывались нас переправить, но когда мы предъявили им наши бумаги, они перекрестились и с Божьей помощью поехали.
Сначала все шло как нельзя лучше. Длинная коса защищала нас от бури и свирепых волн, но доехав до середины реки, мы подверглись ужасной качке. Ветер дул со страшной силой и до того быстро гнал нас, что несмотря на все усилия гребцов нам грозила очевидная гибель. Паром направлялся прямо на кустарник, по-видимому, значительный. Приблизившись к нему, гребцы увидели ошибку, очень испугались и, стараясь всеми силами избегнуть кустарника, подняли страшный крик, для меня непонятный, так как по моему мнению, мы могли только сесть на мель и нас спасли бы, потому что мы находились очень близко от города. Но опасения гребцов были основательны; и я убедился в том, когда, подъехав ближе, заметил, что казавшееся нам издали кустарником было ничто иное как верхушки деревьев, столь высоких, что шесты наши не доставали в этом месте дна. Таким образом мы запутались между ветвями и подвергались явной опасности, ибо паром мог быть разорван, или опрокинут. Прутья, связывавшие паром, не могли противостоять продолжительному и сильному напору волн; обе лодки разъехались бы и тогда наша карета и лошади погибли бы. Но не в этом заключалась наибольшая опасность; одна из лодок была приподнята вершиною дерева, а другая, принужденная нагнуться, заливалась водою и скоро бы затонула; наклон был уже так велик, что лошади едва держались на ногах; они съезжали вниз и пугались; мы сами, чтобы не упасть в воду, должны были держаться за колеса кареты. Такое положение не могло долго продолжаться. Щекотихин заметил, что может настать конец его отваге; он был бледен и озабочен, но взял багор в руки и вместе с курьером упер его в одну из ветвей дерева. Все гребцы последовали его примеру, оставив руль и весла в покое, что же касается меня, я завернулся в шинель, прислонился к карете, безропотно покорился всему и ожидал смерти с величайшим спокойствием. Благодаря распорядительности Щекотихина удалось спасти паром и даже немного отъехать далее, но так как все были ужасно утомлены, то нельзя было осилить течение воды и паром снова приносило к тому же самому месту. К счастью нашему, простая лодка отвалила от берега и пришла к нам на помощь; четыре ее гребца присоединились к нашим и общими усилиями одолели силу течения; мы были спасены.
Если бы я был в ударе шутить, то сказал бы, как Тамино в «Волшебной флейте», что на пути в Сибирь я прошел огонь и воду, прежде нежели проник ее мрачные тайны. Однажды ночью мы заметили большой лес, сильно объятый пламенем. Зрелище это издали казалось величественным, но когда я увидел, что мы должны проезжать сквозь этот огонь, то эта новая опасность навела на меня немалый страх. Пылающие ели, упавшие одна на другую, составляли как бы огненный свод чрез дорогу; многие деревья, объятые пламенем, угрожали падением. Деревья, выжженные снизу футов на восемь от земли, поддерживали только корою свою вершину и сучья, еще не объятые огнем. Наконец большая ель, горевшая с основания до вершины, лежала посередине дороги; мы не знали что делать, ехать ли назад или вперед; то и другое было очень опасно. Мы начали бить лошадей и заставили их перескочить по менее возвышенной части горевшего дерева. Этот переезд через огонь продолжался на расстоянии, по крайней мере, тысячи шагов.
Путешествуя по России, очень часто встречаешь подобные лесные пожары; я видел их очень много, но не в такой близи. Русские, по-видимому, очень довольны, когда случаются подобные события; столько местных дач покрывают их страну, что когда огонь является немного сократить их лесное пространство, то они не принимают никаких мер к предупреждению пожара.
Мы миновали Владимир и Нижний Новгород. Я не стану описывать этих городов; состояние, в котором я находился, не позволило мне сделать какие-либо заметки. К тому же другие путешественники уже описывали эти города и не стоит повторять сказанное ими.
Однажды утром мы собирались выезжать из деревни, в которой ночевали, как вдруг послышался почтовый колокольчик по Московской дороге. Этот приятный звук, с самой Москвы утешавший мой слух, вызвал в душе моей внезапное ощущение и заставил сердце мое биться гораздо сильнее.
– Курьер едет, – закричал мужик, – курьер!
Я выскочил мигом на улицу; действительно это был курьер, но он не привез приказа о моем возвращении. Несчастный старик в колпаке, в халате, с кандалами на ногах, ехал с этим курьером в кибитке. Это был подполковник из Рязани, человек достаточный, так же как и я отец семейства и муж, подобно мне исторгнутый от своего семейства; его ночью разбудили и схватили в постели. Ссора с губернатором была причиною его ссылки. Мы должны были делать одно и то же путешествие. Ноги его опухли от кандалов; он был почти без белья, без одежды, в самом жалком положении.
Его сопровождал полицейский чиновник из Рязани. Этот человек, грек по происхождению, казался очень честным и добрым; он очень хорошо говорил по-итальянски. Он делал все от него зависевшее для облегчения бедственного положения его достойного уважения колодника; он дошел до того, что снял с него кандалы, которые Щекотихин охотно бы на меня надел. Его веселость очень нравилась моему ненавистному спутнику; он позволил мне даже разговаривать с ним, а между тем наши разговоры могли ему не понравиться; мы вели их на итальянском языке, о котором он не имел ни малейшего понятия. Эта встреча доставила мне большое удовольствие; полицейский был очень образованный человек, и после трех недель самого полного уединения мне было очень приятно встретить человеческое существо, с которым можно было разговаривать.
С этого времени мы часто ехали вместе; по временам, правда, мы расставались, но ненадолго, и снова съезжались. Подполковник был, по-видимому, тихий и скромный человек, переносивший с большим мужеством свое несчастие. Сравнивая наши положения, я находил, что мое было более утешительно; он был счастливее меня относительно спутника, сопровождавшего его; но зато он был лишен всего, так как не успел захватить с собою ни денег, ни платья; мое положение в этом отношении было гораздо сноснее.
Этот несчастный человек, находившийся перед моими глазами, служил мне зрелищем, смягчавшим мое страдание. Он придавал мне мужество; я подражал его твердости. Я имел с собою чай, и мы часто пили его вместе; он улыбкой благодарил меня; мы охотно рассказали бы друг другу наши страдания, но в этом утешении нам было отказано.
Я не могу умолчать об одном явлении природы, встретившемся мне дорогою: это был стотридцатилетний старик; сын его восьмидесяти лет казался не старее пятидесяти. Он имел многочисленное потомство. Когда мы приехали, он лежал на скамье, на твердом тюфяке. За исключением зрения, которое было уже очень слабо, все его органы чувств очень хорошо сохранились. Он сам ходил даже в лес и драл бересту, чтобы плести лапти. Что меня всего более в нем поразило – это то, что руки его не были такие костлявые и морщинистые, как обыкновенно бывают у всех стариков. Приметив нас, он встал, оделся и предложил мне свою постель. Я был поражен таким вниманием. Меня очень тронуло, что человек старее меня на целое столетие, уступает мне свою постель и хочет ложиться сам на пол. Я не переставал наблюдать за ним и с сожалением покинул его.
Я хотел было предложить ему несколько вопросов об его образе жизни, способствовавшем, конечно, немало достижению таких преклонных лет, но говорил слишком плохо по-русски, а мои спутники были заняты. Я мог узнать от него только то, что он поздно женился и пил мало крепких напитков.
На почтовой станции перед Казанью я встретил генерала Мертенса, которого знал еще прежде. Этот генерал, немец по происхождению, был назначен вице-губернатором в Пермь. Мы подъехали вместе к Волге, и так как все окрестности на необозримое пространство были затоплены водою, то мы очень долгое время переправлялись на лодке вместе. Встреча с ним доставила мне удовольствие; я уже более трех недель не говорил по-немецки. Мы вспоминали о прошедших днях; он с участием слушал мои жалобы; Щекотихин, некогда служивший под его начальством, из уважения к нему не смел прерывать нашей беседы. Я узнал от него о многих событиях, которые были малоутешительны. Он был также очень недоволен своею судьбою.
Будучи уже старым генералом, он был, помимо желания, назначен на гражданскую должность и отправлен в Пермь, за две тысячи верст от Петербурга, где оставил все свое семейство. Назначение вице-губернатором в этот город было для него не повышением, а скорее немилостию, опалою. Я расскажу его историю в немногих словах. Судьба, бывшая для него, по-видимому, мачехой, вдруг бросила на него благосклонный взор, потому что вскоре по приезде в Пермь Мертенс получил указ о назначении его губернатором в Тверь, город, находящийся недалеко от Москвы и занимающий видное место среди русских губернских городов.
Ах! Зачем государю не угодно было также вспомнить обо мне! Если бы меня вернули с дороги в Сибирь, я с удовольствием совершенно изгладил бы из моей памяти все то, что рассказываю в этих воспоминаниях.
Мы приехали в Казань вечером, избегая по нашему обыкновению постоялых дворов. Было уже поздно; я мало видел этот замечательный город. Щекотихин имел здесь также приятелей, как и во всяком другом месте, приятелей полезных, у которых он мог пожить на всем готовом. На этот раз мы остановились в татарском предместье, в трех верстах от города, у какого-то поручика Естифея Тимофеича (Justifey Timofeitch), человека лет пятидесяти, отменного добряка. Он был женат, но не имел детей, очень дорожил и гордился дружбою с Щекотихиным и по временам просил его не оставить своим покровительством.
Можно было заметить, что он человек небогатый, но несмотря на это он и жена его угощали нас с таким радушием и предлагали нам все, что только имели, с такою ласкою, что я всегда буду помнить этих прекрасных людей. Если бы я обладал даже десятью желудками, они все были бы довольны и сыты здесь. Аппетит мой, впрочем, был также не мал; этим я был обязан в особенности почтовым станциям в Казанской губернии. Черемисы и вотяки, которые их содержат, народ грязный и грубый, не знающий гостеприимства; у них ничего нельзя найти; в избе их нельзя даже сесть; это какие-то свиные хлевы. Но несмотря на весь мой аппетит, если бы я был Санхо-Панхо[1]1
Имеется в виду Санчо Панса. Примеч. ред.
[Закрыть], я никогда не мог бы съесть все то, что предлагали мне Естифей Тимофеич и его жена. Сперва кофе и хлеб с маслом, потом пироги с говядиною, водка, два блюда рыбы, окорок, сосиски и все, что только можно себе представить; потом являлся обед из четырех больших блюд; в три часа кофе с сухарями, а в пять часов – чай с разными печеньями, а в довершение всего обильный ужин. Какому обжорству предавались тут обе сопровождавшие меня свиньи! Без сомнения, у них желудки с запасными мешками на случай голодного времени. Мало того, что меня прекрасно накормили, меня уложили спать в хорошую постель, в которой я в первый раз во всю дорогу хорошо выспался; я мог бы сказать, что пребывание мое здесь очень освежило меня, если бы множество тараканов не отравляли мне приятность пребывания в этом месте. Нельзя себе вообразить громадного количества этих насекомых, которыми была наполнена вся комната; я никогда не встречал такого множества даже в самой убогой хижине; они тысячами бегали по потолку и по стенам; если приближали только свечку, то эти тысячи превращались в миллионы; маленький кусок хлеба, оставленный на столе, покрывался ими немедленно; если собирались обедать, то ставили стол подалее от стен; впрочем, они не очень беспокоили меня в постели; я спал, не задергивая занавесок, и ни один из них меня не тронул.








