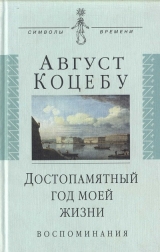
Текст книги "Достопамятный год моей жизни"
Автор книги: Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Человек, изучивший сам себя и знающий немного сердце человеческое, поверит словам моим, когда я скажу, что по мере удаления кареты я чувствовал, как ум мой прояснялся, а дух мой получал бодрость и силу. Я соображал свое будущее. Что меня ожидало? Новые поиски, обыски, рассмотрение моих бумаг, моего поведения, моего тихого образа жизни. Я имел дело с государем справедливым, который не осудит меня, не выслушав моих объяснений; что могло со мною случиться худого? Какие-нибудь мелкие неприятности, проистекающие от невладения мною русским языком; но мне дадут переводчика, утешал я себя, я буду некоторое время лишен кое-каких удобств жизни, привычек, вот и все. Но разве все это большое несчастие? Припадки хронической болезни, которая беспокоит меня уже лет двенадцать, могут усилиться, но в Петербурге есть хорошие врачи; на каком же основании должен я считать себя несчастливым? Без сомнения, это очень непонятное приключение, но оно лишь временное; я буду иметь случай увидеть друзей моих, которых и без того собирался навестить; это было целью моего путешествия; правда, поездка обойдется мне гораздо дороже; но это ведь денежное пожертвование наименее тяжкое из всех пожертвований. Кроме того, я был убежден, что митавский губернатор будет заботиться о моем семействе; он мне обещал это и ручательством верности исполнения обещанного служит его честное слово, благодушие и человеколюбие.
Рига находится в расстоянии только семи немецких миль от Митавы, а между тем мы приехали туда только в полночь. Было совершенно темно, когда мы очутились на берегах Двины, омывающей этот гостеприимный город. Так как по причине полноводия мост был разведен, то мы должны были на лодке переехать реку, что еще более замедлило нашу поездку.
Подъехав к городским воротам, курьер наш отправился в караульный дом и очень долго там оставался, что нисколько меня не беспокоило; наконец он явился и направил нас на почтовую станцию, однако ж, не городом, но большим объездом по узким и кривым улицам. Мы не долго ждали на станции; нам заложили лошадей и мы поехали далее.
Должно заметить, что по казенной подорожной мы могли получать бесплатную тройку лошадей, но почтосодержатели запрягали иногда и четвертую. За эту четвертую лошадь иногда приходилось платить прогонные деньги, а иногда нет; в первом случае расход этот падал на мой счет, так как в подорожной о ней ничего не было сказано.
Мы выехали из Риги в два часа, в самую холодную ночь; утомленный физически и нравственно, я чувствовал потребность отдыха, закрыл окна и заснул. На следующей станции я проснулся и, увидев, что светало, снова задремал.
Кто в состоянии изобразить мое удивление и ужас, когда, проснувшись чрез несколько времени, я заметил, что мы переменили дорогу. Я едва удержался, чтобы не закричать. Какое-то предчувствие внушало мне необходимость хранить молчание. Я не в силах описать то, что со мною происходило. – Куда везут меня? Где будут рассматривать мои бумаги? Эти вопросы потрясали мой ум, но не успокаивали меня. Мог ли я предполагать, что меня повлекут на край света, не произведя даже надо мною следствия.
Приехав на станцию, я спросил себе кофе, не столько из желания его пить, сколько с целью выиграть время; пока его варили, я ходил в большом волнении по комнате; Щекотихин стоял у кареты и разговаривал со станционным смотрителем; курьер наблюдал за ним из окошка и, очевидно, ждал минуты, когда он отвернется.
– Федор Карпович (так звал он меня по русскому обычаю), – сказал он вдруг, обратясь ко мне, – мы едем не в Петербург, а гораздо далее.
– Куда же? – спросил я взволнованным, дрожащим голосом.
– В Тобольск, мой милый.
– В Тобольск?! – При этом слове я задрожал всем телом и едва не упал…
– Умеете читать по-русски? – спросил он меня, не сводя глаз с Щекотихина.
– Немного, – ответил я.
– Так посмотрите на подорожную.
Я прочитал: «По указу и т. д. дана на проезд из Митавы в Тобольск надворному советнику Щекотихину с будущим, в сопровождении сенатского курьера по казенной надобности и проч.»
Можно себе представить, какие ощущения испытал я при этом ужасном открытии: я стоял точно пораженный молниею.
– Я хотел сказать вам это в Митаве, – прибавил курьер, – но за нами наблюдали; я вас очень жалею… я имею детей, жену и знаю очень хорошо…
Я поблагодарил его за это, он же просил меня не показывать вида, что открыл мне эту тайну; «потому что г. Щекотихин, прибавил он, очень крутой человек».
Щекотихин вошел в комнату; к счастию, он так же мало смыслил в мимике и в искусстве понимать выражение лиц, как и в естественной истории кукушки; иначе возможно ли было не заметить смертной бледности моего лица и судорожное дрожание всего моего тела. Он выпил стакан водки, не обратив ни на что внимания. Принесли кофе, до которого я не коснулся; я сказал, что мне нездоровится, не хочется и т. д. Я действительно сделался болен. Я заплатил за кофе; Щекотихин его выпил, и мы поехали далее. Толчки от дороги немного восстановили мои мысли. Теперь в первый раз мне пришло в голову бежать. Меня везут в Сибирь, рассуждал я сам с собою, не выслушав моих объяснений, без всякого следствия и суда, единственно на основании деспотического могущества, не сказав мне даже за что меня везут. Это решительно непонятно; государь ничего об этом не знает; я сделался жертвою отвратительного обмана; не бумаги мои составляют причину моего арестования; их бы рассмотрели, прежде нежели подвергать меня столь жестокому наказанию; вероятно, были какие-нибудь важные на меня жалобы и доносы; представлены против меня ложные доказательства, и клеветник, чтобы не быть уличенным, ссылает меня в Сибирь, не дав мне объясниться. Быть заживо погребенным в Сибири… в Сибири!.. как там оправдываться? Достигнут ли мои жалобы берегов Невы? и если достигнут, то на чем буду я основывать свое оправдание, когда мне неизвестно, в чем меня обвиняют. Бежать – единственное для меня средство спасения. Эта мысль глубоко запала мне в голову, – и я решился без промедления осуществить ее.
На вершине холма, на берегу Двины, в том месте, где находится почтовая станция, возвышается старый замок Ливонского герцога, который после долгой борьбы с христианами, принял, наконец, святое крещение со всеми своими подданными. Живописный вид этой развалины вселил во мне мысль искать спасения в этом замке, хотя бы такая попытка и стоила мне жизни. К этому присоединилось еще одно соображение: я помнил, что земля эта, известная под именем Кокенгузен, принадлежала барону Лёвенштерну, с которым я познакомился в Саксонии; он слыл за очень честного человека; я это знал, и мне пришла в голову мысль вручить ему мою судьбу.
Мы приехали на почтовую станцию; смотритель и его жена были, по-видимому, добрые люди. Пользуясь тем, что Щекотихин удалился смотреть, как запрягают лошадей, я спросил по-немецки:
– Кому принадлежит эта земля?
– Барону Лёвенштерну, – был ответ.
– Где же он живет?
– А вот там, – и мне указали на его дом, находящийся в некотором отдалении от станции.
– Он у себя дома?
– Нет, он теперь у своего шурина в Штокманнсгофе.
– А семейство его также там? (я знал его жену, прелестнейшее создание в мире, и детей, вполне достойных таких родителей).
– Да.
– А что, Штокманнсгоф находится на большой дороге?
– Да, вы поедете мимо.
– А далеко отсюда до Дерпта?
– Шестнадцать миль.
Далее уже нельзя было продолжать расспросы, лошади были готовы и надо было ехать.
Дорогою случилось с нами происшествие, доставившее мне немалое удовольствие. Нам запрягли лошадь с норовом, которая вдруг не захотела идти вперед; ямщик всячески старался сдвинуть ее с места, но тщетно: крики, угрозы, удары, нисколько не помогали, лошадь была неукротима. Спутники мои начинают всячески ругать латышей. Наконец, истощив весь запас известных ему ругательств, курьер наш обрушился на ямщика и стал бить его кулаками. Последний обиделся, соскочил с козел и объявил, что не сядет более, если с ним так обходятся. Это заявление, совершенно справедливое, привело в ярость Щекотихина, он вышел из кареты, сломал толстый сук у первого дерева, схватил ямщика за ворот, повалил его на землю и стал колотить. Он приказывал ямщику ехать далее, если тот не желал быть снова битым; ямщик стал, по-видимому, собираться влезть на козлы при помощи курьера, но вдруг бросился бежать и, обладая здоровыми ногами, скоро скрылся от нас. Курьер тщетно пытался его догнать и был принужден вернуться. Таким образом, мы очутились одни на большой дороге, с упрямою лошадью и без ямщика. Что теперь делать в таком печальном положении? Самое лучшее было возвратиться на станцию, что мы и сделали; но ехали довольно тихо, так как курьер, взявший вожжи в руки, совсем не умел править лошадьми, и дергал их то направо, то налево, что навлекло на латышей, совершенно неповинных в этом деле, новые ругательства и проклятия.
Мне не следовало бы употреблять здесь слово проклятие во множественном числе, так как русские употребляют только одно слово, но заменяющее, по правде сказать, все прочие; они повторили это слово в течение дня, по крайней мере, тысячу раз, – я нисколько не преувеличиваю.
По возвращении в Кокенгузен Щекотихин пожаловался на ямщика, но умолчал о нанесенных ему ударах.
– Вы, верно, его поколотили, – сказал станционный смотритель, – он хороший парень.
Все утверждали, что этого не было. Станционный смотритель взглянул на меня, и я в знак согласия с ним кивнул головою.
Известно, что сознание собственной вины и ошибки возбуждает гнев в грубом человеке. Наш Щекотихин, находясь в таком положении, разразился потоком неприличных слов и ужасных ругательств, которые сопровождались еще разными угрозами. Но так как станционный смотритель по закону имел право только жаловаться на это и не мог задержать дальнейшего следования курьера, то поэтому он дал нам другую лошадь; но найти другого ямщика было гораздо затруднительнее; это заставило нас прождать довольно долго, чем я со своей стороны был доволен.
Во все это время я оставался один в карете; брат станционного смотрителя, подойдя ко мне, сказал внушительно: «Ваше имя не прописано в подорожной». Я не знал, что ему отвечать, и только впоследствии узнал, что не встречая моего имени в подорожной, смотритель имел право не давать лошадей. Если бы я знал это ранее, то предложил бы ему воспользоваться его правом. Что бы стал делать Щекотихин? Он принужден был бы ждать и сообщить об этом в Ригу. Рижский губернатор, не зная ничего, отнесся бы к митавскому губернатору, на что потребовалось бы много времени, а в этом деле, как и во всяком другом, выжидание было бы очень кстати; я мог бы, пользуясь этим, обдумать и устроить мое бегство, но не зная ничего, я не воспользовался этим удобным случаем и мы после обеда снова пустились в путь.
Дорогой я осматривал местность и в особенности Штокманнсгоф. Двина текла по правой стороне, а на левой возвышался ряд холмов, покрытых лесом. В шесть часов мы были на пограничной станции Лифляндии и Витебской губернии.
Скоро будет конец, думал я про себя. Проехав Лифляндию, я не буду иметь уже в стране друзей, знакомых, и не встречу человека, который говорил бы одним со мною языком. Теперь или никогда возможно было мое бегство. Я немедленно заявил, что хотя и рано, но я не в состоянии ехать далее и хочу отдохнуть. Эта просьба не понравилась Щекотихину; он желал везти меня со всевозможною скоростью; однако он остановился по моему желанию; если он делал мне такое снисхождение, то потому, что в данной ему инструкции предписывалось ласково и вежливо со мною обходиться.
Мы стали устраиваться, чтобы провести ночь. Почтовая станция была отвратительная; свиньи, куры наполняли комнату. Я настаивал перебраться в находившийся недалеко каменный постоялый двор, где, по-видимому, можно было найти более удобств. Настоящею же причиною моих настояний было то, что почтовая станция представляла собою место крайне неудобное для осуществления моего замысла.
Постоялый двор, к которому мы направились, содержал еврей; двор этот принадлежал к Штокманнсгофу и стоял фасадом на большую почтовую дорогу, которая отделяла его от Двины. В нескольких шагах начинались те холмы, на которые возлагал я всю мою надежду. Курьер начал приготовлять ужин; он хвастался искусством варить кушанья и заколол курицу, обещая сварить из нее прекрасный суп. Я делал вид, что очень доволен этими приготовлениями, и пошел вместе с Щекотихиным прогуливаться перед кабаком. Я осматривал берега реки и плоты, которые по ней неслись. Я знакомился втихомолку с местностью, по временам входил в свою комнату и смотрел на окошко, завязанное простою веревкою. Я убедился, что оно может содействовать осуществлению моего замысла, так как оно открывалось и закрывалось без всякого шума.
Щекотихин искал что-то и оставил на столе несколько листов бумаги; из предосторожности я взял с собою один лист, не зная еще сам, какое я дам ему назначение.
В девять часов вечера курьер принес ужин, состоявший из очень жирного супа, сосисок и данцигской водки; эти два последние предмета горничная моей жены положила без моего ведома в карету.
Чтобы не обидеть курьера, я съел несколько ложек супа и обнаруживал некоторого рода веселость, которая показалась всем довольно естественною. Душа повинуется гораздо лучше тела; несмотря на все мои старания и принуждения я не в силах был проглотить куска. Такое отсутствие аппетита я объяснил крайним моим утомлением.
Я встал из-за стола и собирался лечь спать. Спутник мой хотел, чтобы я лег на постель, единственную во всем постоялом дворе, но она находилась в отдаленной комнате; я сказал, что она очень грязная и что я предпочитаю спать на сене, которое просил набросать около окошка и покрыть моим халатом. Я завернулся в мою шинель и готовился совсем одетый лечь на эту походную постель, как вдруг вбежал курьер, чтобы снять с меня сапоги. К счастию, он поставил их невдалеке от меня; я лег и притворился спящим.
Мои спутники сидели за столом до тех пор, пока было что есть и пить; потом они также легли спать. Щекотихин лег возле на скамейку, так что нас разделял только стол. Над столом находилось окно, чрез которое я предполагал бежать. Курьер же лег спать в карете, стоявшей вблизи окна.
Было около одиннадцати часов. Ночь была темная, хотя стояло полнолуние. Щекотихин спал. Это было самое удобное время, но, к несчастию, проклятые жиды пели и кричали во все горло – это было накануне шабаша. То хозяин, то его жена, то дети проходили по нашей комнате с огнем. Они производили настоящую адскую возню, от которой по временам Щекотихин просыпался и жестоко бранился. К его брани я присоединил мои просьбы прекратить возню; но все было напрасно, возня продолжалась всю ночь, до двух часов утра, когда жиды наконец улеглись и все успокоилось.
Пользуясь этою тишиною, усыплявшею людей, я подумал о моем бегстве. Прежде всего я встал на колени и осторожно развязал веревку у окна; я это сделал без всякого затруднения и без малейшего шума. Курьер наш храпел, что меня также немало успокаивало. Ощупью отыскиваю я свои сапоги, и держа их в руках, а также мою шинель, влезаю на стол; я делаю это с возможною осторожностью, едва переводя дыхание, удерживаясь от всякого движения, лишь только слышу, что Щекотихин ворочается. Все идет прекрасно, но вот новое затруднение. Окно находилось от земли на вышине человеческого роста; хочу вылезать, спускаю ногу, но она не может достать земли и не находит в стене ничего такого, на что могла бы опереться. Что теперь делать? опустить и выдвинуть другую ногу? но я не могу этого сделать, не опершись сам на окно; для этого мне нужно располагать обеими руками, а между тем левая рука моя занята. Кинуть сапоги и шинель на улицу? но, падая на землю, они произведут шум, и если Щекотихин проснется ранее, чем я успею последовать за моими вещами, тогда прощай все мои надежды! Но мне ничего другого не оставалось делать; поэтому я спускаю осторожно по стене мою шинель, она тихо падает на землю и служит подушкою для моих сапог, следующих за нею за окно без всякого шума; теперь моя очередь спуститься. Я крепко уперся руками, бросился вперед и одною ногою коснулся колеса кареты, а другой земли; все было кончено.
Хотя я и выскочил из окна, но мне необходимо было еще кое о чем подумать. Курьер громко храпел, и я мог полагать, что он будет спать еще долгое время; но Щекотихин, чувствуя свежий воздух из открытого окна, мог легко проснуться и заметить мое бегство. Для устранения этого я задвинул насколько мог окошко; потом завернул за угол, закутался в шинель и надел сапоги.
Я прошел по сырому лугу, позади кабака, и скоро вышел снова на большую дорогу. Я намеревался идти в Кокенгузен и убедить станционного смотрителя взять меня на свое попечение. Надежды, возложенные мною на этого человека и его семейство, были основаны отчасти на добродушной его наружности, отчасти на испытанных им накануне неприятностях, за которые он, вероятно, пожелал бы отомстить. Кроме того, я не думал, чтобы он остался нечувствителен к значительной сумме денег, которую я охотно бы дал за эту услугу.
Если бы он не согласился скрыть меня у себя или если бы он не имел удобного для этого места, в таком случае я скрылся бы в развалинах старого замка в Кокенгузене; я сговорился бы с ним только о том, чтобы он носил бы мне туда пищу. Потом чрез его посредство я сообщил бы о моем здесь пребывании барону Лёвенштерну, который с своей стороны написал бы об этом жене моей, а жена моя – нашим друзьям. Короче сказать, я составил план, по-видимому, очень удобоисполнимый, подробности которого не считаю, однако, нужным здесь объяснять.
Но одно обстоятельство испортило это предположение. Мне необходимо было еще в ту же ночь прибыть в Кокенгузен, чтобы Щекотихин не опередил бы меня в этом месте; но жидовский шабаш слишком замедлил мое бегство; теперь было по крайней мере три часа, и мне нужно было не менее пяти часов, чтобы пройти все расстояние до Кокенгузена. Могло случиться, что Щекотихин рано проснется и настигнет меня, кроме того, я должен был опасаться явиться в Кокенгузен днем: туда по всей вероятности пришли бы меня искать и послали бы за мною погоню. Поэтому я решился продолжать свой путь всю ночь и скрыться с наступлением дня в лес, покрывающий холмы.
Составив себе такой план, я шел вдоль большой дороги, по прилегающим к ней лугам. При лунном свете я увидел дом, который накануне принял за военное укрепление. В Лифляндии весьма часто встречаются дома, разбросанные в разных местах равнины; они служат местом жительства для офицеров, когда их полки располагаются в окрестности; по уходе войска дома заколачиваются. Накануне я уже заметил, что окна и двери этого дома закрыты, а находящаяся при доме будка для часового пуста.
Предполагая, что в доме этом никто не живет, я хотел пройти около него, так как он был вдалеке от большой дороги.
– Кто идет? – закричал часовой.
Я испугался очень этому вопросу, которого не ожидал, но дал, однако, необходимый ответ.
– Куда идешь?
– В Штокманнсгоф.
– Но ведь большая дорога там, а не здесь?
– Я не заметил дорогу.
Я намеревался идти далее, но часовой остановил меня.
– Послушай, любезнейший, – сказал я ему, – я управляющий из Штокманнсгофа и приходил навестить девушку; не говори, пожалуйста, что ты меня видел.
При этом я дал ему несколько денег; он что-то проворчал, но пропустил меня.
Это маленькое приключение сделало меня боязливым; я опасался другой подобной встречи и шел просто по большой дороге; если бы меня и встретил кто-нибудь, то в этом не было ничего особенного; к тому же по дороге было гораздо удобнее идти.
Но вот и другое приключение. Пройдя несколько верст, вдруг я слышу, хотя и довольно далеко позади меня, что забили тревогу. Надо знать, что это такое.
В деревнях в России, и даже в предместьях городов, между двумя столбами укрепляют на веревках доску. Когда хотят позвать прислугу к обеду или на работу, или просто означить час, колотят в эту доску толстою палкою, что производит очень резкий звук, который слышится на далеком расстоянии. Я испугался теперь этого звука. Еще очень рано, подумал я, работники нигде так рано не завтракают; судя по ударам в доску, они означают не часы; их выбивают совершенно иначе и реже, теперь же колотят чрезвычайно часто. Ах! я догадываюсь: Щекотихин открыл мое бегство; он делает тревогу в кабаке; быть может, он узнал от часового, что тот видел меня; он меня преследует и собирает для погони за мною окрестных жителей.
Короче сказать, этот звон показался мне весьма подозрительным и побудил меня свернуть с большой дороги. Я тотчас же углубился в самую чащу леса. По временам мне попадались среди леса прогалины, которые я быстро пробегал, стараясь по возможности пользоваться прикрытием больших деревьев. Мало-помалу лес становился все чаще и чаще; я примечаю холм, на котором надеюсь найти себе убежище и направляюсь к нему по самой ближайшей тропинке, которая приводит меня к болоту. По мере того, как я подвигаюсь вперед, я все более и более вязну, место оказывается чрезвычайно топкое, я ухожу в живую грязь по колена, долгое время бьюсь из всех сил, наконец совершенно изнемогаю и останавливаюсь. Начинает светать, но это для меня бесполезно; я нахожусь среди густого леса, меня окружают со всех сторон молодые сосны, так что я ничего не вижу далее десяти шагов от себя. Что делать? Возвратиться назад? Я бы предпочел этому верную смерть. Лишь только мне показалось, что я оправился, я напряг все свои силы и после часовой очень трудной ходьбы дошел до холма. Он не представлял на деле того, что мне показалось издали, и я продолжал путь. Перебираясь с одного холма на другой, я нахожу тропинки, которые ведут к небольшим, худо возделанным полянам в самом лесу; я всячески старался избегать их, для чего мне приходилось очень часто уклоняться в противоположное направление.
При пасмурной погоде, которая стояла, я не был бы в состоянии до вечера отыскать большую дорогу, если бы меня не руководила Двина, шум вод которой мне слышался все время. Наконец после множества обходов я замечаю еловую рощу, очень густую и темную, а посреди ее две большие, старые березы, дружески соединившие свои ветви; это напомнило мне наш союз с женою и казалось счастливым предзнаменованием; я направился к этим деревьям, не предполагая, чтобы под тенью их могла встретиться какая-либо неприятность.
Было не более семи часов, а между тем о дальнейшем путешествии нельзя было и думать ранее десяти часов вечера. Следовательно я имел много времени обдумать о том, как и куда идти. Прежде всего я очистил от грязи сапоги и себя, и если бы воздух был теплее, а место не так сыро, то я подумал бы и осушить себя; теперь же я завернулся в шинель и сел возле одной березы. Ели окружали меня сплошною стеною, после которой шагах в тридцати начинался мелкий, густой заповедный лес, а за ним возвышался песчаный, пустой холм; сквозь ветви деревьев я мог разглядеть всякого, кто хотел бы спуститься по холму или идти по роще. Вокруг меня, насколько я мог окинуть глазом, тянулись леса.
Теперь, подумал я, Штокманнсгоф не далеко от меня; там живет г. Байер, отец г-жи Лёвенштерн; я слышал о нем очень много хорошего; он очень благородный человек; в самом деле, могла ли бы его дочь обладать столь прекрасными качествами, если бы она не пользовалась заботами и примером своих родителей. Поэтому я думал, что могу вполне на него рассчитывать, если дойду вечером до его дома; но скоро, однако, я раздумал, сообразив, что имение это находится близ большой дороги; Щекотихин, верно, уже съездил туда и приказал жителям задержать меня, где бы то ни было; как мне проникнуть к г. Байеру без того, чтобы меня не заметила его прислуга; она узнает мою тайну и воспрепятствует благотворительности хозяина. Байер не такой человек, чтобы можно было его подкупить; только великодушный порыв сердца может расположить его в мою пользу. Мой первый план заслуживает предпочтения; пойду в Кокенгузен; Щекотихин напрасно сделал тревогу и напрасно опередил меня; люди, которых я встречу в Кокенгузене, будут смеяться над его беспокойством и помогут мне для того, чтобы отомстить ему. Если он дал им денег, то я дам вдвое. Впрочем, чтобы сообразить все могущие случиться события, очень хорошо иметь в своем распоряжении целый день.
После этого я вынул из кармана тот лист бумаги, который случайно взял с собою, разорвал его и карандашом, мокрыми руками, написал несколько писем, именно г-ну Байеру, барону Лёвенштерну, моей жене и еще несколько записочек, о которых теперь умолчу. В то время как я писал, вдруг нашла гроза. Мне было известно, что стоять под деревом во время грозы довольно неосторожно, но мне теперь и в голову не пришло оставить это мирное убежище; я даже скажу, что желал, чтобы молния нашла меня здесь; я всегда желал подобного рода кончины и считал ее самою лучшею; я считал бы благодеянием такую сладкую, тихую смерть, которая положила бы конец моим страданиям. Но вышло иначе; гроза разразилась сильным градом, перешедшим в проливной дождь; я весь промок до костей.
Дождь этот, очень неприятный сам по себе, оказал мне большую помощь; я томился жаждою, язык мой до того высох, что приставал к нёбу. Прекрасные капли воды висели на деревьях; я прикладывал к ним свои губы и лизал таким образом одну еловую ветвь за другою. Облизав все окружавшие меня ветви, я сделал несколько шагов далее, чтобы достать другие; я должен был употреблять при этом большую осторожность: случалось, что я кидался на ветку со слишком большою алчностью; капля падала на землю и я не мог ее словить; впрочем, я скоро приобрел ловкость в этом деле, – но незванный гость лишил меня этого простого напитка – появилось солнце и обсушило все деревья.
Я услыхал стук катившейся кареты по направлению, как мне показалось, большой дороги; я подумал, что Щекотихин едет в моей карете, чтобы удобнее искать меня; за исключением этого, ни малейший шорох, производимый человеческим существом, не достигал ушей моих до настоящей минуты; но около двенадцати часов послышался шум, сильно меня испугавший. Крестьянин верхом на лошади ездил по равнине по всем направлениям; он скакал по лугам, взбирался на холмы, спускался с них, осматривал и шарил по кустарнику. Не зная более куда ехать, он направился прямо к моему убежищу; к счастью, спасительная чаща, давшая мне приют, скрыла меня совершенно; мужик проехал.
Я еще ранее удостоверился, что никакая дорога не пролегала по этому направлению; без сомнения это был один из посланных за мною в погоню.
Через полчаса вблизи проехала телега; но она не останавливалась; в этом случае, как и в первом, я совершенно растянулся по земле.
После полудня я заметил, что лес, находившийся позади меня, не простирается так далеко, как я первоначально это полагал; впереди меня и возле очень часто проезжали телеги. Три или четыре деревенские девушки с песнями и смехом прошли неподалеку; конечно, они не были из числа посланных меня схватить; я предположил, однако, что невдалеке от меня проходит какая-нибудь дорога.
Но около пяти часов вечера я испытал страх, значительно превосходивший все испытанное мною до того; я услыхал лай охотничьих собак и человеческий голос. Мне пришла на мысль история Иосифа Пигната, который убежал из тюрьмы инквизиции и был преследуем охотничьими собаками. Правда, я знал, что в Лифляндии не употребляют собак на охоту за людьми, но животное, которое собаки преследовали, могло бежать по направлению ко мне, а собаки, держась следа, добежали бы до места, где я скрывался. Всем известно, что, завидя человека, собаки лают совершенно иначе, нежели при виде зверя, поэтому лай их указал бы охотникам на мое присутствие в этом месте; необходимо было для моего спасения, чтобы собаки держались бы шагах в двухстах от меня. В ужасном беспокойстве я завернулся как можно плотнее в шинель, лег на землю и поручил свою участь вполне судьбе; однако собаки вскоре удалились, преследуя зверя по другому направлению.
Я не могу теперь сказать, была ли это настоящая охота за зверем или, быть может, преследовали собаками меня. Я имею полное основание предполагать, что я составлял цель этого преследования, так как было такое время года, в которое охота воспрещена. С другой стороны, впрочем, известно, что пастушьи собаки гоняют весною дичь и причиняют этим немалый вред настоящей охоте.
Помимо ужаса, наводимого на меня действительною опасностью, я часто делался жертвою обманчивых представлений моего воображения. Раз тридцать я принимал за человека старый ствол дерева, стоявший в заповедном лесу; с наступившими сумерками стало еще хуже. Мне показалось, что впереди меня стоит человек в зеленой фуражке и таком же камзоле и прицеливается в меня; я различал его ружье, черты его лица, которые казались довольно привлекательными и даже преисполненными добродушия; все это представилось мне так живо, что я снял свою шинель и делал этому человеку знаки, чтобы вывести его из заблуждения, до тех пор, пока сам не разогнал свое собственное.
Если бы я оставался в этом лесу еще более продолжительное время, меня постигло бы расстройство ума, которое довело бы меня, быть может, до безумия. Голова моя горела, в ушах был шум, в глазах сверкали искры, руки и ноги были точно заморожены, все тело мое окоченело от холода, и пульс мой судорожно бился.
Я чувствовал, что болен, очень болен; но знаете ли, что меня поддерживало? мысль о моей жене, о моем ангеле. Сладкое имя ее, тихо произнесенное, оживляло последние мои силы и поддерживало упадавшую бодрость. Но этот талисман действовал только на душу, истощенное же тело мое требовало другого средства.
Это была суббота, вечер. На станции перед Митавой я выпил чашку кофе и съел кусок хлеба с маслом, на другой день я съел сухарь; в пятницу я проглотил три ложки супа и затем ничего более; за исключением капель воды с деревьев, я не ел ничего целый день с самого утра; я знал, что надо есть, чтобы не умереть с голоду в лесу или на дороге. Что за ничтожная вещь – деньги! Я имел с собою более семисот рублей и, несмотря на это, не мог достать себе куска хлеба. Прибавьте к этому, что я не смыкал глаз, потому что непродолжительное усыпление мое в карете, нисколько меня не подкрепившее, нельзя считать за хороший сон.
Когда еще более стемнело, вальдшнеп пролетел над моею головою; его резкий, сиплый голос вызвал в моей душе воспоминание об одном из самых приятных для меня времяпрепровождений. Я рассчитывал во время пребывания моего в Лифляндии доставить себе истинное удовольствие, отправляясь в прекрасные весенние вечера на тягу за этою перелетною птицею, как известно, очень редкою в Германии. Воспоминание об этой неосуществившейся надежде вызвало, с быстротою молнии, целый ряд других воспоминаний. Глубоко вздохнув, следил я за пролетом вальдшнепа; настал час, когда он вылетает из лесу, это навело меня на мысль, что и мне пора сделать то же самое.








