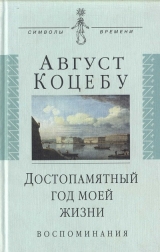
Текст книги "Достопамятный год моей жизни"
Автор книги: Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
17) Швейцарская песня, законченная мною в Вене, нечто вроде четверостишия по поводу низверженного дерева свободы.
18) Заметки о почтах в Пруссии, по преимуществу об экстренных почтах.
19) Каталог лекарств одного аптекаря в Кенигсберге.
20) Несколько заметок и набросков, содержащих в себе конспекты театральных пьес; начатки стихотворений и тому подобные мелочи, которые нисколько не касались, однако, политики.
21) Несколько печатных листов, принадлежащих к альманаху, которые г. Роде в Берлине просил меня передать секретарю Герберу в Риге; листы совершенно ничтожные по содержанию.
22) Начало оперы.
23) Дневник состояния моего здоровья за последние годы.
24) Придворный календарь, издаваемый в Готе, на листах которого я написал несколько заметок о своем путешествии.
25) Вырезанная на камне печать, завернутая в письмо одного из моих друзей, поручившего мне заказать ему эту печать. Печать состояла из герба, высланного из канцелярии герольдии в Петербурге, почему и не могла возбуждать подозрения.
26) Альманах, изданный в Веймаре с проклеенными листами белой бумаги между его страницами. В этом я подражал мысли знаменитого Франклина, о чем, если я не ошибаюсь, было напечатано в одном из берлинских журналов. Этот великий человек исследовал весьма тщательно все свои недостатки и составил им целую таблицу, твердо решившись избавиться от них мало-помалу. Всякий вечер он отдавал себе точный отчет в достигнутых им в этом отношении успехах и таким путем достиг усовершенствования с каждым днем и все более и более подчинял себе свои страсти. Как я ни далек от человека, взятого мною за образец, но я старался, по крайней мере, следовать его доброму и мудрому намерению и могу уверить, что это средство мне хорошо удалось; по собственному опыту я могу рекомендовать этот способ всем, желающим усовершенствовать нравственную свою природу; понемногу ощущаешь страх заглядывать в альманах, опасаешься найти страницу, преисполненную упреков, и часто обуздываешь свою страсть, которая увлекает, потому что вспоминаешь, что вечером надо будет записать точный отчет в альманах.
27) Все мои новые сочинения, находившиеся в рукописи: «Октавио», «Байард», «Иоанна Монфокон», «Густав Ваза», «Осторожная женщина в лесу», «Желание блистать», «Наставники» (перевод моей жены); «Аббат де л’Эпэ», «Награда правды», «Эпиграмма», «Два Клинсберга», «Узник», «Новый век», «Дом удовольствия диавола». Во всех этих произведениях не было ни одной сцены, которая могла бы навлечь на меня малейшую неприятность за выраженные мною политические или нравственные мысли. Я взял эти произведения с собою, имея в виду продать их для театра в Риге, по примеру того как я это делал прежде; некоторые из этих сочинений были переведены в Веймаре господином дю Во (du Veau). Я хотел предложить эти переводы французскому театру в Петербурге.
28) Наконец большой том, форматом в лист бумаги, переплетенный; это был архив всех моих дел, писем и тайн за последние пять лет. Необходимо сказать несколько подробнее об этом фолианте, потому что он один уже мог доказать полную мою невинность; всякий ознакомившийся с его содержанием узнавал меня самого так же хорошо, а быть может еще и лучше, нежели я сам себя знал.
Все мои сношения, все что я писал, думал и предполагал, все это было занесено в этот фолиант; он содержал в себе следующее:
а) Сведения о моем приходе и расходе; в приходе означалось всегда, за что получено, сколько, от кого, когда и как.
б) Журнал, веденный в Вене и касавшийся театра, за исключением незначительных прибавлений.
в) Список по годам всех писем, полученных мною и мною написанных, с означением, от кого и откуда, а также кому и куда.
г) Черновые всех более значительных и важных писем. Этим представлялась полная возможность немедленно узнать, с какими лицами находился я в переписке в последние пять лет и по какому поводу. Я убежден, что в письмах этих не найдется ни одного подозрительного имени, ни одного двусмысленного слова.
д) Дневник обыденных, достойных внимания, событий, которые все касаются исключительно моей домашней жизни; здесь записывал я день рождения ребенка, появление первого его зуба, посадку липы в день рождения моей жены, болезнь кого-либо из членов моего семейства, день, приятно проведенный в деревне в красивом месте, посещение друзей и т. п. Подобного рода предметы составляют все содержание дневника, который, если и не имеет большого значения в глазах других, доказывает, по крайней мере, самым неопровержимым образом, что я находил много радостей у себя дома, в среде моего семейства.
е) Заметки о моем саде в Фриденталь; о том, что я сажал, сеял и собирал там.
ж) Список моих литературных произведений в течение года.
з) Предположения о новых литературных произведениях. Это представляло самое убедительное доказательство того, что я никогда не вмешивался в дела политики и не имел ни малейшего к тому желания.
и) Список книг, прочитанных мною жене моей, и несколько незначительных пьес.
Я спрашиваю читателя, что подумал бы он об авторе, если бы ему попался в руки подобного содержания фолиант и он прочитал бы его?
Хотя я и не должен был предполагать, что эта книга попадется в чужие руки ранее моей смерти, но так как случилось иначе, то считаю себя вправе сослаться на эту книгу. Каждый, знакомый с природою человека, согласится со мною, что тот, кто ведет подобного рода заметки, не дает основания предполагать, что он худой или опасный человек.
Вот содержание находившихся при мне бумаг, насколько слабая моя память в состоянии их припомнить. Если я и забыл некоторые из них, то, без сомнения, они не имели большого значения; они не могли иметь влияния на мою судьбу или изменить в чем-либо мнение, которое составилось о моей особе. Поэтому читатель теперь может судить, насколько я мог оставаться спокойным не только по причине, но и по доказательствам моей невинности, которая при самом легком, поверхностном взгляде бросалась в глаза без всякой малейшей с моей стороны попытки к моему оправданию.
Если бы только я желал бежать, то сделать это было весьма легко во время переезда из Полангена в Митаву. На вторую ночь, которую мы провели на станции, я встал очень рано и вышел на двор. Офицер, сопровождавший меня, спал в отдаленной комнате, а казак храпел в передней вместе с моими двумя лакеями; что могло мешать мне нанять крестьянскую лошадь и доехать до границы, от которой мы находились в небольшом расстоянии, – но я далек был от подобной мысли.
26-го апреля (старого стиля) мы приехали в Митаву в два часа утра; мы остановились в той же самой гостинице и в том же самом флигеле, в котором помещались во время последнего нашего проезда, но, по правде сказать, мы испытывали совершенно другие ощущения. Мы отдохнули несколько часов; здесь я даже оставался всю ночь без всякого надзора.
После нескольких часов тревожного сна я оделся, чтобы идти в сопровождении моей стражи сделать визит г. Дризену, губернатору Митавы. Во время пребывания моего в Петербурге я познакомился с этим достойным уважения человеком, и он со своей стороны оказал мне особенное внимание. Я был очень доволен, что на его долю выпала теперь обязанность рассмотреть мое поведение и образ моих мыслей. Заранее довольный тем, что будет, я пошел к нему с полною уверенностью, дав обещание жене моей сообщить ей немедленно об окончании дела; мы полагали оба, что дело это займет не более четырех часов времени. Ах! скольким разочарованиям подвергается тот, кто полагается единственно только на свою невинность!
Люди губернатора при появлении моем в передней заметили мне, что я не могу явиться к губернатору в простой одежде, а должен надеть мундир. Впрочем, узнав от меня, что я иностранец и не могу надеть другого платья, потому что оно в чемоданах, которые опечатаны, они ничего более не возражали.
Мы ждали довольно долго во второй комнате; это дало мне возможность рассмотреть странную ее меблировку. В этой комнате стоял диван и несколько стульев, но на стенах висели картины, как бы с особенным намерением здесь помещенные. Волки раздирают козленка, ястреб кидается на зайца, лисица, пойманная в капкан, медведь ищущий добычи, – вот содержание этих картин; но всего более поражала большая картина, на которой были написаны четыре строки приблизительно следующего содержания: «Человек делает ручными львов, тигров и пр. пр., он укрощает самую бешеную лошадь, но он не может укротить свой язык». Все это по очень распространенному в старые времена обыкновению было изображено частью в лицах, частью словами. Так, например, вместо слова человек изображен был действительно человек, вместо слова лошадь нарисована была где нужно лошадь, вместо того чтобы написать слово язык – был нарисован большой язык, обвязанный уздою. Надо признаться, что содержание этих картин не было занимательным, веселым, и поэтому они возбуждали во мне мысли совершенно различные от занимавших меня вначале.
Офицера, сопровождавшего меня, позвали к губернатору, а я остался один. Через несколько минут они вышли оба; губернатор, видимо, затруднялся встречей со мной; впрочем, он очень любезно вспомнил о нашем прежнем знакомстве; по его словам, он читал мои сочинения и как всегда испытывал большое удовольствие, хотя иногда они и были написаны с некоторою язвительностью.
Меня интересовало в настоящую минуту, однако, совсем не это. Я уверял его, что слишком счастлив доказать ему вполне всю свою невинность и просил его в возможно скорейшем времени приступить к рассмотрению моих бумаг.
– Это меня не касается, – сказал он мне, – я имею только приказание отправить их запечатанными в Петербург, и вы должны немедленно следовать туда же.
Я был сначала смущен этим ответом; но тотчас же оправился и заметил, что никогда до настоящей минуты не разлучался с моею женою и желаю, чтобы она сопровождала меня. По-видимому, он готов был согласиться на мою просьбу, но вследствие замечания, сделанного одним из секретарей, решительно отказал мне в этом. Тогда я сказал ему, что не ручаюсь, чтобы жена моя сама не пришла просить его о том же на коленях.
– Избавьте меня от такой сцены, – ответил он, – я сам муж и отец семейства; я сознаю ужас вашего положения, но ничем не могу помочь; я должен в точности и неуклонно исполнить мою обязанность. Поезжайте в Петербург, оправдайтесь скорее и дней через пятнадцать, никак не более, вы опять будете среди вашего семейства; жена ваша теперь останется здесь; успокойтесь, мы сделаем для нее все, что предписывают нам человеколюбие и наше сердце.
При этих словах я вошел с ним вместе в его комнату; он оставил меня одного и удалился, чтоб отдать приказания, к несчастью, слишком близко меня касавшиеся.
В этой комнате находилась одна молодая особа с очень привлекательною и доброю наружностью, без сомнения, это была дочь его; она занималась какою-то дамскою работою.
При входе моем она поклонилась очень благосклонно; но ничего не говорила и только по временам смотрела на меня из-за своей работы.
В ее взглядах было более сожаления, нежели любопытства; по временам она вздыхала; не трудно понять, что участие се ко мне мало меня успокоивало. Губернатор скоро вернулся.
– Теперь в России не те времена, что были прежде, – сказал он мне, – справедливость строго соблюдается.
– Поэтому я могу быть совершенно спокоен, – ответил я ему.
Он очень удивился тому, что я возвратился в Россию по собственному желанию и в особенности, что я привез с собою свое семейство.
Без сомнения, человек, путешествующий с злостными намерениями, не возьмет с собою жену, троих детей, старую гувернантку и двух лакеев; если я возвращался по своей доброй воле, следовательно был глубоко убежден в совершенной своей невинности и вполне доверял разрешению, данному мне государем.
Вскоре явился какой-то господин в гражданском мундире.
– Надворный советник Щекотихин (Schekatichin), – сказал мне губернатор, – весьма почтенный человек, который поедет с вами; будьте спокойны, вы в хороших руках.
– Говорит ли он по-немецки или по-французски?
– Он не понимает ни того, ни другого языка.
– Очень сожалею, я позабыл говорить по-русски.
После этого губернатор представил меня ему; насколько было возможно, я объяснился с ним по-русски, заменяя недостающие слова знаками: я взял Щекотихина за руку, пожал ее дружески и просил его быть ко мне благосклонным; он ответил дружественной гримасой.
Прежде нежели продолжать рассказ, я постараюсь по возможности очертить этого человека. Надворный советник Щекотихин был лет сорока от роду, имел темно-коричневые, почти черные волосы и лицом напоминал сатира; когда он хотел придать своей физиономии приветливое выражение, две продолговатые морщины пересекали его лицо до самого угла глаз и придавали ему выражение презрения; крутость его манер обличала, что он находился прежде в военной службе, а некоторые отступления от правил приличия показывали, что он никогда не посещал хорошего общества и не получил должного воспитания – так, например, он очень редко употреблял платок, пил прямо из бутылки, хотя перед ним и стоял стакан и т. п.; с самым грубым невежеством он соединял в себе все наружные признаки большого благочестия; он не имел ни малейшего понятия о причинах солнечного и лунного затмения, молнии, грома и т. д., он был до того несведущ в литературе, что имена Гомера, Цицерона, Вольтера, Шекспира, Канта были ему совершенно чужды; он не обнаруживал ни малейшей охоты чему-либо выучиться, но зато умел с необыкновенною ловкостью осенять крестным знамением свой лоб и грудь; всякий раз, когда он просыпался, всякий раз, когда издали замечал церковь, колокольню или какой-либо образ, всякий раз, когда начинал есть или пить (пил же он очень часто), всякий раз, когда раздавались раскаты грома, или он проходил мимо кладбища, Щекотихин снимал шапку и усердно крестился. Впрочем, он оказывал не одинаковое уважение всем церквам; так, на деревянную церковь обращал он мало внимания, но при виде каменной уважение его увеличивалось и приобретало еще большую силу, когда взорам его издали представлялся значительный город с большими колокольнями; быть может, он делал это с тем, чтобы благодарить Бога за благополучное доставление его жертвы до такого-то места. Впрочем, мне кажется, я не видел, чтобы он молился Богу словами или глазами: он только делал крестные знамения и земные поклоны без конца. Он был очень высокого о себе мнения, хотя и не имел к этому основания; он не хотел слышать объяснений чего бы то ни было и как бы важен ни был самый предмет, – он всегда держался собственного мнения, придавая лицу своему выражение, описанное нами выше. Если называть благотворительным каждого раздающего милостыню, без всякого разбора, то конечно Щекотихин должен занять первое между ними место; ни один нищий не обращался к нему с просьбою без успеха; если даже кошелек его начинал истощаться, то это не побуждало его прекратить подаяния; смотря по тому, с какою поспешностью он старался освободиться от мелких медных монет, можно было заключить, что он считает эту раздачу милостыни по мелочам священною для себя обязанностью. Очень часто он кидал из кареты копейки, спустя много времени после того как мы проезжали мимо нищего; ему было совершенно безразлично, обладал ли нищий зрением или нет, был ли он в состоянии двигаться или нет, и мог ли он поднять подаяние или нет; всякая деликатность была ему чужда; виновный или невиновный были в глазах его совершенно одинаковы. Впоследствии я, к несчастию, буду иметь слишком часто случай дополнять его изображение; теперь же пока достаточно и этого краткого очерка.
Таков был милый человек, которому меня поручали. Признаюсь, сперва я очень удивился, что такой добродетельный человек как г. Дризен выбрал мне подобного спутника, но потом узнал, что государь сам, разрешив выдать мне паспорт на свободный проезд в Россию, отдал вместе с тем приказание, чтобы надворный советник и курьер сената поехали бы мне навстречу и арестовали бы меня. Так как я просил о выдаче мне паспорта в последних числах января месяца, а пустился в дорогу, как выше сказано, только 10-го апреля, то Щекотихин ждал меня около семи недель с начала марта месяца до моего приезда. Он часто говорил мне об издержанных им деньгах и об испытанной скуке в продолжение всего этого времени ожидания; я сперва верил этому, но можно ли допустить, чтобы подобный человек когда-либо скучал? Я полагал и в настоящее время думаю, что как дураки, так и умные люди избавлены от этого рода недуга. Узнав, что он послан государем, я ничего не говорил; без сомнения, он не был известен лично государю, потому что в таком случае просвещенный государь, зная, что это за человек, послал бы ко мне навстречу другого, по многим причинам.
– Постарайтесь приискать удобную карету, – сказал мне губернатор, – вам надо скоро отправляться.
Я просил отложить отъезд до завтра, так как не спал три ночи, был более месяца в дороге и до того расстроился в последние три дня, что мне необходимо было отдохнуть, по крайней мере, двадцать четыре часа, но губернатор не согласился на мою просьбу. Он пригласил меня к обеду, но я отказался от этого и отправился к себе в гостиницу в сопровождении одного из секретарей. Этот молодой человек (кажется Вейтбрехт), несмотря на холодное выражение своего лица, по-видимому, сочувствовал моему несчастью; он сожалел и уверял меня, что губернатор при всем своем желании не может ничего для меня сделать, потому что «мы все машины теперь» – сказал он, пожимая плечами. Я был поражен последними словами, которые впоследствии слышал от многих лиц, и думал, что произносившие их не отдавали должной справедливости государю. Можно ли допустить в самом деле желание, чтобы только совершенные машины находились на службе? Как можно положиться на человека, который унижается до подобного состояния?
Я вошел в комнату, в которой моя дорогая жена провела ужасно томительный час ожидания; она выбежала ко мне навстречу: в глазах ее выражалось сильнейшее беспокойство. Я старался сам успокоиться и сказал ей с возможною осторожностью, что должен уехать в Петербург один без нее; при этом я наговорил ей столько утешений и надавал столько надежд, сколько был в состоянии придумать в таком расстроенном положении. Секретарь также прибавил от себя, что дело это протянется не более пятнадцати дней. Но все было напрасно, бедная моя Христина при этих словах залилась слезами; она с рыданиями упала на постель, хотела во что бы то ни стало, оставив детей, ехать со мною и проводить меня, по крайней мере, до моего дома в Фридентале, в тридцати милях от Петербурга. Во всем этом ей отказали. Впоследствии будет ясно, что иначе и не могло быть; необходимо было даже сделать особое о ней представление в Петербург, потому что относительно ее не имелось никакого приказания.
Нужно было справиться, говорили мне, о том, может ли свободная женщина, благородного происхождения, ехать к себе в деревню, чтобы навестить родителей? До получения же ответа, на что требовалось дней пятнадцать, – жена моя должна была оставаться в городе, в котором никого не знала, в самой дорогой гостинице, разлученная со своим мужем и предоставленная вполне своему горю. Впрочем, никто не сомневался в том, что ей позволено будет ехать, куда она пожелает.
Увы! я не окончил еще картину ужасных минут, предшествовавших моему отъезду. Моя бедная жена заливалась слезами, из моих объятий кидалась почти без чувств на постель; пятилетняя дочь моя, милая Эмма, ежеминутно подбегала ко мне и обнимала своими маленькими ручонками; вторая, ничего не понимая из того, что происходит вокруг нее, плакала, но только потому, что маменька не занималась ею, а мой самый младший ребенок только улыбался, сидя на руках няни и, к счастию, не принимал участия в этой раздирающей сцене. Люди мои суетились по комнате и не знали что делать; смятение было ужасное. Наконец явился Щекотихин; сенатский курьер поместился в углу комнаты, секретарь потребовал ключи, снял печати с моих чемоданов и осмотрел все подробно с величайшим вниманием. Что же касается меня самого, то я находился в каком-то забытьи и по временам только приходил в себя; все, что совершалось вокруг меня, не привлекало моего внимания; я сел около жены, обнимал и утешал ее, просил успокоиться и возлагать надежду на справедливость императора и мою невинность.
– Мы долгое время очень счастливо жили вместе, – сказал я наконец, – перенесем же с твердостью минуту несчастия – это будет непродолжительно. Губернатор сказал мне, что лишь только я оправдаюсь – а на это потребуется не более пятнадцати дней, – я опять буду среди своей семьи. Докажи мне, милый друг, что ты не простая, обыкновенная женщина; слезы не помогут, надо иметь мужество, постоянство; употреби, если хочешь, все средства, чтобы спасти мужа, – вот твоя задача, милый друг, достойная нежной верной супруги.
Я указал ей несколько лиц в Петербурге, которым она могла писать. Мне запрещено было сообщить моей матери о всем происшедшем со мною. Я просил жену мою исполнить это вместо меня и сообщить ей возможно осторожнее эту печальную новость, хотя, впрочем, секретарь Вейтбрехт уже обещал мне сам это сделать. (Как оказалось впоследствии, он не исполнил своего обещания.)
Этими словами и ласками я успокоил мою жену; она встала, поклонилась Щекотихину, протянула ему руку и просила его со слезами на глазах беречь меня во время дороги; ей сказали уже, что никто из моей прислуги не может мне сопутствовать. Как жаль, что никто не видел эту очаровательную женщину в минуту тоски и отчаяния; сколько была грации в ее просьбах, сколько красоты в ее печали. Трогательные слезы ее смягчили бы самое жестокое сердце; но Щекотихин учтиво улыбался; морщины появились на его лице, и он обещал жене моей по возможности исполнить ее желание. Секретарь спросил меня, сколько имею я при себе денег золотом; у меня было около пятидесяти червонцев, двести талеров и более сотни фридрихсдоров; он предложил мне все это разменять на русские бумажки и оставить при себе. Мне это показалось бесполезным; к чему мне было брать столько денег на дорогу до Петербурга. Приехав туда, я нашел бы моих друзей; к тому же я должен был ехать мимо Фриденталя, где и мог взять денег в случае надобности. Жена же моя, напротив, оставалась без всяких средств; поэтому мне казалось лучше оставить ей все эти деньги; но секретарь настаивал так решительно на том, чтобы я послушался его совета, что наконец я отчасти ему последовал. Секретарь был так любезен, что взялся сам разменять мое золото и сделал это довольно выгодно, особенно если принять в соображение неотложную надобность такого размена.
Мне не позволили взять ни одного чемодана из моей кареты; поэтому я взял у людей моих старый мешок, в который жена моя положила несколько белья. Тогда с тем же усердием, с каким секретарь настаивал на снабжении меня деньгами, сенатский курьер, при этом находившийся, стал уговаривать мою жену положить в мешок как можно более белья. Она, однако, его не послушалась. Не успев в этом, курьер настаивал, чтобы я взял с собою тюфяк; я также не последовал его указанию, и он с сожалением пожал только плечами.
Припоминая теперь хладнокровно все эти мелочи, не могу понять, как в то время они не возбудили во мне подозрения, что мне предстоит гораздо более продолжительное путешествие нежели от Митавы до Петербурга; но я был до такой степени угнетен своим положением, что не мог отдать себе ни в чем ясного отчета. Что касается денег, то я представлял себе возможность не встретиться с друзьями в Петербурге; но я ничего не слыхал из того, что говорилось про белье; моя смущенная душа занята была женою и детьми. Я постоянно ходил от одной к другим, по очереди обнимал, утешал и ласкал их, и проливал сам слезы вместе с ними.
Наконец, слезы появились и у курьера; он был тронут привязанностью моею к семейству; мы дружески взглянули друг на друга.
– Есть ли у тебя жена? – спросил я его.
Он кивнул в знак согласия головою и прибавил: – У меня также трое детей.
– В таком случае ты меня понимаешь.
Он вздохнул и покачал головою.
Я позволю себе представить читателю небольшой очерк этого человека. Александр Шульгин (Schulkins) имел не более тридцати лет и был человек решительно без всякого образования, нечто вроде скота, но скота хорошей породы; лицо у него было калмыцкое, круглое, с приплюснутым носом, с сильно выдающимися скулами и небольшими полуоткрытыми глазами, лоб маленький и узкий, волосы черные, широкие плечи и грудь. На левой стороне груди носил он круглую белую бляху сенатских курьеров, а на поясе сумку для пакетов. Величайшим для него удовольствием было есть и пить; он не был разборчив на кушанья: ел и пил все, что попадалось, и, судя по тому как он это исполнял, можно было заключить, что он считает это главною своею обязанностью; когда он ел суп, то нагибал голову назад и совал в рот ложку по самую ручку и выливал ее таким образом в глотку, не заставляя нисколько участвовать в этом свой вкус; в это время он смотрел в потолок, и лоб его покрывался множеством продолговатых мелких морщин, которые приводили в движение волосы на его голове; точно так же поступал он, когда ел говядину, которую не жевал, а глотал целыми кусками; если я оставлял на моей тарелке кости, он немедленно овладевал ими и принимался грызть их как бульдог и извлекал из них не только все хрящи, но даже и мозг костей. Стакан водки должен был быть очень великим, если он не мог выпить его разом одним залпом; он был в состоянии очень много выпить и не пьянеть. Он пил все без различия: я видел, как он выпил менее нежели в четверть часа чаю, кофе, водки, пуншу и сверх того две кружки кваса. Он ел, пил и засыпал во всякое время дня и ночи. Мимоходом замечу, что Щекотихин мог потягаться с ним во всех отношениях и мало уступал ему в наклонности к крепким напиткам. Но Шульгин, несмотря на всю свою грубость, превосходил его в нравственном отношении. Он обнаруживал чувствительность, но при этом был вспыльчив и резок, хотя, правда, на непродолжительное время. Он знал кое-что, тогда как Щекотихин ровно ничего не знал. Я припоминаю, как однажды, увидев кукушку, он стал рассказывать, что птица эта кладет свои яйца в гнезда других птиц и заставляет их высиживать своих птенцов. Щекотихин стал смеяться над этим; Шульгин спросил меня, правду ли он говорил. Я отвечал «да». Щекотихин презрительно посмотрел на нас обоих, сделав гримасу. Впоследствии я еще сообщу разные сведения об этом курьере; теперь же, чтобы дать понятие читателю о служебном положении Шульгина, прибавлю только, что при петербургском сенате находится восемьдесят подобных курьеров, обязанных развозить указы в самые отдаленные места. Они состоят, мне кажется, в унтер-офицерском звании; обмундирование их очень похоже на почтальонское, за исключением бляхи, которая схожа по наружному виду, но имеет совсем иную надпись.
Возвращаюсь к моим страданиям. Я должен был купить карету; их привезли несколько на двор гостиницы, и мне оставалось только выбрать. Это была большая для меня милость, хотя я и должен был купить карету на свой счет. Обыкновенно арестованных лиц, без различия возраста и пола, сажают в кибитку или другой еще более неудобный экипаж и везут таким образом, несмотря ни на какую погоду. Вообще, я не могу отрицать, что мне было оказываемо некоторое внимание. Я не благодарю за это г. Щекотихина: без сомнения, я был обязан этим распоряжению высшего начальства, потому что мой бесчувственный стражник был не в состоянии уклониться в чем бы то ни было от полученных им приказаний.
Убежденный, что еду только в Петербург, я купил себе двухместную карету очень хорошей работы, легкую на ходу, на рессорах, но годную только для небольшого переезда. Я заплатил за нее пятьсот рублей.
Жена моя, видя, что со мною обходятся вежливо и осторожно, успокоилась еще более. Она спросила Щекотихина, позволено ли мне будет писать ей с дороги; он и секретарь уверили ее, что это не подлежит сомнению.
Наконец вечером, часов около семи, все было готово и я простился с моим семейством. Сердце мое сильно билось в эту жестокую минуту; руки тряслись, ноги сгибались подо мною; глаза едва были в состоянии различать предметы; даже теперь не могу без сильного ощущения вспомнить об этом грустном отъезде. Я опускаю подробное описание последнего прощания. Жена моя и я более не плакали; истомленные сердца наши были судорожно сжаты. Я поцеловал детей, благословил их; жена моя кинулась мне на шею и лишилась чувств.
Секретарь оставался до этой минуты холодным зрителем и лишь повторял всем известные общие фразы, – что надо покоряться судьбе; что печаль не поможет, и тому подобное, – чем выводил меня из терпения, но при последних прощаниях и он не мог удержаться от слез. О, если бы государь столь чувствительный, как мне это было хорошо известно, был бы свидетелем подобной сцены, – с какою быстротою приказал бы он прекратить наши страдания.
Жена моя не в силах была отвечать мне на мои ласки; она лежала с полуоткрытыми глазами и стонала; я поцеловал ее, быть может, в последний раз и тотчас же направился к карете. Все мои люди помогали мне сесть в экипаж и трогательно со мною прощались. Любопытных, столпившихся в передней, удалили и в предупреждение всяких толков велели карете въехать во двор. Я сел и поехал.
Таким образом честного человека исторгли из его семейства. Мирный гражданин, имевший установленный паспорт от императора, был арестован, не зная за что. Нет, невозможно, чтобы государь, чувствительный государь, знал бы об этом; все это сделано не по его приказанию; какой-нибудь коварный человек злоупотребил его именем, а он даже не подозревает того, что делается. Вот уже девятая неделя, как я не имею ни малейшего известия о моем семействе; я не знаю – живы ли или нет моя жена и дети; быть может, они умерли и я никогда не получу от них известий…. Моя жена и я в продолжение стольких лет были разлучены всего два раза, и то не более как на пятнадцать дней, окончания которых мы едва могли дождаться; теперь же мы были оторваны друг от друга, быть может, навсегда… мы проводим эти дни без всякой надежды. Переживет ли она такое горе? Пережила ли она? Боже мой…
Припоминаю с горестью, что более года тому назад я отправлялся на воды в Пирмонт; жена моя только что родила сына и была слишком еще слаба, чтобы ехать со мною. Я отправился один и предполагал пробыть там три недели – срок, необходимый для пользования водами. Я едва выдержал десять дней; я не мог долее сносить разлуку с нею и немедленно возвратился назад, а вот теперь уже девять недель, что я разлучен с нею; быть может, я не увижу ее и чрез девять лет, быть может… я ее не увижу более и буду жить… я живу… луч надежды еще блестит в моих глазах; ее целительный бальзам освежает мои засохшие губы; если он иссякнет, тогда отчаяние мое будет столько же велико, как мое несчастье: я сумею умереть.







