Собрание сочинений в 2-х томах. Т.I : Стиховорения и поэмы
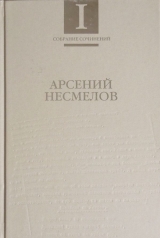
Текст книги "Собрание сочинений в 2-х томах. Т.I : Стиховорения и поэмы"
Автор книги: Арсений Несмелов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Неразделенность. Трианон– дворец, построенный для Марии-Антунетты, жены Людовика XVI и королевы Франции, в северо-западной части Версаля. «…Вот этот скандинавский дворянин»– имеется в виду шведский дипломат Ханс Аксель фон Ферзен (1755–1810), фаворит Марии-Антуанетты. Один из современников (аноним) записал в 1779 году в дневнике: «Всё самое блестящее и роскошное впитывало сердце этой кокетки [королевы], и, по словам многих очевидцев, граф Ферзен, швед, полностью захватил сердце королевы. Королева…была просто сражена его красотой. Это действительно заметная личность. Высокий, стройный, прекрасно сложен, с глубоким и мягким взглядом, он на самом деле способен произвести впечатление на женщину, которая сама искала ярких потрясений». После того, как молва приписала Ферзену отцовство одного из детей Марии-Антуанетты, почел за благо отбыть в Америку, однако во время Французской революции приехал во Францию и пытался организовать бегство приговоренной королевы. Сохранились письма королевы к Ферзену от 1791–1793 годов, последнее письмо было передано из замка Консьержери 16 октября 1793 года, в ночь накануне казни королевы. Сам Ферзен, после шведской революции 1809 года и отречения от престола Густава IV, действительно был обвинен в заговоре и растерзан толпой.
[Закрыть]
Еще сиял огнями Трианон,
Еще послов в торжественном Версале
Король и королева принимали, —
Еще незыблемым казался трон.
И в эти дни на пышном маскараде,
Среди цыганок, фавнов и химер,
Прелестнице в пастушеском наряде
Блестящий был представлен кавалер.
Судьба пастушке посылала друга, —
Одна судьба лишь ведала о том,
Что злые силы собирает вьюга
Над мирным Трианоновским дворцом;
Что все утехи отпылают скоро,
Что у пастушки в некий день один —
Единственной останется опорой
Вот этот скандинавский дворянин;
Что смерть близка и тенью ходит рядом,
Что слезы жадно высушит тюрьма,
А дворянин глядел спокойным взглядом,
Бестрепетным, как преданность сама.
Шептались справа и шептались слева,
Но, как в глубинах голубых озер,
В его глазах топила королева
Свой восхищенный и влюбленный взор.
Пришли года, чужда была им милость.
Взревела буря, как безумный зверь,
Но в Тюельри, где узница томилась,
Любовь открыла потайную дверь.
И в ночь, в канун, суливший гильотину,
Перед свечой, уже в лучах зари,
Послала королева дворянину
Привет последний из Консьержери.
В чудесной нераздельности напева
Закончили они свой путь земной:
Казненная народом королева
И дворянин, растерзанный толпой.
Беатриче.Вторым проводником Данте в «Божественной комедии» (после Вергилия) становится именно Беатриче, появляющаяся в ХХХ главе «Чистилища». Позднейшие комментаторы идентифицировали возлюбленную Данте с Беатриче Портинари, которая умерла в 25-летнем возрасте во Флоренции в 1290 году. Исторически она – первая юношеская любовь Данте, воспетая в «Новой жизни».
[Закрыть]
В то утро – столетьи котором,
Какойобозначился век! —
Подросток с опущенным взором
Дорогу ему пересек.
И медленно всплыли ресницы,
Во взор погружается взор —
Лучом благодатной денницы
В глубины бездонных озер.
Какие утишились бури,
Какая гроза улеглась
От ангельской этой лазури
Еще не разбуженных глаз?
Всё солнце, всё счастье земное
Простерло объятья ему
Вот девочкой этой одною,
Сверкнувшей ему одному.
Не к бурям, не к безднам и стужам
Вершин огнеликих, а стать
Любимым и любящим мужем,
Спокойную участь достать!
Что может быть слаще, чудесней,
Какой голубой водоем,
Какие красивые песни
Споет он о счастье своем!
О жалкая слабость добычи
Судьбы совершенно иной!..
И Небо берет Беатриче,
Соблазн отнимая земной.
И лучшие песни – могиле,
И сердце черно от тоски,
Пока не коснется Виргилий
Бессильно упавшей руки.
Пока, торжествуя над адом,
С железною силой в крови
Не встретится снова со взглядом
Своей величайшей любви!
У губ твоих, у рук твоих… У глаз,
В их погребах, в решетчатом их вырезе —
Сияние, молчание и мгла,
И эту мглу – о светочи! – не выразить.
У глаз твоих, у рук твоих…У губ,
Как императорское нетерпение,
На пурпуре, сияющем в снегу, —
Закристаллизовавшееся пение!
У губ твоих, у глаз твоих… У рук, —
Они не шевельнулись, и осилили,
И вылились в согласную игру:
О лебеде, о Лидии и лилии!
На лыжах звука, но без языка,
Но шепотом, горя и в смертный час почти
Рыдает сумасшедший музыкант
О Лидии, о лилии и ласточке!
И только медно-красный барабан
В скольжении согласных не участвует,
И им аккомпанирует судьба:
– У рук твоих!
– У губ твоих!
– У глаз твоих!
Глаз таких черных, ресниц таких длинных
Не было в песнях моих,
Лишь из преданий Востока старинных
Знаю и помню о них.
В царственных взлетах, в покорном паденьи —
Пение вечных имен…
«В пурпур красавицу эту оденьте!»
Кто это? – Царь Соломон!
В молниях славы, как в кликах орлиных,
Царь. В серебре борода.
Глаз таких черных, ресниц таких длинных
Он не видал никогда.
Мудрость, светильник, не гаснущий в мифе,
Мощь, победитель царей,
Он изменил бы с тобой Суламифи,
Лучшей подруге своей.
Ибо клялись на своих окаринах
Сердцу царя соловьи:
«Глаз таких черных, ресниц таких длинных
Не было…» Только твои!
Разрыв. Ф. И. Кондратьев, которому посвящено стихотворение, – лицо неустановленное.
[Закрыть]
Ф.И. Кондратьеву
Бровей выравнивая дуги,
Глядясь в зеркальное стекло,
Ты скажешь ветреной подруге,
Что всё прошло, давно прошло;
Что ты иным речам внимаешь,
Что ты под властью новых встреч,
Что ты уже не понимаешь,
Как он сумел тебя увлечь;
Что был всегда угрюм и нем он,
Печаль, как тень свою, влача…
И будто лермонтовский Демон
Глядел из-за его плеча…
С ним никогда ты не смеялась,
И если ты бывала с ним,
То лишь томление и жалость
Владели голосом твоим.
Что снисходительности кроткой
Не можешь ты отдаться вся,
Что болью острой, но короткой
Разрыв в душе отозвался.
Сверкнув кольцом, другою бровью
Рука займется не спеша,
Но, опаленная любовью,
Не сможет лгать твоя душа!
И зазвенит она от зова,
И всю ее за миг один
Наполнит некий блеск грозовый
До сокровеннейших глубин.
И вздрогнешь резко и невольно,
К глазам поднимется платок,
Как будто вырван слишком больно
Один упрямый волосок.
За то, что ты еще не научилось
Покою озаряющей любви,
О, погружайся, сердце-Наутилус,
К таинственному острову плыви!
Ни возгласов, ни музыки, ни чаек.
Лишь крест окна, лишь, точная всегда,
Секунду погруженья отмечает
Серебряно-лучистая звезда.
И тонет мир… Светящийся, туманный,
Как облако, всплывает надо мной.
Последний всплеск, последняя команда —
Я в вашей власти, капитан Немо!
Как сладко жить блужданьями ночными,
Как сладко знать, что есть бесценный клад
Ночных путей, что утро не отнимет,
Не опрокинет выплаканных клятв!
Что даже если сердце отреклось бы —
Назавтра, в те же самые часы,
Как рыбий глаз, засветит папироса
И двигателем застучат часы.
К окну прихлынет сумрак синеглазый,
Заплещет шторы пробужденный ласт,
И капитан в скафандре водолаза
Приблизится и руку мне подаст!
Ступив, ступает маятник,
Как старец в мягких туфлях:
Убегался – умаялся —
Рукой за сердце – рухнет.
Комар ослепший кружится,
Тончайший писк закапал.
Серебряною лужицей
Луна ложится на пол.
И чтобы выместь, вытолкнуть
Туманность лунной пыли,
Обмахивают притолку
Лучом автомобили,
И луч, как некий радиус,
Промчит дугу и сгинет,
И, засыпая, радуюсь
Его визитам синим.
Но вот и гостя синего
Встречает дрема суше,
Зачеркивая минимум
Души: глаза и уши.
Еще мгновенье менее,
Не миг – его осколок,
И ты, Исчезновение,
Задернешь синий полог
Память. «Пржемышль, Казимеж, Развадов, / Бои на Висле и на Сане…»– автор перечисляет места сражений Первой мировой войны: в первой строке перечислены польские города, во второй упомянуты реки Висла, на которой стоит Варшава, и ее приток Сан. «И более ужасный гром…»– т. е. гром начала Второй мировой войны, начавшийся именно с раздела Польши Гитлером и Сталиным.
[Закрыть]
Тревожат память городов
Полузабытые названья:
Пржемышль, Казимерж, Развадов,
Бои на Висле и на Сане…
Не там ли, с сумкой полевой
С еще не выгоревшим блеском,
Бродил я, юный и живой,
По пахотам и перелескам?
И отзвук в сердце не умолк
Тех дней, когда с отвагой дерзкой
Одиннадцатый гренадерский
Шел в бой фанагорийский полк! —
И я кричал и цепи вел
В просторах грозных, беспредельных,
А далеко белел костел,
Весь в круглых облачках шрапнельных…
И после дымный был бивак,
Костры пожарищами тлели,
И сон, отдохновенья мрак,
Души касался еле-еле.
И сколько раз, томясь без сна,
Я думал, скрытый тяжкой мглою,
Что ты, последняя война,
Грозой промчишься над землею.
Отгромыхает краткий гром,
Чтоб никогда не рявкать больше,
И небо в блеске голубом
Над горестной почиет Польшей.
Не уцелеем только мы —
Раздавит первых взрыв великий!..
И утвердительно из тьмы
Мигали пушечные блики.
Предчувствия и разум наш,
Догадки ваши вздорней сплетни:
Живет же этот карандаш
В руке пятидесятилетней!
Я не под маленьким холмом,
Где на кресте исчезло имя,
И более ужасный гром
Уже хохочет над другими!
Скрежещет гусеничный ход
Тяжелой танковой колонны,
И глушит, как и в давний год,
И возглас мужества, и стоны!
27 августа 1914 года. В заглавие стихотворение вынесена подлинная дата отбытия на фронт одиннадцатого гренадерского Фанагорийского полка, в составе которого находился и А.И. Митропольский. Брестский вокзал(в Москве) – ныне Белорусский.
[Закрыть]
Медная, лихая музыка играла,
Свеян трубачами, женский плач умолк.
С воинской платформы Брестского вокзала
Провожают в Польшу Фанагорийский полк!
Офицеры стройны, ушки на макушке,
Гренадеры ладны, точно юнкера…
Классные вагоны, красные теплушки,
Машущие руки, громкое ура.
Дрогнули вагоны, лязгают цепями,
Ринулся на запад первый эшелон.
Желтые погоны, суворовское знамя,
В предвкушеньи славы каждое чело!
Улетели, скрылись. Точечкой мелькает,
Исчезает, гаснет красный огонек…
Ах, душа пустая, ах, тоска какая,
Возвратишься ль снова, дорогой дружок!
Над Москвой печальной ночь легла сурово,
Над Москвой усталой сон и тишина.
Комкают подушки завтрашние вдовы,
Голосом покорным говорят: «Война!»
Я сидел в окопе. Шлык башлычный
Над землей замерзшею торчал.
Где-то пушка взъахивала зычно
И лениво пулемет стучал.
И рвануло близко за окопом,
Полыхнуло, озарив поля.
Вместе с гулом, грохотом и топом
На меня посыпалась земля.
Я увидел, от метели колкой
Отряхаясь, отерев лицо,
Что к моим ногам упала елка —
Вырванное с корнем деревцо.
Ухмыляясь: «Вот и мне подарок!
Принесу в землянку; что ж, постой
В изголовьи, чтобы сон был ярок,
Чтобы пахло хвоей под землей».
И пополз до черного оврага,
Удивляясь, глупый человек,
Почему как будто каплет влага
С елочки на пальцы и на снег.
И принес. И память мне не лгунья,
Выдумкой стишок не назови:
Оказалась елочка-летунья
В теплой человеческой крови!
Взял тогда Евангелье я с полки,
Как защиту… ужас душу грыз!
И сияли капельки на елке,
Красные, как спелый барбарис.
Шла на позицию рота солдат,
Аэропланы над нею парят.
Бомбу один из них метко кидал
И в середину отряда попал.
Недалеко же ты, рота, ушла —
Вся до единого тут полегла!
Полголовы потерял капитан,
Мертв барабанщик, но цел барабан.
Встал капитан – окровавленный встал! —
И барабанщику встать приказал.
Поднял командою, точно в бою,
Мертвый он мертвую роту свою!
И через поля кровавую топь
Под барабана зловещую дробь
Тронулась рота в неведомый край,
Где обещают священники рай.
Строго, примерно равненье рядов…
Тот без руки, а другой – безголов,
А для безногих и многих иных
Ружья скрестили товарищи их.
Долго до рая, пожалуй, идти —
Нет на двухверстке такого пути;
Впрочем, без карты известен маршрут, —
Тысячи воинов к раю бредут!
Скачут верхами, на танках гремят,
Аэропланы туда же летят,
И салютует мертвец мертвецу,
Лихо эфес поднимая к лицу.
Вот и чертоги, что строились встарь,
Вот у ворот и согбенный ключарь.
Старцы-подвижники, посторонись, —
Сабли берут офицеры подвысь.
И рапортует запекшимся ртом:
«Умерли честно в труде боевом!»
След оставляя пенный,
Резво умчалась мина.
Сломанный, как игрушка,
Крейсер пошел ко дну.
Выплыла на поверхность
Серая субмарина
И рассекает гордо
Маленькую волну.
Стих, успокоен глубью,
Водоворот воронки.
Море разжало скулы
Синих глубин своих.
Грозно всплывают трупы,
Жалко плывут обломки,
Яростные акулы
Плещутся между них.
Гибель врага лихого
Сердцу всегда любезна:
Нет состраданью места —
Участь одна у всех!..
Радуются матросы,
И на спине железной
Рыбы железной этой —
Шутки, гармошка, смех.
Но загудел пропеллер —
Мчится стальная птица,
Бомба назревшей каплей
В лапе ее висит.
Лодка ушла в пучину
И под водой таится,
Кружит над нею птица,
Хищную тень следит.
Бомба гремит за бомбой;
Словно киты, фонтаны
Алчно они вздымают,
Роют и глубь, и дно…
Ранена субмарина,
И из разверстой раны
Радужное всплывает
Масляное пятно.
Море пустынно. Волны
Ходят неспешным ходом,
Чайки, свистя крылами,
Стонут со всех сторон…
Кто-то светловолосый
Тихо идет по водам,
Траурен на зеленом
Белый Его хитон.
В затонувшей субмарине.Стихотворение представляет собой развернутый ответ на стихотворение Николая Гумилева «Волшебная скрипка».
[Закрыть]
Облик рабский, низколобый
Отрыгнет поэт, отринет:
Несгибаемые души
Не снижают свой полет.
Но поэтом быть попробуй
В затонувшей субмарине,
Где ладонь свою удушье
На уста твои кладет.
Где за стенкою железной
Тишина подводной ночи,
Где во тьме, такой бесшумной, —
Ни надежд, ни слез, ни вер,
Где рыданья бесполезны,
Где дыханье всё короче,
Где товарищ твой безумный
Поднимает револьвер.
Но прекрасно сердце наше,
Человеческое сердце:
Не подобие ли Бога
Повторил собой Адам?
В этот бред, в удушный кашель
(Словно водный свод разверзся)
Кто-то с ласковостью строгой
Слово силы кинет нам.
И не молния ли это
Из надводных, поднебесных,
Надохваченных рассудком
Озаряющих глубин, —
Вот рождение поэта,
И оно всегда чудесно,
И под солнцем, и во мраке
Затонувших субмарин.
В этот день.Неодобрительное стихотворение о февральской революции, приведшей в конце концов к октябрьскому перевороту; вызвало раздраженные отклики в эмигрантской печати. Кроки– наброски рисунка или чертежа, здесь в значении «черновики». «…В этот день маршировали к Думе / Первые восставшие полки!»– 28 февраля 1917 года градоначальник Петрограда А.П. Балк и его приближенные на полуразбитом автомобиле были доставлены в помещение Государственной думы. «…В этот день… одни городовые / С чердаков вступились за режим!..»– министр внутренних дел, А.Д. Протопопов писал: «27 февраля утром я хотел пройти к брату своему, С.Д. Протопопову, на Калашниковскую наб, д. 30. Идти было трудно. Дойдя до Ямской ул., д. 12, я зашел к портному Ивану Федоровичу Павлову, где оставался до вечера. От него я узнал, что полиция, переодетая в солдатскую форму, занимает верхние этажи домов, стреляя из ружей и пулеметов» (цит. по: Н. Голь. Первоначальствующие лица. СПб, 2001, С. 413) «…В этот день садился где-то Ленин / В свой запломбированный вагон»– см. примеч. к ст. «Агония» (сб. «Без России»).
[Закрыть]
В этот день встревоженный сановник
К телефону часто подходил,
В этот день испуганно, неровно
Телефон к сановнику звонил.
В этот день, в его мятежном шуме,
Было много гнева и тоски,
В этот день маршировали к Думе
Первые восставшие полки!
В этот день машины броневые
Поползли по улицам пустым,
В этот день… одни городовые
С чердаков вступились за режим!
В этот день страна себя ломала,
Не взглянув на то, что впереди,
В этот день царица прижимала
Руки к холодеющей груди.
В этот день в посольствах шифровали
Первой сводки беглые кроки,
В этот день отменно ликовали
Явные и тайные враги.
В этот день… Довольно, Бога ради!
Знаем, знаем – надломилась ось:
В этот день в отпавшем Петрограде
Мощного героя не нашлось.
Этот день возник, кроваво вспенен,
Этим днем начался русский гон, —
В этот день садился где-то Ленин
В свой запломбированный вагон.
Вопрошает совесть, как священник,
Обличает Мученика тень…
Неужели, Боже, нет прощенья
Нам за этот сумасшедший день!
Цареубийцы. «Нет, давно мы ночами злыми / Убивали своих царей»– автор неожиданно привлекает внимание читателя к тому, что до убийства Николая II (в 1918 году) были убиты Петр III (в 1762 году), Павел I (в 1801 году), Александр II (в 1881 году) – не говоря о временах более давних.
[Закрыть]
Мы теперь панихиды правим,
С пышной щедростью ладан жжем,
Рядом с образом лики ставим,
На поминки Царя идем.
Бережем мы к убийцам злобу,
Чтобы собственный грех загас,
Но заслали Царя в трущобу
Не при всех ли, увы, при нас?
Сколько было убийц? Двенадцать,
Восемнадцать иль тридцать пять?
Как же это могло так статься —
Государя не отстоять?
Только горсточка этот ворог,
Как пыльцу бы его смело:
Верноподданными – сто сорок
Миллионов себя звало.
Много лжи в нашем плаче позднем,
Лицемернейшей болтовни,
Не за всех ли отраву возлил
Некий яд, отравлявший дни.
И один ли, одно ли имя —
Жертва страшных нетопырей?
Нет, давно мы ночами злыми
Убивали своих Царей.
И над всеми легло проклятье,
Всем нам давит тревога грудь:
Замыкаешь ли, дом Ипатьев,
Некий давний кровавый путь!
Камер-юнкер. Сочинитель.
Слог весьма живой.
Гениален? «Извините!» —
Фыркнет Полевой.
И за ним Фаддей Булгарин
Разожмет уста:
«Гениален? Он бездарен,
Даже скучен стал!»
Каждый хлыщ, тупица явный
Поучать готов,
А Наталья Николавна —
Что ей до стихов?
Напряженно сердцем замер,
Уловив слова:
«Наградили!.. Пушкин – камер.
Юнкер в тридцать два!»
И глядел, с любым балбесом
Ровен в том углу,
Как Наташа шла с Дантесом
В паре на балу.
Только ночь – освобожденье!
Муза, слаще пой!
Но исчеркает творенье
Карандаш тупой.
И от горькой чаши этой
Бегство: пистолет.
И великого поэта
У России нет.
И с фельдъегерем в метели
Мчится бедный гроб…
Воют волки, стонут ели
И визжит сугроб.
За столетье не приснится
Сна страшнее… Но
Где ж убийца, кто убийца?
Ах, не всё ль равно!
Божий гнев. Конкретный сюжет стихотворения ни с чем достоверно не идентифицируется.
[Закрыть]
Город жался к берегу домами,
К морю он дворцы и храмы жал.
«Убежать бы!» – пыльными устами
Он вопил, и всё ж – не убежал!
Не успел. И, воскрешая мифы,
Заклубила, почернела высь, —
Из степей каких-то, точно скифы,
Всадники в папахах ворвались.
Богачи с надменными зобами,
Неприступные, что короли,
Сбросив спесь, бия о землю лбами,
Сами дочерей к ним повели.
Чтобы те, перечеркнувши участь,
Где крылатый царствовал божок,
Стаскивали б, отвращеньем мучась,
Сапожища с заскорузлых ног.
А потом, раздавлены отрядом,
Брошены на липкой мостовой,
Упирались бы стеклянным взглядом,
Взглядом трупов в купол голубой!
А с балкона, расхлябаснув ворот,
Руку положив на ятаган,
Озирал раздавленный им город
Тридцатитрехлетний атаман…
Шевелил он рыжими усами,
Вглядывался, слушал и стерег,
И присевшими казались псами
Пулеметы у его сапог.
Так, взращенный всяческим посевом
Сытых ханжеств, векового зла,
Он упал на город Божьим гневом,
Молнией, сжигающей дотла!
В Нижнеудинске.В конце декабря 1920 года в Нижнеудинске поезд адмирала А.В. Колчака был взят под стражу чехами. 4 января 1920 года по просьбе своих министров Колчак передал права «Верховного правителя» генералу А.И. Деникину. Вечером 15 января в составе эшелона чехословацкого полка вагон с адмиралом прибыл в Иркутск и в тот же день глава французской военной миссии генерал Жанен отдал приказ выдать Колчака эсеровскому Политцентру в обмен на беспрепятственный проезд союзнических отрядов и иностранных военных миссий по Байкальской магистрали. Затем адмирал был передан большевистскому ревкому. С приближением к Иркутску отступавших с боями на восток белогвардейских частей генерала Войцеховского Иркутский РВК получил секретное распоряжение В.И. Ленина о ликвидации Колчака. В 5 часов утра 7 февраля 1920 года адмирал А.В. Колчак вместе с главой своего правительства В.Н. Пепеляевым был расстрелян на берегу реки Ушаковки. Трупы были спущены в прорубь на Ангаре вблизи места впадения в нее Ушаковки. По имеющимся данным, именно в армии Колчака Митропольский-Несмелов получил чин поручика; образ «Адмирала» возникает в его поэзии и прозе многократно.
[Закрыть]
День расцветал и был хрустальным,
В снегу скрипел протяжно шаг.
Висел над зданием вокзальным
Беспомощно нерусский флаг.
И помню звенья эшелона,
Затихшего, как неживой,
Стоял у синего вагона
Румяный чешский часовой.
И было точно погребальным
Охраны хмурое кольцо,
Но вдруг на миг в стекле зеркальном
Мелькнуло строгое лицо.
Уста, уже без капли крови,
Сурово сжатые уста!..
Глаза, надломленные брови,
И между них – Его черта,
Та складка боли, напряженья,
В которой роковое есть…
Рука сама пришла в движенье,
И, проходя, я отдал честь.
И этот жест в морозе лютом,
В той перламутровой тиши
Моим последним был салютом,
Салютом сердца и души!
И он ответил мне наклоном
Своей прекрасной головы…
И паровоз далеким стоном
Кого-то звал из синевы.
И было горько мне. И ковко
Перед вагоном скрипнул снег:
То с наклоненною винтовкой
Ко мне шагнул румяный чех.
И тормоза прогрохотали,
Лязг приближался, пролетел,
Умчали чехи Адмирала
В Иркутск – на пытку и расстрел!
Жена. «Он чертыхался. Жил еще Арбатом…»– т. е. герой стихотворения вспоминает эпизоды неудачного восстания юнкеров осенью 1917 года, в котором принимал участие и сам Митропольский. Сведения о первой жене Митропольского отрывочны; дочь поэта от второй жены, Е.А. Худяковской, смутно вспоминала только, что имя первой жены отца было Лидия.
[Закрыть]
От редких пуль, от трупов и от дыма
Развалин, пожираемых огнем,
Еще Москва была непроходима…
Стал падать снег. День не казался днем.
Юбку подбирала,
Улицы перебегала,
Думала о нем…
Он руки вымыл. Выбрился. Неловко
От штатского чужого пиджака…
Четыре ночи дергалась винтовка
В его плече. Он вздрогнул от звонка.
Сердце одолела,
Птичкой рядом села,
Молода, легка!..
Он чертыхался. Жил еще Арбатом.
Негодовал, что так не повезло,
А женщина на сундуке горбатом
Развязывала узелок.
Мясо и картошка…
Ты поешь немножко,
Дорогой дружок!
Он жадно ел. И веселел. Красивый,
За насыщеньем увлеченно нем.
Самозабвенный и себялюбивый,
Безжалостный к себе, к тебе, ко всем!
Головой прижалась,
Жалобно ласкалась…
Завтра – где и с кем?
Прощались ночью. Торопливо обнял.
Нe слушал слов. В глаза не заглянул.
Не оглянулся. Тлела, как жаровня,
Москва… И плыл над ней тяжелый гул.
Знали, что навеки…
Горы, долы, реки, —
Словно потонул!
Прогромыхало, прошуршало столько
Годов, годин!.. Стал беспокоен взгляд.
Он вспоминает имя: «Стаха, полька…
Вы знаете, я тоже был женат».
Борода седая…
«Где ж она?» – «Не знаю.
И была ль она!»
Моим судьям. Отжену (одновременно укр. и церк. – слав.) – отгоню.
[Закрыть]
Часто снится: я в обширном зале…
Слыша поступь тяжкую свою,
Я пройду, куда мне указали,
Сяду на позорную скамью.
Сяду, встану – много раз поднимут
Господа в мундирах за столом.
Все они с меня покровы снимут,
Буду я стоять в стыде нагом.
Сколько раз они меня заставят
Жизнь мою трясти-перетряхать.
И уйдут. И одного оставят,
А потом, как червяка, раздавят
Тысячепудовым: расстрелять!
Заторопит конвоир: «Не мешкай!»
Кто-нибудь вдогонку крикнет: «Гад!»
С никому не нужною усмешкой
Подниму свой непокорный взгляд.
А потом – томительные ночи
Обступившей непроломной тьмы.
Что длиннее, но и что короче
Их, рожденных сумраком тюрьмы.
К надписям предшественников имя
Я прибавлю горькое свое.
Сладостное: «Боже, помяни мя»
Выскоблит тупое острие.
Всё земное отжену, оставлю,
Стану сердцем сумрачно-суров
И, как зверь, почувствовавший травлю,
Вздрогну на залязгавший засов.
И без жалоб, судорог, молений,
Не взглянув на злые ваши лбы,
Я умру, прошедший все ступени,
Все обвалы наших поражений,
Но не убежавший от борьбы!
Иногда я думаю о том,
На сто лет вперед перелетая,
Как, раскрыв многоречивый том
«Наша эмиграция в Китае»,
О судьбе изгнанников печальной
Юноша задумается дальний.
На мгновенье встретятся глаза
Сущего и бывшего: котомок,
Страннических посохов стезя…
Скажет, соболезнуя, потомок:
«Горек путь, подслеповат маяк,
Душно вашу постигать истому.
Почему ж упорствовали так,
Не вернулись к очагу родному?»
Где-то упомянут – со страницы
Встану. Выжду. Подниму ресницы:
«Не суди. Из твоего окна
Не открыты канувшие дали:
Годы смыли их до волокна,
Их до сокровеннейшего дна
Трупами казненных закидали!
Лишь дотла наш корень истребя,
Грозные отцы твои и деды
Сами отказались от себя,
И тогда поднялся ты, последыш!
Вырос ты без тюрем и без стен,
Чей кирпич свинцом исковыряли,
В наше ж время не сдавались в плен,
Потому что в плен тогда не брали!»
И не бывший в яростном бою,
Не ступавший той стезей неверной,
Он усмешкой встретит речь мою
Недоверчиво-высокомерной.
Не поняв друг в друге ни аза,
Холодно разъединим глаза,
И опять – года, года, года,
До трубы Последнего суда!
Цветок. «…Одной маранки дело разбирал»– мараны (исп. Marranos, от араб. maran alha – проклятый; у евреев «анусим», т. е. отпавшие от веры по принуждению) – в Испании в Средние века так назывались евреи, официально принявшие господствующую религию (сначала мусульманство, потом христианство), но втайне сохранившие веру своих отцов; впоследствии название это было распространено и на мавров, подобным образом обратившихся в христианство.
[Закрыть]
Есть правда у цветов, у птиц, у облаков, —
Вот маленький рассказ из глубины веков:
В Испании священный трибунал
Одной маранки дело разбирал,
Что будто бы, хотя и крещена,
Всё к Моисею тянется она,
И так, крестясь, показывал сосед!
Усердья к мессе у маранки нет.
И, прокурора выслушавши речь,
Два старца в рясах присудили: сжечь.
Но третий медлил… Был он тоже строг,
Но в пальцах у него синел цветок,
Что из окна к ногам его упал,
Когда он шел в священный трибунал.
Немало знал монах латинских слов,
Но позабыл он имена цветов,
Лет пятьдесят уж, люди говорят,
Он не вдыхал их нежный аромат.
И он цветок в судилище принес,
И всё склонял к нему орлиный нос,
И даже, ранен красотой цветка,
Он целовал его исподтишка.
И братья-инквизиторы к нему
Поворотились разом: почему,
Всегда ретив, достопочтенный брат
Сегодня медлит, думою объят?
И только тут монах мечту спугнул
И строго на преступницу взглянул.
Она была еще совсем юна,
Как стебелек тонка была она,
И увенчал непрочный стебелек
Прелестной, гордой головы цветок.
Как две стихии встретились глаза —
Застенков мгла и неба синева,
И победила нежная лазурь
Тьму всех ночей и молнии всех бурь;
Глаза глазам ответ послали свой:
«Я не сожгу тебя, цветок живой!»
И самый старший, главный между трех,
Он на костер маранку не обрек,
На этот раз костер не запылал,
Но сам монах покинул трибунал:
Почувствовавший, как красив цветок,
Он и людей уже сжигать не мог.
Любите птиц, любите облака,
Недолговечную красу цветка,
Крылатость, легковейность, аромат
И только тех, что всё и всех щадят!
Ламоза. Ламоза– в китайском просторечии «русский». Русские дети в Маньчжурии часто попадали в китайские семьи и воспитывались в них, однако кличка «ламоза» обычно так и оставалась с ними на всю жизнь. На северо-востоке Китая русских и сейчас называют ламозами.
[Закрыть]
Синеглазый и светлоголовый,
Вышел он из фанзы на припек.
Он не знал по-нашему ни слова,
Объясниться он со мной не мог.
Предо мною с глиняною кружкой
Он стоял, – я попросил воды, —
Пасынок китайской деревушки,
Сын горчайшей беженской беды!
Как он тут? Какой семьи подкидыш?
Кто его купил или украл?
Бедный мальчик, тайну ты не выдашь,
Ведь уже ты китайчонком стал!
Но пускай за возгласы: ламоза!
(Обращенные к тебе, ко мне)
Ты глядишь на сверстников с угрозой —
Всё же ты светлоголов и розов
В их черноголовой желтизне.
В этом – горе всё твое таится:
Никогда, как бы ни нудил рок,
С желтым морем ты не сможешь слиться,
Синеглазый русский ручеек!
До сих пор тревожных снов рассказы,
Размыкая некое кольцо,
Женщины иной, не узкоглазой,
Приближают нежное лицо.
И она меж мигами немыми
Вдруг, как вызов скованной судьбе,
Русское твое прошепчет имя,
Непонятное уже тебе!
Как оно: Сережа или Коля,
Витя, Вася, Миша, Леонид, —
Пленной птицей, задрожав от боли,
Сердце задохнется, зазвенит!
Не избегнуть участи суровой —
Жребий вынут, путь навеки дан,
Синеглазый и светлоголовый,
Милый, бедный русский мальчуган.
Долго мы смотрели друг на друга…
Побежденный, опуская взгляд,
Вышел я из сомкнутого круга
Хохотавших бритых китайчат.





