Собрание сочинений в 2-х томах. Т.I : Стиховорения и поэмы
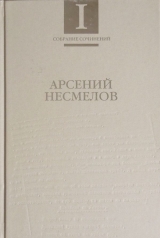
Текст книги "Собрание сочинений в 2-х томах. Т.I : Стиховорения и поэмы"
Автор книги: Арсений Несмелов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
О старом мастере («Не рыцарь, неловкий латник…»). Р. 1944, № 11.
[Закрыть]
Не рыцарь, неловкий латник,
Поднявший меча тягло…
О, сколько их в битве братней
В веках позади легло!
Не он, заблестев кистями,
К губам поднимал трубу, —
Железным доспехом стянут,
Он верил и нес судьбу.
Огонь, и стрела, и плаха!..
К сиянью зорь и звезд
Гремел он, не зная страха,
И был молчалив и прост.
И всё же он сделал много
Он тайну, сгибаясь, нес.
И скажет улыбка Бога:
«О, добрый каменотес!»
И вихрем его поднимет
К тропам золотых планет,
А там, высоко над ними, —
Ни жизни, ни смерти нет.
От друга («Возле печки обветшалой…»). Р. 1944, № 13. На сборнике «Полустанок» есть пометка: «Харбин, издательство А.З. Белышева, отпечатано 20 августа 1938». Памяти А.З. Белышева посвящены также стихотворения «Полгода» и «Год», т. е. дата смерти Белышева – начало 1944 года. Между тем в 1938 году А.З. Белышев издал в Харбине книгу собственных стихотворений «Мудрость бытия»; есть косвенные данные, позволяющие предположить, что к редактированию стихотворений этой книги Несмелов приложил руку (см. упоминание о человеке, которого Несмелов называл «мой мужичок», в воспоминаниях Валерия Перелешина «Об Арсении Несмелове» – «Ново-Басманная, 19». М., 1990).
[Закрыть]
Светлой памяти А.З. Белышева-Полякова
Возле печки обветшалой
С черною трубой,
Где я игрывал, бывало,
В домино с тобой;
Где любил ты, ясноглазый,
Серебристо-сед,
Уходить в свои рассказы
Невозвратных лет;
Где мурлыкал котик белый
Подле старых ног,
Где… так горько опустело
Без тебя, дружок!
Но к холму твоей могилы
Я приду не раз:
Дружбе верен я, мой милый, —
Смерть не делит нас!
Вспомнив днем пасхальным, ясным
Дедовскую Русь, —
Я с тобой яичком красным
Похристосуюсь…
Тихие радости («Засунгарийские просторы…»). Р. 1944, № 19.
[Закрыть]
Засунгарийские просторы,
Река и степь – пейзаж простой…
Плывем; плывут навстречу створы:
Четвертый, пятый и шестой.
Вот длинный Арестантский остров,
Кто арестован был на нем?
Расшифровать уже не просто
Его название… Плывем!
Восьмой (о створе речь, конечно),
Озер Петровских узкий вход, —
И нос ладьи остроконечный
Сюда наметил поворот.
Вода низка, но всё же впустит
Пройти в него, – гребли не зря.
Вот «наше место» – темный кустик,
Где мы бросаем якоря.
Уж солнышко над горизонтом
Свой алый поднимает шар.
И как над боем, как над фронтом —
На облаках горит пожар.
Но до красот природы дела
Сейчас нам нет: ведь самый клев!
Леса тончайше просвистела,
Гряди, гряди, змееголов!
Гряди, карась!.. Сазан едва ли
В Петровском озере живет.
И поплавочки замелькали,
И вот один из них – ведет.
«Ну, подсекай же!» – Ах, как сладко
Почуять рыбу на крючке!
«Как будто сом у вас?» – «Касатка!» —
Вы отвечаете в тоске.
Но это так бывало прежде,
Касаткой брезговали мы, —
На карасей была надежда,
Что нам касатка, что сомы?
Теперь не то, – уж по-иному
Влечет удильщиков вода:
Улов несем в подарок дому:
«Касатка? Дай ее сюда!»
Жена, бывало, недовольна:
«Опять касатки, караси!»
Такой прием пугал невольно,
Любого рыбаря спроси.
Жене подай омлет, котлетку,
Но те минули времена,
Не так гладит в рыбачью сетку
Теперь капризная жена.
И, разрешив ее загадку
И рыбу выложивши в таз,
Она за каждую касатку
Теперь в уста целует вас.
И чистить рыбу ей не скучно
(Хоть рыбий запах ей претил),
Она ликует страстно, звучно,
И муж-рыбак – ей очень мил.
Но что до женских нам истерик,
До шумной дамской кутерьмы…
Уж полдень!.. Лодочки на берег
Теперь вытаскиваем мы.
Костер, чаек… и Антипаса
Чудесный, веселящий дар
Из двухбутыльного запаса
С собой привозим мы всегда.
Всё хорошо и всё отлично, —
Мы мирный разговор ведем:
Вот у Володи сом приличный,
У Коли же сорвалсясом.
Пособолезнуй и поахай,
Не подвирай: сосед неглуп!
«Но что же делать с черепахой!» —
«Из черепахи сварим суп!»
Час сна, а там опять на лодки…
День чудный… Ветер точно бриз,
А там уже и вечер кроткий
Над тихим озером повис.
Неторопливы наши сборы,
Но Фриц копается, как крот.
И вот плывут навстречу створы,
Навстречу створам мчится флот.
Уж город искрится далекий,
Зажглись вечерние огни…
И кто-то говорит о Блоке,
О том, как странны наши дни.
И веет тишиной большою,
И – так капризна сердца нить —
Мы, отдохнувшие душою,
Еще неделю можем жить.
Новая рифма («Ты упорен, мастеру ты равен…»). Р. 1944, № 21.
[Закрыть]
Ты упорен, мастеру ты равен,
Но порой, удачной рифме рад,
Ты не веришь, что еще Державин
Обронил ее сто лет назад.
Не грусти, что не твоя находка,
Что другим открыт был новый звук, —
Это ты прими не только кротко,
Но благоговейно, милый друг!
В звуковые замкнуты повторы,
Мы в плену звучаний навсегда, —
Все мы к небу обращаем взоры,
Но на нем – одна на нем звезда.
И нам, взоры на едином сплетшим,
Может быть, и радость только в том,
Чтобы вдруг узнать себя в ушедшем,
Канувшем навеки, но живом.
И поверить радостно и свято
(Так идут на пытку и на крест),
Что в тебе узнает кто-то брата
Далеко от этих лет и мест.
Что, когда пройдут десятилетья
(Верь, столетья, если ты силен!),
Правнуков неисчислимых дети
Скажут нежно: мы одно, что он!
Смертно всё, что расцветает тучно,
Миг живет, чтобы оставить мир,
Но бессмертна мудрая созвучность,
Скрытая в перекликаньи лир.
Всё иное лучше ненавидеть,
Пусть оно скорее гасит след…
Потому и близок нам Овидий
И Державин, бронзовый поэт.
Ненастье («Золотая маньчжурская осень…»). Р. 1944, № 27.
[Закрыть]
Золотая маньчжурская осень, —
Кто писал про ее красоту?
Даже скверною рифмою просинь
Я сегодня ее не почту.
Дождь – без просыпу. Без перерыва
Тучи серое тянут сукно,
И поникший подсолнух тоскливо
В ослезенное смотрит окно.
Ищет песик с обиженной мордой
Через грязь относительный брод.
Жирный гусь, приосанившись гордо,
Что-то наглое небу орет.
Ах вы, гуси, спасители Рима,
Ах вы, лапчатые мои,
Как осенняя мгла нелюдима,
Как мертво у крыльца и скамьи!
Весь ты в сырости, в плесени, мирик
Мертвых грез и живучей тоски,
И слагает нахохленный лирик
Непогожие эти стихи.
Хоть бы буря!.. с ломающим вязы
Ветром-тигром, с кровавой судьбой,
Только не был бы голос мой связан
Безнадежностью этой тупой.
У чужого окна («У приятеля свет в окне…»). Р. 1944, № 30.
[Закрыть]
У приятеля свет в окне —
У него и жена, и гости…
Не укрыться ль к нему и мне
От осенней тоски и злости?
Но ведь, в сущности, я ничто
Для него, а гостям, пожалуй,
Помешаю играть в лото
По какой-то копейке малой.
Есть для некоторых закон
Неслиянности. Вместе с ними,
Побродягами, обречен
Я путями блуждать ночными!
А ведь были ж в моем былом
И жена, и лото, и кошка,
И маячило огоньком
В чью-то ночь и мое окошко.
И такая меня тоска
Разрывала тогда на части,
Что на удочки рыбака
Променял я всё это счастье.
И теперь я свободен, как
Ветер, веющий взмах за взмахом,
И любой мне не страшен мрак,
И смеюсь я над всяким страхом.
И когда мне беззубым ртом
Смерть предскажет судьба-гадалка, —
В этом мире, уже пустом,
Ничего мне не будет жалко!..
Полгода («Вот полгода, как мы расстались…»). Р. 1944, № 30.
[Закрыть]
Памяти А.З. Белышева-Полякова
Вот полгода как мы расстались,
И заботою женских рук
Сколько раз уж цветы менялись
На могиле твоей, мой друг.
Что тебе рассказать, мой милый?..
В вечереющей тишине
Я грустил над твоей могилой,
Ты во сне приходил ко мне…
И беседовал я с тобою,
И когда просыпался вдруг,
Мне казалось, что надо мною
Окрыленный промчался друг.
Ах, не знаю!.. Но даже если
Ты теперь только светлый дух,
Я тебя вижу в старом кресле,
Речь спокойную ловит слух.
И от печи железной жарко,
И поет на коленях кот,
И в рассказах твоих так ярко
Жизнь угасшая восстает.
Вот и ты, как и все на свете,
В некий сумрачный час угас,
Но как в прошлые дни – и в эти
Где-то близко ты возле нас.
Тихо листьями золотыми
Сыплет осень из щедрых рук,
И с речами совсем простыми
Я к тебе обращаюсь, друг.
Ведь живанам твоя могила,
И мы верить светло хотим,
Что тебе интересно, милый,
Как живем мы, о чем грустим.
Дни бегут, но не ярче зорька
За печальным встает окном.
Часто женщина плачет горько
Над могильным твоим холмом.
Я и пил, и писал… Рыбачил,
Летний твой обиход любя,
И бывал я на той же даче,
Только не было там тебя.
И, твои вспоминая речи,
Думал я, не крушась судьбой:
Уж не так далеко до встречи,
До свидания нам с тобой!
Азия и Европа («Как двух сестер задумал их Господь…»). Р. 1944, № 35.
[Закрыть]
Как двух сестер задумал их Господь
На голубом, на справедливом небе:
Едина человеческая плоть,
Но разны лики и различен жребий.
Одна, прикрыв кольчугой мрамор плеч,
Красавица с лицом патрицианки,
Надменную сестре цедила речь
И строила дредноуты и танки.
Другую же пленял спокойный труд,
Янтарь зерна и ветка спелых ягод,
Мечтательно завечеревший пруд
С таким красивым отраженьем пагод.
И в горький плен сестру взяла сестра:
Преодолев просторы и пустыни,
Она ее заставила с утра
И до утра – влачить ярмо рабыни.
Всё, чем цвели поля ее земли,
Всё, чем природа наградила щедро, —
Всё это увозили корабли,
Поля ограбив и ограбив недра.
Года, годины!.. И вздохнул Господь
На голубом, на справедливом небе:
Пусть лики разны, но едина плоть, —
Несправедлив порабощенья жребий.
И в ту сестру, что ниц уже легла
В пределе тяжкого долготерпенья,
Вонзается небесная стрела —
Мысль о свободе, об освобожденье.
Так детонатор вызывает взрыв,
Так молния раскалывает сосны,
И вздыбливает Азию порыв
Освободительный, победоносный!
И новая в истории война,
Озарена одной высокой целью —
Дробит, ожесточения полна,
Насилья цитадель за цитаделью.
Старые погоны(«Сохранились у меня погоны…»). ЛA. 1944, № 3. Несмелов описывает погоны поручика – этот чин поэт получил в Омске, находясь в армии А.В. Колчака.
[Закрыть]
Сохранились у меня погоны —
Только по две звездочки на них,
И всего один просвет червленый
На моих погонах золотых.
И печально память мне лепечет,
Лишь на них я невзначай взгляну:
Их носили молодые плечи,
Защищавшие свою страну.
Засыпали их землей гранаты,
Поливали частые дожди.
В перебежках видели солдаты
Золотой галун их – впереди!
На него из зарослей полыни
Пулемет прицел свой наводил,
Но везде – за Вислой, на Волыни
Бог меня от гибели хранил.
К тем погонам – чтоот них осталось,
Им лишь горечь памяти нести! —
На ходу стреляя, цепь смыкалась,
Чтоб удар последний нанести.
И уравзрывалось исступленно,
И в руке подрагивал наган, —
Эти почерневшие погоны
Опрокидывали врага!
Довелось им видеть небо Польши,
Под старинным Ярославом быть.
Почему ж не удалось им больше
Звездочек серебряных добыть?
Эх, весна семнадцатого года,
Гул июля, октября картечь!..
Посрывала красная свобода
Все погоны с офицерских плеч.
С ярым воем «Золотопогонник!»
За мальчишкой погналась беда.
Била в битве, догнала в погоне
Нас пятиконечная звезда!
Уж по телу резались погоны,
Забивались звездочки в плечо…
Разве пленных офицеров стоны
В нашем сердце не звучат еще?
Чести знак, возложенный на плечи,
Я пронес сквозь грозную борьбу,
Но, с врагом не избегая встречи,
Я не сам избрал себе судьбу.
Жизнью правят мощные законы,
Место в битве указует рок…
Я люблю вас, старые погоны,
Я в изгнаньи крепко вас берег!
Говорят, опять погоны в силе —
Доблести испытанный рычаг!..
Ну, а те, что прежде их носили
На своих изрубленных плечах?
Что поделать – тех давно убили.
Не отпели. Не похоронили:
Сгнили так!..
……………………………………
Память длит рассказ неугомонно.
Полно, память, – день давно погас…
Эти потемневшие погоны
Все-таки оправдывают нас!
Старик («В газете и то и это…»). ЛА. 1944, № 4.
[Закрыть]
В газете и то и это,
Гремит на столбцах война,
Но нет, старику газета
Не этим совсем нужна.
И, щурясь в очки, упорно
Он тычет глаза в одно —
Что сверху каймою черной
Печально обведено.
И ахнет, и быстро стянет
Очки; перекрестит лоб…
«Иван-то Иваныч… Ваня!..
Да можно ль подумать, чтоб…»
Еще не прошло недели
(Теперь каково семье!),
Как рядом они сидели
У Чурина на скамье.
И чувствует – всё пустынней
Становится вкруг него.
И холод, подобно льдине,
Коснется души его.
Зубры («Жили зубры в Беловежской пуще…»). ЛA. 1944, № 5. Строго говоря, последний зубр в Беловежской Пуще был убит 9 февраля 1921 года польским лесником Варфоломеем Шпаковичем.
[Закрыть]
Жили зубры в Беловежской пуще
(Нет трущобы сумрачней и гуще!),
Жили зубры, считанные звери,
И к свободе не искали двери.
Берегли объездчичьи заботы
Их для императорской охоты,
Для высокой рыцарской забавы,
Для потехи царской и для славы.
В год какой-то, скажем, предпоследний,
Приглашен был и король соседний
Пострелять по зубрам, порезвиться,
Меткостью, отвагой отличиться.
От сторожки до другой сторожки,
Лаем, криком поднятый из лёжки,
Первый зверь пошел неторопливо,
Сановитый и широкогривый.
Он не с гневом, а с тупой досадой
Шел туда, где, скрытые засадой,
Ждали зубра широченной груди
Затаившие дыханье люди.
Величав и царственно-спокоен,
Высочайшей пули удостоен,
Пал он наземь (и другие пали),
И стрелков согбенно поздравляли.
В домике охотничьем красивом
Наполнялись кружки желтым пивом,
И бокалом пенисто-янтарным
Царь прощался с гостем благодарным.
Но они в последний раз так пили —
Императоры в войну вступили,
А солдатам в изморозь и слякоть
О себе, а не о зубрах плакать.
Солдатишка славно пообедал,
Царской дичи котелок отведал,
И последний зубр широколобый
На поляну вышел из чащобы.
Он в земле копытом яму выбил —
Знать, чутье предсказывало гибель:
Царской воли жертва и забава,
Он теперь на жизнь утратил право!
Рассказ об осажденных («Гезов („Е“ произносите мягко…»). ЛA. 1944, № 13.
[Закрыть]
Гезов («Е» произносите мягко)
Осадили гордые испанцы
В крепости приморской в Нидерландах;
Гибель ожидала протестантов.
Скоро съели все они запасы;
Голубей ловили, убивали
В голубятнях, крысами питались;
Отощали гезы, изнурились!
Близко к стенам подошли испанцы,
Издевались, требовали сдачи
Или же со льстивыми речами
Жирною бараниной дразнили,
Обещая накормить и шпаги
Всем оставить, лишь бы только сдались.
Но стреляли гезы по нахалам;
Сам Вильгельм Оранский Молчаливый
Улыбался на удачный выстрел,
Отощав не меньше, чем другие.
Но нашелся между гезов пришлый
Человек с далеких Пиренеев;
Он повел тогда дурные речи,
Говоря, что если бы испанцы
Даже лгали, обещая шпаги
Им оставить, всё же перед смертью
Досыта, пожалуй, всех накормят;
Если ж делать выбор, то, конечно,
Смерть с набитым пузом – веселее.
Хмурились защитники, однако
Слушали те речи без обрыва;
И дошла та болтовня до слуха
Герцога Оранского однажды.
И собрал на площади он гезов
И с таким к ним обратился словом:
«Тем, кто хочет сдаться, не перечу,
И ворота я для них открою:
Пусть уходят хоть сейчас к испанцам;
Жизнь есть дар, ниспосланный от Бога,
И хранить ее обязан каждый —
В этом нет и не было плохого;
Но иной не переносит рабства,
Руку он не лижет по-собачьи,
Что его на цепь раба сажает,
Смерть в бою предпочитая рабству;
В этом всё мое к вам обращенье:
Кто со мной на вылазку согласен,
Пусть за мною с площади уходит;
Остальных я обещаю честно
Отпустить немедленно к испанцам».
Герцог кончил и шагнул направо,
К бастионам, к пушкам замолчавшим;
И за ним последовали гезы,
А на тихой площади остался
Лишь один болтливый пиренеец —
Болтунишка был шпионом Альбы.
В эту ночь, сломав кольцо осады,
На свободу вырвалися гезы
И в лесу, на первом же биваке,
Из обозов взятое испанских,
Жарили чудеснейшее мясо.
И, насытясь, гезы говорили,
Что хотя и прозван Молчаливым
Их любимый вождь, Оранский герцог,
Но когда понадобится – слово
Может он сказать других не хуже!
……………………………………….
Эту повесть в очень грустный вечер
Рассказал мне боевой товарищ:
Враг тогда грозил нам беспощадный,
Хитрый враг, нам обещавший много,
Лишь бы мы оружие сложили.
Но товарищ, рассказав о гезах,
Мне напомнил, что с цепями рабства
Невозможно наслаждаться жизнью,
Жизнь раба позорна и страшна!
И, вздохнув, мы вышли из закрытья;
Поднималось розовое солнце;
Мчался ветер; начинался бой.
Как пароход от пристани («В эту ночь…»). Р. 1945, № 1.
[Закрыть]
В эту ночь,
Как пароход от пристани,
Тяжко нагруженный, —
Отойдет
К вечности, к немотствующей истине
Близкий нам Сорок Четвертый Год.
Воет медь гудка тоскою ранящей.
Капитан сединами оброс.
Где-то в трюме найдено пристанище
Для надежд и опаленных грез.
Там стихи и стоны, там и жалобы,
Там начал несбывшихся концы.
И платками машут с черной палубы
Дорогие сердцу мертвецы…
И глядим с тоской или беспечностью,
Как в туман необозримых вод
Уплывает,
Поглощаем вечностью,
Близкий нам
Сорок Четвертый Год!
Увозят зиму («Дни о весне не лгут…»). Р. 1945, № 3.
[Закрыть]
Дни о весне не лгут,
Их знаменуя прибыль, —
Вот уж с реки везут
Льда голубые глыбы.
В каждой алмаз горит,
Блещет невыразимо…
…Девочка говорит:
«Мама, увозят зиму!»
В полночь («От фонаря до фонаря – верста…»). Р. 1945, № 4.
[Закрыть]
От фонаря до фонаря – верста.
Как вымершая, улица пуста.
И я по ней, не верящий в зарю,
Иду и сам с собою говорю —
Да, говорю, пожалуй, пустяки,
Но всё же получаются стихи.
И голос мой, пугающий собак,
Вокруг меня лишь уплотняет мрак;
Нехорошо идти мне одному,
Седеющую взламывая тьму, —
Зачем ей человеческая речь,
А я боюсь и избегаю встреч.
Любая встреча – робость и обман.
Прохожий руку опустил в карман,
Отходит дальше, сгорблен и смущен, —
Меня, бродяги, испугался он.
Взглянул угрюмо, отвернулся – и
Расходимся, как в море корабли.
Не бойся, глупый, не грабитель я,
Быть может, сам давно ограблен я,
Я пуст, как это темное шоссе,
Как полночь бездыханная, как все!
Бреду один, болтая пустяки,
Но всё же получаются стихи.
И кто-нибудь стихи мои прочтет,
И родственное что-нибудь найдет:
Немало нас, плетущихся во тьму,
Но впрочем лирика тут ни к чему…
Дойти бы, поскорее дошагать
Мне до дому и с книгою – в кровать!
Ракета (Под всяческой мглой, под панцирем…»). Р. 1945, № 8.
[Закрыть]
Под всяческой мглой, под панцирем
Железа и кирпича,
Как радиостанция – станции,
Сигнал позывной стуча, —
Вот так же (поверьте этому
Как слову, не как словцу!)
Поэт говорит с поэтами,
Внимает творец творцу.
Рассеянные в пространстве,
Чтоб звездами в нем висеть,
Мы – точки радиостанций,
Одна мировая сеть.
И часто, тревожно радуясь,
Я слышу, снижая лёт:
Ее раскаленный радиус
Сквозь сердце мое поет.
Хоть боль нестерпима – вытерплю!
Ведь это, со мною слит,
Быть может, поэт с Юпитера
О вечности говорит.
А то, что из сердца вырою
С тоской и таким трудом,
Быть может, умчит на Сириус
И в сердце сверкнет другом.
Развертыванье метафоры?
Размах паранойи? – Нет,
Всё это докажут авторы
Не очень далеких лет
С параграфами, примерами,
И вывод – в строку одну.
А это – ракета первая,
Отправленная на Луну!
Год («Год прошел. Вновь над твоей могилой…»). Р. 1945, № 9.
[Закрыть]
Памяти А.З. Белышева-Полякова
Год прошел. Вновь над твоей могилой
Облака весенние плывут,
И опять звенит, звенит кадило
И о вечной памяти поют.
Дремлешь ты, а жизнь в весеннем росте
Поднимает травку у скамьи…
И к тебе опять собрались в гости
Все друзья, все близкие твои.
И, конечно, ты душою с нами,
Даже ты не дремлешь, не молчишь:
Ты своими милыми стихами
С памятника с нами говоришь.
Он рукою любящей поставлен,
В строгих урнах – зелень и цветы…
Памятью живущих не оставлен —
Не забыт и не покинут ты.
Год прошел, не остудив нимало
Теплоты и верности в сердцах,
И опять, как прежде, как бывало,
Мы, Андрюша, у тебя в гостях!
Волхвы Вифлеема («Шел караван верблюдов по пустыне…»). ЛА. 1945. № 1.
[Закрыть]
Шел караван верблюдов по пустыне,
Их бубенцы звенели, как всегда.
Закат угас. На тверди темно-синей
Всходила небывалая звезда
И было всё таинственно и дивно —
Особая спускалась тишина…
И в этот миг, как некий звук призывный,
Вдруг где-то арфы дрогнула струна.
Как будто дождь серебряной капели
Стал ниспадать на стынущий песок:
То, пролетая, ангелы запели,
Переступив высокий свой порог!
И был прекрасен хор сереброкрылый,
Он облаком пронесся и исчез.
И, разгораясь, светочем всходила
Звезда на синем бархате небес.
И было всё настороженно-немо,
Погас вдали последний отблеск крыл,
И на огни, на кедры Вифлеема
Вожатый караван поворотил.
Из мглы горы сиял пещеры вырез,
Чуть слышалось мычание волов,
И в звездном свете сказочно струились
Серебряные бороды волхвов.
Кеша и Гоша («В городе волжском два друга жили…»). ЛA. 1945. № 3. В. Кибардин, которому посвящено стихотворение, – лицо неустановленное.
[Закрыть]
В. Кибардину
В городе волжском два друга жили,
В лапту играли, в школу ходили,
И оба были в дни той весны
В одну гимназисточку влюблены.
А город хвостищем своим нелепым
Война захлестнула, и над совдепом
Кумач, угрожая отцам бедой,
Своей пятипалой хлестал звездой.
А тут еще переэкзаменовки!..
Не краше ли старые взять винтовки
И с ними, со стайкой других ребят,
В какой-то лохматый вступить отряд.
И вот – на вокзале. И вот у Жени
Для Кеши и Гоши букет сирени,
И вот от «ура», от последних ласк
Ребят отрывает вагонный лязг.
Граната, подвешенная на пояс,
Куда-то ползущий ослепший поезд,
И с кружкой, подсунутой чьей-то рукой,
Впервые в гортани ожог спиртовой.
Плечистее Гоша, глазастее Кеша,
Сердца боевою забавой теша, —
Всегда на виду и всегда впереди,
И хвалит их взводный с крестом на груди.
И Кеша, и Гоша любимы отрядом,
В бою, у костра ли – всегда они рядом:
И школа, и Женя, и этот поход —
Их крепко спаял восемнадцатый год!
Уже под Уралом, в скалистых откосах,
Отряд напоролся на красных матросов,
И Кеша упал с перебитой ногой,
Но друг не оставил его дорогой.
Увы, не уходят с тяжелою ношей,
Достались матросам и Кеша, и Гоша,
И маузер кто-то, бессмысленно-зол,
На мальчика раненого навел.
Но Гоша, кольцо разрывая охвата,
Собой заслонил сотоварища-брата
И крикнул: «Меня, если хочешь, убей,
Но Кешу… но раненого – не смей!»
И вздрогнул от первой стремительной боли —
Матросы штыками его закололи,
А друг был отбит и, поведали мне,
Безногий, живет до сих пор в Харбине.
Да светится память подростка, героя
Безвестного, давнего, малого боя,
Сумевшего в зверский, в бессмысленный миг
Высоко поднять человеческийлик!
«Пели добровольцы. Пыльные теплушки…». Разыскано В.Ф. Перелешиным в 1980-е годы. На копии пометка: опубликовано – «Картины прошлого», № 4.
[Закрыть]
Пели добровольцы. Пыльные теплушки
Ринулись на запад в стукоте колес.
С бронзовой платформы выглянули пушки.
Натиск и победа или под откос.
Вот и Камышлово. Красных отогнали.
К Екатеринбургу нас помчит заря:
Там наш Император. Мы уже мечтали
Об освобожденьи Русского Царя.
Сократились версты, – меньше перегона
Оставалось мчаться до тебя, Урал.
На его предгорьях, на холмах зеленых
Молодой, успешный бой отгрохотал.
И опять победа. Загоняем туже
Красные отряды в тесное кольцо.
Почему ж нет песен, братья, почему же
У гонца из штаба мертвое лицо,
Почему рыдает седоусый воин?
В каждом сердце словно всех пожарищ гарь.
В Екатеринбурге – никни головою —
Мучеником умер кроткий Государь.
Замирают речи, замирает слово,
В ужасе бескрайнем поднялись глаза.
Это было, братья, как удар громовый,
Этого удара позабыть нельзя.
Вышел седоусый офицер. Большие
Поднял руки к небу, обратился к нам:
«Да, Царя не стало, но жива Россия,
Родина Россия остается нам.
И к победам новым он призвал солдата,
За хребтом Уральским вздыбилась война.
С каждой годовщиной удаленней дата;
Чем она далече, тем страшней она.








