Собрание сочинений в 2-х томах. Т.I : Стиховорения и поэмы
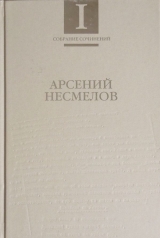
Текст книги "Собрание сочинений в 2-х томах. Т.I : Стиховорения и поэмы"
Автор книги: Арсений Несмелов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Десятилетним («Мне последовать пора бы…»). Р. 1933, № 38. «Так и Петр, еще ребенок, / С дядькой Зотовым…»– Зотов Никита Моисеевич (ум. 1718) – учитель Петра Великого, сопровождал царя в Азовском походе, причем, по словам Петра, «был в непрестанных трудах письменных расспрашиванием многих языков и иными делами».
[Закрыть]
Мне проследовать пора бы
Мимо вас к заботам дня,
Но, ребята, ваш кораблик
Задержал сейчас меня.
Он плывет, и крик ваш звонок,
У булыжника – аврал…
Так и Петр, еще ребенок,
С дядькой Зотовым играл.
Подождите, подрастете,
И у вас, как у него,
Будет Яуза и ботик,
Встреча с вольной синевой!..
Накормите ж сталью мускул,
Укрепите волей грудь,
Чтоб пристать к границам русским
Вы смогли когда-нибудь.
Чтобы дух ваш не был связан,
Чтоб иной была пора,
Чтобы пал советский Азов,
Как турецкий у Петра!
И тогда – проходят мимо
Дни, согбенно семеня, —
Вы моей земле родимой
Поклонитесь от меня!
Без («Бестрепетность. Доверчивость руки…»). Р. 1933, № 39.
[Закрыть]
Бестрепетность. Доверчивость руки.
И губы, губы, сладкие как финик,
И пряди, выбившиеся на виски,
И на висках рисунок жилок синих.
И ночь. И нарастание того,
Что называет Пушкин вдохновеньем…
Автомобиль буграстой мостовой,
И световой, метущий тени веник.
И это всё. До капли. До конца…
Так у цыган вино гусары пили.
Без счастья. Без надежды. Без венца.
В поющей муке женского лица,
Без всяких клятв, без всяких «или – или»!
Мой удар («Когда придет пора сразиться…»). Р. 1933, № 44.
[Закрыть]
Когда придет пора сразиться
И ждут сигнального платка,
Ты, фехтовальщик, став в позицию,
Клинком касаешься клинка.
За этим первым ощущением
Прикосновения к врагу
Как сладко будет шпагу мщения
О грудь его согнуть в дугу…
Но нет, но нет, не то, пожалуй:
Клинок отбросив на лету,
Я столько просьб и столько жалоб
В глазах противника прочту.
И, салютующий оружьем,
Скажу, швырнув в ножны клинок:
«Поэты, смерти мы не служим, —
Дарую жизнь тебе, щенок!»
Расстрелянные сердца («Выплывут из памяти муаровой…»). Р. 1934, № 7.
[Закрыть]
Выплывут из дальности муаровой
Волга и Урал.
Сядет генерал за мемуары,
Пишет генерал.
Выскребает из архивной пыли
Даты-светляки.
Вспоминает, как сраженья плыли,
Как бросал полки.
И, носясь над заревом побоищ,
В отзвуках «ура», —
Он опять любуется собою,
Этот генерал.
Нам же, парень, любоваться нечем:
Юность истребя,
Мы бросали гибели навстречу
Лишь самих себя.
Перестрелки, перебежки, водка,
Злоба или страх,
Хрипом перехваченная глотка,
Да ночлег в кустах.
Адом этим только на экране
Можно обмануть.
Любят разжиревшие мещане
Посмотреть войну.
Любят в мемуарах полководцев
Памяти уют,
Ибо в них сражение дается,
Как спектакль дают.
Не такою вздрагивают дрожью,
Как дрожал солдат…
Есть и будут эти строки – ложью
С правдой цифр и дат!
Ложью, заметающею зверств и
Одичаний след.
А у нас – расстрелянное сердце
До скончанья лет.
Созревшая осень («Окно откроем и не надо…»). Р. 1934, № 42. Эпиграф – из стихотворения Уолта Уитмена «Когда я услыхал к концу Дня» (перевод К. Чуковского). Джампер(уст.) – джемпер.
[Закрыть]
И, напевая, вдохнул созревшую осень.
Уот Уитмен
Окно откроем, и не надо
Курить без передышки… Встань.
За ночь бессонную награда —
Вот эта розовая рань.
Вот эта резвая свобода
Порвать любой тревоги счет.
Гудок какого-то завода
Уже на улицу зовет,
И свежесть комнату ласкает…
Смотри-ка – девушка бежит,
Ее торопит мастерская,
Улыбкой взор ее дрожит.
И, как два яблока на блюде
(Горжусь сравнением моим!),
Она несет две спелых груди
Под тонким джампером своим.
Но рано думать о десерте,
Плотским желанием горя…
Кто из поэтов запах смерти
Учуял в зовах сентября?
Он просто лжец! С какой отрадой
Я пью хрустальное вино,
И, право, всё, что сердцу надо,
В глотке смакующем дано.
Возвращение («Юноша, как яблоко, румян…»). Р. 1934, № 44.
[Закрыть]
Юноша, как яблоко, румян,
От родных уплыл за океан.
Жил безвестно он в краю чужом,
Счастье он нашел за рубежом.
Зрелым мужем, весел и богат,
Странник возвращается назад.
Вот и дом. Стучит… Ответа нет…
Вышел потревоженный сосед.
«Где отец мой?» – В ветре шелестит:
«Твой отец на кладбище лежит.
Холмик неоправленный сдвоя,
Рядом с ним и матушка твоя…»
«Где мой брат?» – И голос отвечал:
«Брат твой нищим попрошайкой стал.
Где-нибудь в трущобе, вниз лицом
Он лежит, исколотый шприцом».
«Где сестра?..» – Приезжему сосед
Почему-то медлит дать ответ.
Хлопнул дверью; доплеснула мгла
Черным ветром: «Лучше б умерла!..»
Город черен, грозный город спит.
Рыжий котик возле ног пищит.
Взял зверька под теплое пальто,
А глаза – к звезде. В глазах: «За что?..»
«Опустошен, изжеван, как окурок…». Р. 1934, № 46. Нурок– автор известного в начале XX века учебника английского языка. «The boy is good. The book is very bad»(англ.) – «Мальчик хороший. Книга очень плохая».
[Закрыть]
Опустошен, изжеван, как окурок,
И все-таки упорней, чем обет, —
Истрепанный предшественником Нурок:
«The boy is good. The book is very bad».
Зачем ему?.. Чужой язык – что крепость
Сорокалетнему: ее не окружить.
Не иллюзорна ли вся наша цепкость,
С которой мы хватаемся за жизнь?
И думаешь: вот так туберкулезный
Порой себе внушает аппетит,
А смерть уже своей косою грозной
Над согнутой спиной его звенит.
Зловеще нависающего мига
Не отстранить, не выползти из рва,
И нам нужна единственная Книга,
В которой есть об Иове слова.
Гряда («Щетина зеленого лука…»). Ф. 1935, № 14.
[Закрыть]
Щетина зеленого лука
На серой иссохшей гряде.
Степные просторы да скука,
Да пыльная скука везде!
Вращает колеса колодца
Слепой и покорный ишак,
И влага о борозду бьется,
Сухою землею шурша.
И льется по грядам ленивой
Струей ледяная вода, —
Не даст ни растения нива
Без каторжного труда.
Китаец, до пояса голый,
Из бронзы загара литой,
Не дружит с усмешкой веселой,
Не любит беседы пустой.
Уронит гортанное слово
И вновь молчалив и согбен, —
Работы, заботы суровой
Влекущий, магический плен.
Гряда, частокол и мотыга,
Всю душу в родную гряду!
Влекущее, сладкое иго,
Которого я не найду.
«Над обрывом, рыж и вылощен…». Р. 1935, № 31.
[Закрыть]
Над обрывом, рыж и вылощен,
Иностранец-рыболов.
Гнется тонкое удилище.
«Не с добычей ли? Алло!»
На воде – круги и полосы.
Натянулась леска вкось.
Тусклый голос, скучный голос:
«Понимайте, сорфалось!»
И опять застыли оба мы,
И немую ширь реки
Гладят пальчиками добрыми
Голубые ветерки.
Даль речная как плавило —
Вся из жидкого огня…
Сколько раз судьба ловила
На крючки свои меня!
Сколько раз, как мистерэтот,
Эта клетчатая трость
(Знать, крючка такого нету!), —
Сокрушалась: «Сорвалось!»
Но не надо бы бахвалиться —
Похваляться хорошо ль?
Поплавка грозящий палец
Мигом под воду ушел.
И маши теперь удилищем,
Чертыхаясь что есть сил…
Иностранец, рыж и вылощен,
Даже глаза не скосил.
«Бывают золотые вечера…». Р. 1935, № 45.
[Закрыть]
Бывают золотые вечера,
Бывают медленные мгновенья,
Когда печаль, уснувшая вчера,
Опять, опять на сердце вяжет звенья
И говорит в спокойном увереньи:
«Пора, мой друг, уже давно пора!»
И голос тот – как добрая пчела,
Поющая о меде и цветеньи:
Она летит у самого чела,
Не отстает, полет свивая в звенья,
В те страшно-медленные мгновенья,
В те дымно-золотые вечера.
«С головой под одеяло…». Р. 1935, № 48.
[Закрыть]
С головой под одеяло,
Как под ветку птаха,
Прячется ребенок малый
От ночного страха.
Но куда, куда нам скрыться,
Если всем мы чужды?
Как цыплята под корытце,
Под крылечко уж бы!
Распластавшийся, – кругами
В небе Рок, наш коршун.
Небо синее над нами —
Сводов ночи горше!
Пушкин сетовал о няне,
Если выла вьюга:
Нету нянюшек в изгнаньи —
Ни любви, ни друга!
«Пустой начинаю строчкой…». «Строфы века» (сост. Е. Евтушенко. Москва-Минск, 1995) по автографу (РГАЛИ). Первая достоверная публикация – «Антология поэзии Дальнего Востока» (Хабаровск, 1967; без четвертой строфы). Прижизненная публикация неизвестна. В автографе под стихотворением дата «1935», вызывающая сомнения (известны другие варианты датировки). Чифу(совр. Яньтай) – город в Китае, в провинции Шэньдун, порт на Желтом море. «Последний великий князь…»– по всей видимости, весьма популярный в эмиграции (не в последнюю очередь – благодаря множеству портретов) Николай Николаевич Романов «Длинный» (1856 – 23.12.1928 или 1929), Великий князь, дядя императора Николая II, главнокомандующий русской армией в Первой мировой войне, значительной частью эмиграции признававшийся главой императорского дома (в противоположность сторонникам вел. кн. Кирилла Владимировича, лишенного Николаем II права на передачу своего титула потомкам); именовался не иначе как «великим национальным вождем» России.
[Закрыть]
Пустой начинаю строчкой,
Чтоб первую сбить строфу.
На карту Китая точкой
Упал городок Чифу.
Там небо очень зеленым
Становится от зари
И светят в глаза драконам
Зеленые фонари.
И рикша – ночная птица,
Храпя, как больной рысак
По улицам этим мчится
В ночной безысходный мрак.
Коль вещи не судишь строго,
Попробуй в коляску сесть:
Здесь девушек русских много
В китайских притонах есть.
У этой, что спиртом дышит,
На стенке прибит погон.
Ведь девушка знала Ижевск,
Ребенком взойдя в вагон.
Но в Омске поручик русский,
Бродяга, бандит лихой
Все кнопки на черной блузке
Хмельной оборвал рукой.
Поручик ушел с отрядом.
Конь рухнул под пулей в грязь.
На стенке с погоном рядом —
И друг, и великий князь.
Японец ли гнилозубый
И хилый, как воробей;
Моряк ли ленивый, грубый,
И знающий только «Пей!»
Иль рыхлый, как хлеб, китаец,
Чьи губы, как терки, трут, —
Ведь каждый перелистает
Ее, как книжку, к утру.
И вот, провожая гостя,
Который спешит удрать,
Бледнеющая от злости,
Откинется на кровать.
– Уйти бы в могилу, наземь!
О, этот рассвет в окне!
И встретилась взглядом с князем,
Пришпиленным на стене.
Высокий, худой, как мощи,
В военный одет сюртук,
Он в свете рассвета тощем
Шевелится, как паук.
И руку с эфеса шашки,
Уже становясь велик,
К измятой ее рубашке
Протягивает старик.
И плюнет она, не глядя,
И крикнет, из рук клонясь:
«Прими же плевок от бляди,
Последний великий князь!»
Он глазом глядит орлиным,
Глазища придвинув вплоть.
А женщина с кокаином
К ноздрям поднесла щепоть.
А небо очень зеленым
Становится от зари.
И светят в глаза драконам
Бумажные фонари.
И первые искры зноя —
Рассвета алая нить —
Ужасны, как всё земное,
Когда невозможно жить.
Юли-юли («Мне душно от зоркой боли…»). Р. 1936, № 7. Юли-юли– «Так в этом городе (во Владивостоке – Е. В.) называются и самое суденышко, и его капитан-китаец (он же и вся команда), орудующий – юлящий – кормовым веслом» («Наш тигр»).
[Закрыть]
Мне душно от зоркой боли,
От злости и коньяку…
Ну, ходя, поедем, что ли,
К серебряному маяку!
Ты бронзовый с синевою,
Ты с резкою тенью слит,
И молодо кормовое
Весло у тебя юлит.
А мне направляет глухо
Скрипицу мою беда,
И сердце натянет туго
Ритмические провода.
Но не о ком петь мне нежно, —
Ни девушки, ни друзей, —
Вот разве о пене снежной,
О снежной ее стезе,
О море, таком прозрачном,
О ветре, который стих,
О стороже о маячном,
О пьяных ночах моих,
О маленьком сне, что тает,
Цепляясь крылом в пыли…
Ну, бронзовый мой китаец,
Юли же, юли-юли!..
«Пусть одиночество мое сегодня…». Р. 1936, № 8.
[Закрыть]
Пусть одиночество мое сегодня —
Как масляный фонарик у шахтера
В руке, натруженной от угля и кирки,
Который он над головою поднял,
Чтоб осветить сырого коридора
Уступы, скважины и бугорки.
Свети же, одиночество, свети же!
В моем пути подземном мне не нужен
Ни друг, ни женщина! Один досель
И впредь один, путем, который выжжен
Раскатами обвалов за спиною,
Отчаяньем погибших предо мною, —
Скребусь туда, где пребывает Цель!
«Вниз уводят восемь ступеней…». Р. 1936, № 11. «…болтливый кокаин»– Валерий Перелешин в книге воспоминаний «Два полустанка» (Амстердам, 1987) пишет о процедуре покупки кокаина в Харбине и последующем действии наркотика: «В воротах приоткрывалось окошечко, смуглая рука корейца сгребала деньги и оставляла на узенькой полочке понюшку кокаина. <…> После “нюхнеуса” все сразу захотели говорить, причем говорили умно, увлекательно» (с, 51–52).
[Закрыть]
Вниз уводят восемь ступеней.
Дверь скрежещущая. Над ней,
На цепи – качай его, звонарь! —
Колокол отчаянья – фонарь.
Влево, вправо вылинявший свет,
Точно маятника даи нет…
Сочетавшиеся свет и звук,
Взмахи дирижирующих рук.
Никнет месяц. Месяц явно рыж
От железа этих ржавых крыш.
Ночь прислушивается. Дома —
Как тысячелистые тома.
Как на полках книги дремлют в ряд,
Четырехэтажные стоят.
Неужели вам, бездарный день,
В них еще заглядывать не лень!
Вот рассвета первые ростки.
Неба побелевшие виски.
Восемь ступеней, как восемь льдин.
Восемь. И болтливый кокаин!
Застегну до ворота пальто.
Брошусь в пробегающий авто.
И, шофера отстраняя прочь,
Догоню спасительницу-ночь.
Над морем («…Душит мгла из шорохов и свиста…»). Р. 1936, № 25.
[Закрыть]
…Душит мгла из шорохов и свиста,
Поднимая теплоту до плеч,
И на плащ, шуршавший шелковисто,
Почему усталым не прилечь?
Вот ты – вся. За тканью, под рукою, —
Мускулов округлое тепло…
Водопадом радости к покою,
Словно лодку, сердце повлекло.
Снова стало видно, слышно стало:
Звон травы, фонарик рыбака…
Снова море шорохом усталым
Говорит, что полночь глубока.
На рассвете дрожь щекочет кожу,
И свернуться хочется в клубок;
На рассвете снится теплый кожух
Дедушкин, уютен и глубок,
Или – сумка (утром сны – о детском)
И цветные в ней карандаши…
На рассвете сны мои не бегство ль
В прошлое стареющей души?
Вот отец, собрав на переносьи
Складки лба, взглянул на шалуна,
И бровей его седоволосье —
Страшно молвить – как у колдуна!
Ты проснешься раньше. И, на локоть
Опершись, – в твоих глазах испуг, —
Поглядишь: из мглы голубоокой
Выплывает алый полукруг.
И, от ночи на земле продрогнув,
Сонной лени разомкнув кольцо,
Взглянешь ты внимательно и строго
На худое милое лицо…
И, упав, чтоб телом греться возле,
Вновь сомкнешь томление и лень.
А восток уже над морем розлил
Золотой и розоватый день…
«Лечь, как ложится камень…». Р. 1936, № 33.
[Закрыть]
Лечь, как ложится камень
На верстовом пути,
И обрасти веками,
В землю до плеч уйти.
Слушать, уставя челюсть
В травы тропы живой, —
Люди шагают через
Каменный череп твой.
Знать, впереди и эти
Лягут: за рядом ряд…
Вот твой удел, Бессмертье,
Высшая из наград!
Из потерянной поэмы («…Двойную тяжесть мы с тобой несем…»). Р. 1936, № 37.
[Закрыть]
… Двойную тяжесть мы с тобой несем,
Нам каждый день, как крепость, отдан с боем,
И рассказать, поведать обо всем
Немыслимо, пожалуй, нам обоим.
У каждого есть некая черта,
И за нее друг друга мы не пустим;
Она встает как некий Гибралтар,
И лишь за ней – нестиснутое устье,
Где подлинность. И там позор и страх,
И там, и там… – не слушай, голубица! —
Там полночью тоскуют у костра
Убийца черный и самоубийца.
Они молчат. Глядят на блеск огня.
Так смотрят совы – кругло, неотводно…
А где-то плачет, не дождавшись дня,
Двум выродкам на поруганье отдан,
Ребенок-сердце…
Мы свято верим в тебя, Россия! («Христос Воскресе! – сквозь…»). ЛА. 1936, № 3.
[Закрыть]
Христос Воскресе! – Сквозь все тревоги
И все лишенья – сияет свет,
И пусть тернисты еще дороги,
Но вере в счастье не скажем: «Нет»!
Христос Воскресе! – Года лихие
Промчат бесследно и навсегда.
Мы вновь увидим поля России
И скажем жизни воскресшей: «Да»!
Христос Воскресе! – Пусть вьются тучи
И ночь над нами мрачна, как бред,
Но бодро верим мы в жребий лучший
И дням грядущим не скажем: «Нет»!
Христос Воскресе! – Из ночи звездной
Нам стяг Российский несут года, —
Мы невредимо пройдем над бездной
И смело скажем надежде: «Да»!
Христос Воскресе! – Над темным бредом
Советских подлых, проклятых лет —
Пройдем мы к русским, святым победам
И всем отпавшим ответим: «Нет!»
Христос Воскресе! – Лихие, злые
Умчат годины, падут года.
Мы свято верим в тебя, Россия,
Твоей победе гремим мы: «Да»!
Подвиг («Обозный люд, ленив и беззаботен…»). ЛA. 1936, № 10. Сахотин– городок на территории Австро-Венгрии (ныне в Словакии), где действительно имело место сражение, описанное Несмеловым. Атаман Семенов – Семенов Григорий Михайлович (1890–1946), атаман Сибирского казачьего войска. В 1917 поднял антисоветское восстание в Забайкалье. Преемник администрации Колчака. В 1945 году захвачен советскими войсками в Маньчжурии и казнен в Москве.
[Закрыть]
Обозный люд, ленив и беззаботен,
Разбрелся по халупам и дворам.
Всё небо в тучах. Маленький Сахотин
В дожде, в ветру… и с ним по временам
Гул долетает канонады тяжкий…
В оконных рамах дребезжит стекло.
А вот штандарт. И у штандарта с шашкой
Стоит казак. И шашка – наголо.
Но что за крики, что за топот странный,
Чужих коней стремительная рысь?
К оружию!.. Немецкие уланы
В несчастное местечко ворвались!
Они неслись, как буревая туча.
Кто даст отпор? Победа им легка…
Обоз захвачен, и плачевна участь
Штандарта беззаботного полка!
Ужели враг его святыню отнял?
Погибла честь, и рок неумолим?
Но в это время забайкальскии сотник
С разведки шел. Лишь девять сабель с ним.
– За мной, орлята! – Ринулись казаки, —
Так в груду тел врезается ядро.
И все трофеи, не приняв атаки,
Им возвратил немецкий эскадрон.
Святой Георгий грудь героя тронул,
И белый крестик засиял на ней.
Но ктогерой истории моей,
Ктоэтот сотник? Атаман Семенов.
Бедности («Требуй, Бедность, выкупа любого…»). «Ковчег» (Нью-Йорк, 1942). Для публикации (по автографу) было передано П.П. Балакшиным (1898–1990), находившимся с Несмеловым в переписке в 1936–1937 годах.
[Закрыть]
Требуй, Бедность, выкупа любого
Из твоих когтей, —
Отбирай из самого святого,
Что всего святей!
Отнимай, как победитель грубый,
Всё и навсегда:
Приказания твои – как трубы
Страшного Суда!
Вымогай заимодавцем грозным,
Ставь на правежи!
Чахлым недугом туберкулезным
К койке привяжи!
Наклоняй негнущуюся спину,
Бей кнутом по ней;
Укажи холопство дворянину
Голубых кровей!
Вкладывай топор тяжеловесный
В руки батраку;
Шествуй вместе с девушкой чудесной
В спальню к старику…
Что еще… С покорностью какою
К алтарю припасть?
Не себя ли собственной рукою
Пред тобой закласть?
О, Богиня, грозным повеленьям
Внемлет всё кругом:
Пред тобою все мы – на колени
И о землю лбом!
За океан («Из русской беженки возвысясь…»). Копия автографа (прислана В. Перелешину П. Балакшиным из США). Прижизненная публикация неизвестна. Адресат стихотворения – поэтесса Тамара Андреева: конце 1920-х она переехала в США, жила в Калифорнии, продолжала печататься в русских изданиях Китая.
[Закрыть]
Т.А.
Из русской беженки возвысясь
До званья гр ажданки чужой,
Из русской девушки став миссис,
Американкой и женой,
Вы всё же, думаю, в полете,
В тревоге поисков еще…
Ну, как, Тамара, вы живете,
Как день восходит и течет?
В труде, в тоске, в заботном плене,
В любви семейственной, простой,
И часто ль душу вдохновенья
Сжигает пламень золотой?
Уж по-английски, не по-русски
Стихи у вас, сказали мне,
И вы уже не в скромной блузке,
Как я вас помню в Харбине.
Но так-то именно и надо,
Надменность юности права:
Глаза у вас стального взгляда,
Стальная ваша синева!
Как удивительно – есть люди,
Чей лик несешь через года,
Но встречи с коими не будет
На этом свете никогда.
И, неким скованный союзом
В просторах сущих и былых, —
Молюсь о вас российским музам
И песню требую у них!
И, если к сердцу эти звуки,
Их скрытая, большая высь,
Над океаном наши руки
В рукопожатии сошлись!
«Сегодня я выскажу вам…». Машинопись с правкой от руки (послало Несмеловым в Сан-Франциско П.П. Балакшину для альм. «Земля Колумба»). Прижизненная публикация неизвестна. В сохранившейся переписке Несмелова с Балакшиным не упоминается. Условно может датироваться 1936–1937 годами. По всей видимости, это единственное сохранившееся стихотворение Несмелова, написанное верлибром. В машинописи после девятой строфы еще одна, перечеркнутая от руки:
Да,ОдновременноЯ испытываю к вамОтвращение и любовь,И, чтобы истребить ее,Я буду вынужден когда-нибудьУничтожить вас.
[Закрыть]
Сегодня я выскажу вам
Самые сокровенные мысли,
Которые раньше прятал,
Как неприличную фотографию
Прячет гимназист.
Как он, замирая от сладострастия,
Отдается ей, запершись в клозете,
Так и я вытаскиваю эти слова
Из конуры моего одиночества.
Послушайте,
На чем основано
Ваше презрение ко всему,
Что не изъявляет желания
Гладить вас по шерстке?
Вы умны? – Нисколько.
Вы талантливы? – Ровно настолько,
Чтобы писать стихи,
За которые платят
По пяти центов за строчку.
Пожалуйста, не улыбайтесь!
Это не шутка
И даже
Не желание оскорбить,
Это много больнее
И называется – истиной.
Кроме того, вы блудник:
Вы не пропускаете мимо ни одной женщины
Без того, чтобы не сказать ей глазами,
Что всегда готовы к прелюбодеянию,
Как револьвер к выстрелу.
Малейшая неудача
Приводит вас в отчаяние,
Но подлинное несчастье
Не ощущается вами,
Как землетрясение не ощущается клопом.
И все-таки,
Человек высоких вдохновений,
Я испытываю к вам
Родственную – наикрепчайшую! – любовь,
Которая мучит меня,
Как мучит порядочного человека
Связь с недостойной женщиной.
Да, вероятно,
Я когда-нибудь убью вас,
Как добродетельная жена
Убивает мужа,
Изменившего ей с проституткой.
И что же,
Ваше внимательное и любезное лицо,
Лицо сорокалетнего мужчины,
Продолжает улыбаться?
Вы слушаете меня,
Как слушают старую, надоевшую жену,
Как институтские глупости
Некрасивой женщины!
Я отклоняю дверцу зеркального шкафа.
Ибо, если невозможен развод,
Лучше уметь Не замечать друг друга.
Отправляйтесь жить своею жизнью,
Как я живу своею.
До новой встречи в уличающей плоскости
Первого зеркала!
Письмо («Листик, вырванный из тетрадки…»). Копия автографа (архив П. Балакшина). Прижизненная публикация неизвестна. Судя по письмам А. Несмелова П. Балакшину, которому было послано это стихотворение, он опасался его публикации и просил напечатать под малоизвестным псевдонимом «Арсений Бибиков».
[Закрыть]
Листик, вырванный из тетрадки,
В самодельном конверте сером,
Но от весточки этой краткой
Веет бодростью и весельем.
В твердых буквах, в чернилах рыжих,
По канве разлиновки детской,
Мысль свою не писал, а выжег
Мой приятель, поэт советский:
«День встает, напряжен и меток,
Жизнь напориста и резва,
Впрочем, в смысле свиных котлеток
Нас счастливыми не назвать.
Всё же, если и все мы тощи,
На стерляжьем пуху пальто,
Легче жилистые наши мощи
Ветру жизни носить зато!..»
Перечтешь и, с душою сверив,
Вздрогнешь, как от дурного сна:
Что, коль в этом гнилом конверте,
Боже, подлинная весна?
Что тогда? Тяжелей и горше
Не срываются с якорей.
Злая смерть, налети, как коршун,
Но скорее, скорей… Скорей!
«Ходил поэт и думал: я хороший…». Копия автографа (архив П. Балакшина). Прижизненная публикация неизвестна.
[Закрыть]
Ходил поэт и думал: я хороший,
Талантливый, большой, меня бы им беречь!
И хлюпал по воде разорванной калошей
И жался в плащ углами острых плеч.
Глаза слезят от голода и яда,
В клыках зубов чернеет яма рта.
Уже вокруг колючая ограда
И позади последняя черта.
И умер он, беззлобный и беспутный,
Ночных теней веселым пастухом.
Друзья ночей, воры и проститутки,
Не загрустят о спутнике ночном.
Лишь море в мол из розового мрака
Плеснет волны заголубевший лед
Да мокрая бездомная собака
Овоет смерть собачью и уйдет.
Тень («Весь выцветший, весь выгоревший. В этом…»). Копия автографа (архив П. Балакшина). Прижизненная публикация неизвестна.
[Закрыть]
Весь выцветший, весь выгоревший. В этот
Весенний день на призрака похож,
На призрака, что перманентно вхож
К избравшим отвращение, как метод,
Как линию, – наикратчайший путь
Ухода из действительности, – тело
Он просквозил в кипевшую толпу,
И та от тени этой потускнела.
Он рифмовал, как школьник. Исключенья
Из правил позабытого значенья,
И, как через бумагу транспарант,
Костяк его сквозил сквозь призрак тела,
И над толпой затихшей шелестело
Пугливое: российский эмигрант.
Призраки («Как недоверчиво и косо…»). Копия автографа (архив П. Балакшина). Прижизненная публикация неизвестна. ТрубецкойПавел (Паоло) Петрович (1866–1938), итальянско-русский скульптор, анималист, портретист. Представитель импрессионизма. Известен его конный памятник Александру III в Петербурге, открыт в 1909 (на Знаменской площади), ныне временно установлен близ Летнего сада.
[Закрыть]
«Взвейтесь, соколы, орлами,
Поздно горе горевать».
Солдатская песня
Как недоверчиво и косо
Из облаков глядит звезда!
Тайфун крупинками дождя
По глянцевитым лужам бросил.
Как разбежалась фонарей
Испуганная волчья стая!
Подстерегает у дверей
Вот эта тишина пустая.
Дома приземисты и злы,
В них люди сумрачны и строги.
Тоски линялые узлы
Загромоздили все пороги.
Мы постарели все. Уже
Мы телом так отяжелели.
По обязательной меже
Давно плетемся еле-еле.
И вдруг из этой тишины,
Из моросящей едкой пыли,
Приниженности лишены,
Два голоса внезапно всплыли.
Солдатской песенки слова,
Что нами в молодости пета…
И откачнулась голова,
Как от внезапной вспышки света.
…………………………………….
Гремят шаги, звенят штыки,
Горят глаза, смеются лица:
Идут российские полки,
И над дорогой пыль клубится.
Поток шинелей ровно-сер…
«Эх, взвейтесь, соколы, орлами!»
Усатый унтер-офицер
Пронес суворовское знамя.
Неудержим могучий шквал
Потока этого людского.
Вот на коне прогрохотал
Гигант Паоло Трубецкого.
Куда империя стремит
Своих бойцов, к какой победе?
Но мгла черна, как динамит,
Изнемогая, полночь бредит…
Лишь в тучах тлеет синева,
Лишь ночь всё злей и неизвестней…
О, ядовитые слова
Родной простой солдатской песни!
Ужель навеки, навсегда?..
Пронизывающая сталь вопроса!
Китайский город. Ночь. Звезда.
Тайфун крупинками дождя
По глянцевитым лужам бросил.
Состязание богов («Две тысячи упавших лет…»). Копия автографа (архив П. Балакшина). Прижизненная публикация неизвестна. Сюжет взят из «Метаморфоз» Овидия (XI; 85-193). «Властитель Фракии Мидас…»– в греческой мифологии царь Фригии (не Фракии!) Мидас был одним из судей на музыкальном состязании между Аполлоном, игравшим на кифаре, и Паном (вариант – силеном Марсием), игравшим на флейте; признал победителем Пана, за что Аполлон наградил его ослиными ушами. Тмол– горный хребет в Лидии; согласно греческой легенде Тмол, бог этих гор, также был судьей на поединке между Аполлоном и Паном, «…пурпур Тира»– Тир – финикийский приморский город, еще во времена Римской империи считался центром красильного дела; пурпур, извлекаемый из пурпуроносных улиток, традиционно считается финикийским изобретением, «…бог делосский»– Аполлон; согласно мифу, на острове Делос (совр. Дилос) в Эгейском море Лето (Латона), дочь титанов Коя и Фебы, родила от Зевса Аполлона и Артемиду.
[Закрыть]
Две тысячи упавших лет —
Ведь это там, где зрели мифы!..
…Жил замечательный поэт.
В изгнаньи умер он. И скифы
Сожгли его достойный прах.
…Не будь же, милый дух, в обиде,
Что речь твоя в чужих устах…
Теперь же говорит Овидий.
Властитель Фракии Мидас,
Оставив город свой веселый,
В лесные дебри навсегда
Ушел, и у подножья Тмола,
Горы с вершиной снеговой,
Живет, как Пан, соседом Пана,
Свирели ласковой его
Внимая ночью осиянной.
Бог козлоногий восхищал
Царя-отшельника игрою.
Из-за зеленого плюща
Он наблюдал за ним порою.
И видел, как нагих дриад
И нимф с росинками на коже
Свирельный легкокрылый яд
Вел к богу хитрому на ложе.
Раз, возгордясь успехом, Пан
Из той глуши, из мглы зеленой,
Собрав на влажный мох полян
Любовниц, вызвал Аполлона
На состязанье – был влюблен
В свое искусство бог коровий, —
И принял вызов Аполлон,
Хотя сурово сдвинул брови.
Арбитром призван старый Тмол,
Бог той горы, где всё случилось,
Он своевременно пришел,
Как в нем лишь надобность явилась.
В венке дубовом лоб. Со щек
Свисали желуди монистой:
Был Тмол и дряхл, и одинок,
И запах шел от бога мшистый.
И боле старый, чем гора,
Он заявил (уж все сидели):
«Судья готов, начать пора!»
И из пастушеской свирели
Пан звуки сладкие исторг,
Козлиной шкурой опоясан,
Повергнул песенкой в восторг
Царя-отшельника Мидаса.
Пан кончил. Божества лесов
И Тмол подняли взоры к небу:
Из туч блеснуло колесо
Блестящей колесницы Феба.
Парнасским лавром волоса
Украсил бог. И в пурпур Тира
(Зарозовели небеса!)
Его окрашена порфира.
Бог лиру левою рукой
Держал. В другой – смычок лучистый.
По самой позе мог любой
Признать в нем мастера, артиста.
Смычком по струнам он повел,
Взглянув на землю благосклонно.
Был очарован старый Тмол
Игрою Феба-Аполлона.
Игры такой, он объявил,
Еще не слыхивали в мире,
Венок победы присудил
Почтенный Тмол не флейте – лире.
Все согласились. В этот миг
Из темных чащ, где он скрывался,
Вдруг выскочил Мидас-старик
И на арбитра раскричался:
«Лицеприятен приговор,
Несправедлив ты, демон старый!»
Тмол обращает кроткий взор
На пришлеца, что в гневе яром
Готов браниться без конца,
И говорит, смеясь глазами:
«Какой же ты судья певцам,
О царь с ослиными ушами!»
Мидас касается рукой
Ушей, робея догадаться.
О боги, ужас, стыд какой —
Они в шерсти и шевелятся!..
Сияя смехом, мощно всплыл
К чертогам неба бог делосский:
Навек бессмертный наградил
Метой ослиной разум плоский!
Вопит Мидас: «Позор, беда!..
Как я наказан, дурень старый!»
И скрыл он уши навсегда
Богатой пурпурной тиарой.
Но мстит жестоко Аполлон
Тупицам, сыновьям бесславной
Бездарности, – и сделал он
Скрываемую глупость – явной.
Прислужник-раб, что подрезал
Царю власы мечом, случайно
Про уши длинные прознал,
И близится необычайный финал…
Боялся жалкий раб
Доверить тайну царской дворне,
На язычок же был он слаб, —
Общеизвестны рабьи корни!
И сделал так он: у ручья
Он вырыл ямку; в ночь глухую
Склонился к ней, в нее шепча
Про тайну царскую лихую.
Поднялся шелковый тростник,
И через год он стае птичьей
Поведал то, что царь-старик
Берег, как дева клад девичий.
Так сын Латоны Аполлон
Был отомщен в своей обиде,
О том поведал нам сквозь сон
Тысячелетний – сам Овидий.
И царь Мидас – он лишь клише,
Что вечной краскою не стынет…
Читатель, мало ли ушей
Ослиных видим и поныне?








