Собрание сочинений в 2-х томах. Т.I : Стиховорения и поэмы
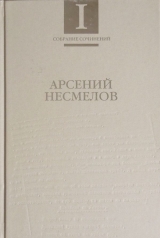
Текст книги "Собрание сочинений в 2-х томах. Т.I : Стиховорения и поэмы"
Автор книги: Арсений Несмелов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Спутник («Ржаная краюха сытна…»). ДО. 1921, 6 марта.
[Закрыть]
Ржаная краюха сытна,
И чавкают крупные зубы.
Желтеет кайма полоша…
«Товарищ, ухлопать козу бы!»
Козу ли? Охотничий нож
Я все-таки двигаю ближе.
Мурлычет, смеется, подлец!
И губы шершавые лижет.
И дальше, друзья и враги,
По шпалам шагаем упруго,
Пугаясь тигровой тайги
И также – не меньше – друг друга.
Прикосновения(«Мои сады окружены пустыней…»). РО. 1921, № 8-10, август-сентябрь; в составе цикла «В сумерках».
[Закрыть]
Мои сады окружены пустыней,
Ее рука над ними, надо мной,
И полночью, когда земля остынет,
Я чувствую ее песчаный зной,
Я чувствую дыхание пустыни.
И ведаю, приблизится конец.
Свернут листы и почернеют клены,
И дом замрет, как высохший мертвец.
Погибнет сад цветущий и зеленый,
Когда ему и мне придет конец.
Но я сажаю новые цветы,
Но я ращу любимейшие злаки,
И на огне, на белые листы,
Карандашом бросаю эти знаки…
К чему мне дом, сады, мои цветы?
Но смертный слаб. И надо мне любить,
Чтобы забыть идущие минуты,
Когда пески придут меня убить,
Когда придет неведомый и лютый…
И счастлив я, умеющий любить.
Но полночью, когда прохладен мрак,
Я чувствую пустыню и в тревоге
На этот лист кладу за знаком знак.
Бессилен я, бессилен рок убогий:
Мои сады, мой дом – объемлет мрак.
Поющий снег («Падает белый снежок…»). РО. 1921, № 8-10, август-сентябрь; в составе цикла «В сумерках».
[Закрыть]
Падает белый снежок
Здесь – в тишине заокошечной.
…Я о тебе, мой дружок,
Я о тебе, моей крошечной.
Вот всепокорность моя —
Ласковость песенки простенькой.
Снег застилает поля
Голубоватою простынькой.
Конь мой бежит над рекой,
Рвут валуны из оглобль его.
В сердце снежинок покой,
Сердце снежинок незлобливо.
Трудные будут пути,
Но до конца их изведаю.
Радостно к милой прийти
Гордым и с гордой победою.
Где-то у белых Онег
Ты – опечаленной Ладою.
Может быть, это не снег,
Может быть, я это падаю?
Безболь («Зачерпнуло солнце медным диском…»). РО. 1921, № 8-10, август-сентябрь; в составе цикла «В сумерках».
[Закрыть]
Зачерпнуло солнце медным диском
Задымившей ленты Иртыша.
Ветер машет опахалом близким,
Сенокосом берега дыша.
Под кормой расплавленная бронза
Вспенилась, янтарно закипев.
Мужичок, переодетый бонза,
Затянул заплаканный напев.
И, посыпав розовою пудрой
Облаков плавучие холмы,
Умер вечер – чужестранец мудрый, —
Не снимая голубой чалмы.
И, считая маленькие звезды,
Думаю, внимая комару:
– Сумрачный и тосковавший прежде,
Все-таки я хорошо умру.
Собакоглавый («Старинная керамика – амфора…»). РО. 1921, № 8-10, август-сентябрь; в составе цикла «В сумерках». Св. Христофоржил в III веке, пострадал около 250 года; по преданию, святой первоначально имел красивую наружность, но, желая избегнуть соблазнов для себя и окружающих, просил Господа дать ему безобразное лицо, что и исполнилось; на старинных картинах нередко изображался с песьей головой.
[Закрыть]
Старинная керамика – амфора
С изображением святого Христофора:
В шерсти, с когтьми и с головою пса —
Угодника избрали небеса.
Сказал Господь: возьму себе урода.
Пусть жалкая послужит мне природа,
Пусть знают все – и зверь, и раб, и тать,
Что Бог везде умеет расцветать.
Я злак души взращу, как огородник,
И будет в сумрачном страшилище – угодник.
Но плакался, приявший приговор,
Собакоглавый инок Христофор.
Слезу отер и шел путем Господним,
И был посмешищем в упрямом дне сегоднем,
Чтоб за тоски глаза изъевший дым
Не тлеть в веках и нам сиять – святым.
В себе («Проповедую строгую школу…»). А. 1921, № 6, 27 ноября. Шола– вяленая или копченая рыба у народов Восточной Азии. Ниобея(правильнее – Ниоба) – в греческой мифологии дочь малоазийского царя Тантала, жена царя Фив Амфиона. Гордая своими детьми (наиболее распространенное в мифах число детей Ниобеи – семеро сыновей, семеро дочерей), смеялась над богиней Лето, у которой их было только двое – Аполлон и Артемида. В отмщение Аполлон и Артемида поразили стрелами всех детей Ниобеи; от горя Ниобея окаменела и была превращена Зевсом в скалу, источавшую слезы.
[Закрыть]
Николаю Асееву
Проповедую строгую школу
На отроге угрюмо-гористом,
И дикарь, отрыгая юколу,
Называет меня футуристом.
Прибежит гимназист и похвалит,
На зрачки опуская ресницы,
Но со мной не скучает едва ли,
Посидит и спешит извиниться.
Быть бы женщиной, плакать сугубо,
Но какая же я Ниобея?
И кусаешь язвящие губы;
Словно вещь, замурован в себе я,
И кажусь дискоболовым диском,
И не знаю, не чую, не чаю,
И о вас, удивительно близком,
С декабря утомленно скучаю.
Девка («Изогнутая, выпячив бедро…»). СГ. 1922, 1 марта.
[Закрыть]
Изогнутая, выпячив бедро
И шлепая подошвами босыми,
Тяжелое помойное ведро
Несет легко ступеньками косыми.
Подоткнутою юбкой обнажив
Изгибы икр, достойных строгой лепки,
Сошла во двор. Меж шлюх и сторожих
Уже звенит задорно голос крепкий.
И встречному швырнет она успех,
Со спелых губ скользнувший, как гостинец
Велев сравнить с закутанными в мех
В фойэ, в садах и номерах гостиниц.
И думаю, читая тридцать строк,
Накривленных измотанной эстеткой,
Что мужики, толкая в потный бок,
Зовут ее, веселую, – конфеткой.
Морские (1–6). СГ. 1922, 1 марта.
[Закрыть]
1
Чтоб не сливались небо и вода —
Зеленый мыс легко повис меж ними,
И облаков сквозные невода
Ловили солнце всё неутомимей.
Но солнце жгло их розовую ткань
(Крутясь, горело дыма волоконце),
И вот уже над всем простерло длань
Жестоко торжествующее солнце.
Как женщина, отдав себя, земля
Спала, несясь на дымной гриве зноя,
А в голубом, холсты не шевеля,
Чернел корабль и был – ковчегом Ноя.
2
На небо намазана зелень,
И свежий сочится мазок…
Идущей с востока грозе – лень
Тащить громыхнувший возок.
А небо густое, как краска,
Как море, которое – там!
Над далью лиловая ряска
Ушедших к Господним местам.
Склоняется солнце на запад,
Могущество зноя излив,
И лодка – с утеса – как лапоть,
Заброшенный в синий залив.
3
Прямая серая доска —
Как неуклюж шаланды парус!..
Пусть, набежав издалека,
Его взъерошит ветра ярость.
Угрюмо-серый тихоход
Плывет в коммерческую пристань.
Разрушь тоскливый обиход:
Гори в грозе и в ветре выстань!
И холст, упавший как доска,
Пусть напряжется крутогрудо.
Пусть будет гибель, смерть пускай,
Но пусть и в смерти грянет чудо.
4
Метлой волны хрустящий берег вымыт.
Простор воды лукаво бирюзов.
Здесь чуждый мне и беспокойный климат,
Здесь в стон гагар вплетен томящий зов.
А горизонт – он выгоренно-дымчат —
Как ветхих ряс тепло шуршащий шелк…
Мой взгляд грустнел, в нем растворялось «нынче»,
К далекому парящий дух ушел.
Я ковш мечты. Из глубины зачерпнут
Моей томящей творческой тоской, —
И смерть моя, безглазо-желтый череп,
И ты, мой сон, мой самоцвет морской.
5
Даль дымчата, а облаков каемка
Оправлена по краю в серебро.
Морская ширь звенит под зноем емко,
Раскалено гранитное ребро.
А ты со мной. Ты белая, ты рядом,
Но я лица к тебе не обращу:
Ты заскользишь по зазвеневшим грядам,
Ты ускользнешь по синему хрящу.
Но ты моя. И дуновенье бриза,
И плач волны, разбитой на мысу, —
Всё это так, всё это только риза,
В которой я, любя, тебя несу.
6
Голубые и синие полосы
Нынче море запутали в сеть,
Протянулись ветровые волосы
И до вечера будут висеть.
И на парусе, косо поставленном,
На ладье, потерявшей весло, —
Не меня ли к безумцам прославленным
С горизонта в лазурь унесло.
Освистанный поэт («Грехи отцов и прадедов грехи…»). СГ. 1922, 1 марта.
[Закрыть]
Грехи отцов и прадедов грехи —
Вот груз тоски на точках нервных клеток.
И этот груз, кладя и так, и этак,
Я на плечах тащу через стихи.
И думаю, взглянувши на верхи
Иных вершин, где горный воздух редок:
Не лучше ли возить в санях соседок,
Укрывши их в медвежий мех дохи.
Мне говорят: «Как хорошо у вас!»
Киваю в такт и думаю покуда:
Отец любил с аи сухарный квас
И выжимал легко четыре пуда.
А я угрюм, тосклив и нездоров,
Я – малокровный выжиматель строф.
На блюдце («Облезлый бес, поджав копытца…»). Ру. 1922, 21 апреля.
[Закрыть]
Облезлый бес, поджав копытца,
Опять острит зловещий смех:
– На блюдце дна не уместится
Ни взор, ни радость, ни успех.
В ступе толпы под хрип и топот
В песок былое истолки.
Не скучно ль, сидя рядом, штопать
Надежд протертые чулки?
И понимаешь, бытом сужен
Любой восторг в больной изъян,
А человек тебе не нужен,
Ты – путник в стане обезьян.
Глядишь на цепкие гримасы
Улыбок, жестов, слов и дел,
И тонет в океане массы
Судьбой подчеркнутый удел.
Живешь, слова цепляя в ритмы,
Точа немую зоркость глаз.
Как иступляющую бритву,
Которая на грудь легла.
А голос всё звончей и льдинче,
И повторишь который раз
В ночной пробег пропетый нынче
Свой крошечный Экклезиаст.
Случай («Вас одевает Ворт или Пакэн?..»). Ру. 1922,23 апреля. Ворт, Чарльз Фредерик (1825–1895) – основатель парижского дома моды, просуществовавшего до 1945 г.; в конце XIX – начале XX века был поставщиком русского Императорского двора. Пакэн– Пакен Исидора (1869–1936), первая женщина среди модельеров высшего класса, получившая орден Почетного легиона; работала также для русского императорского двора; глава известной парижской фирмы дамских мод, основанной в 1892. В 1920 отошла отдел. В 1954-м имя фирмы было продано в Англию.
[Закрыть]
Вас одевает Ворт или Пакэн?
(Я ничего не понимаю в этом.)
И в сумрачном кафе-америкэн
Для стильности встречались вы с поэтом.
Жонглируя, как опытный артист,
Покорно дрессированным талантом,
Он свой весьма дешевый аметист
Показывал сверкальным бриллиантом.
Но, умная, вы видели насквозь
И скрытое под шелком полумаски,
Ленивое славянское «авось»,
Кололи колко острые гримаски.
И вдруг в гостиных заворчало «вор!»
Над узелком испытанной развязки,
И щупальцы склонявший осьминог
Был ранен жестом смелой буржуазки.
Достоевский («В углах души шуршит немало змей…»). СВ. 1923, тетрадь 1-я, март.
[Закрыть]
В углах души шуршит немало змей,
От тонких жал в какую щель забиться?
Но Бог сказал: «Страдай, ищи… сумей
Найти меж них орла и голубицу».
Вот – Идиот. Не мудр ли он, когда,
Подняв свой страх, стоит, тоской пылая?
Но обрекла на страшные года
Свой бледный бред мятежная Аглая.
Вот «пьяненький»… И он в луче небес,
В щетине щек свою слезу размазав,
Но яростен, когда терзает бес,
Логически-безумный Карамазов.
Все близкие… Идут, идут, идут
По русской окровавленной дороге.
И между них, как злой и мертвый Дух, —
Опустошенный сумрачный Ставрогин.
И умер ты, и прожил жизнь, ища,
И видел мрак и свет невыносимый:
То нигилист глядел из-под плаща,
То в истину поверивший Зосима.
Люблю тебя, измученный пророк,
Ты то горел, то гас, то сердце застил,
И всё ж ты пел (хотя бы между строк)
О нежности, о жалости, о счастье.
Еврейка («В вас – вечное. Вы знали Вавилон…»). СВ. 1923, тетрадь 1-я, март.
[Закрыть]
А.К.
В вас – вечное. Вы знали Вавилон
И рек его певучие печали,
Вам Ханаан вознес цветущий склон,
За вами львы сирийские рычали.
И образ ваш в былом неопалим:
Для вас Давид играл на вечной арфе,
Вы защищали с ним Иерусалим,
Христос – для вас – зашел к мещанке Марфе.
Не вами ли сраженный Олоферн,
Скользнув в крови, упал на плащ парчовый?
В вас быстрота антиливанских серн,
Влюбляетесь и мстите горячо вы.
Единая под тысячью личин
(Ревекки, Лии, Сарры и Юдифи),
Ведь это вы, одушевив мужчин,
Бросали их гореть в бессмертном мифе!
И тайна глаз горящих глубока,
Черней, чем плод и кожура маслины.
Не вы ли в Рим послали рыбака,
Сверкнув пред ним в хитоне Магдалины?
В вас женственности творческий экстаз
И пламенность могучей вашей расы,
Для вас и Дант, и восхищенный Тасс
Бросали стих – как сталь – о медь кирасы.
И в пальцах ваших, вырвавших из нот
Величие томящего Шопена,
Текут века, и в ночь не ускользнет
Былых племен омлеченная пена.
«Я живу в обветшалом доме…». Вставлено в текст воспоминаний «О себе и о Владивостоке» (см. т. 2. наст. изд.). Прижизненная публикация неизвестна. Впервые – в составе воспоминаний во владивостокском альманахе «Рубеж» (1995, № 2/864). «Костер»– книга стихотворений Н. Гумилева (1918).
[Закрыть]
Я живу в обветшалом доме
У залива. Залив замерз.
А за ним, в голубой истоме,
Снеговой лиловатый торс.
Та вершина уже в Китае,
До нее восемнадцать миль.
Золотящаяся, золотая
Рассыпающаяся пыль!
Я у проруби, в полушубке,
На уступах ледяных глыб —
Вынимаю из темной глуби
Узкомордых крыластых рыб.
А под вечер, когда иголки
В щеки вкалываются остро,
Я уйду: у меня на полке,
Как Евангелие – «Костер».
Вечер длится, и рдеет книга.
Я – старательная пчела.
И огромная капля мига
Металлически тяжела.
А наутро, когда мне надо
Разметать занесенный двор,
На востоке горы громада —
Разгорающийся костер.
Я гляжу: золотая глыба,
Великанова голова.
И редеет, и плещет рыбой
Розовеющая синева.
И опять я иду на льдины,
И разметываю в лесу,
И гляжу на огни вершины,
На нетлеющую красу…
Если сердце тоска затянет
Под ленивый наважий клев —
Словно оклик вершины грянет
Грозным именем: Гумилев!
Кладбище на Улиссе («Подует ветер из проклятых нор…»). Впервые – в составе воспоминаний во владивостокском альманахе «Рубеж» (1995, № 2/864). Прижизненная публикация неизвестна. В сражении при Чемульпо 8 февраля 1904 году крейсер «Варяг» получил тяжелые повреждения, 33 человека погибло. В память о Чемульпинском сражении установлен памятник близ Владивостока на морском кладбище (куда в 1911 г. были перевезены из Кореи останки погибших).
[Закрыть]
Подует ветер из проклятых нор
Пустынной вулканической Камчатки,
Натянет он туман на зубья гор,
Как замшевые серые перчатки.
Сирена зарыдает на мысу,
Взывая к пароходов каравану;
На кладбище, затерянном в лесу,
Невмоготу покойникам… Восстанут.
Монахиня увидит: поднялись
Могучие защитники «Варяга»,
Завихрились, туманом завились
И носятся белесою ватагой.
И прочитает «Да воскреснет Бог»,
И вновь туман плывет текучей глиной,
Он на кресте пошевелит венок,
Где выцветает имя – Флорентина.
Встает, бледна, светла и холодна,
В светящемся невестином наряде…
Двенадцать лет она уже одна,
Двенадцать лет под мрамором, в ограде.
О, если б оторваться от креста,
Лететь, лететь, как листья те летели,
Стремительным кружением листа,
В уют жилья, в тепло большой постели!
И розоветь, как пар в лучах зари,
И оживать, и наливаться телом,
Но дальние заныли звонари
За сопками, в тумане мутно-белом.
И прячется в истлевшие гроба
Летучая свистящая ватага…
Трубит в трубу – тайфун его труба —
Огромный боцман у креста «Варяга».
Бухта Улисс, 1923 год
«Ветки качались с усталым шумом…». Прижизненная публикация неизвестна. Прислано Е.А. Васильевой (ум. 1979), более известной под псевдонимом «Юрка», – детской писательницей, у которой с Несмеловым был довольно продолжительный роман около 1929–1930 годов; к ней обращена значительная часть его лирики этого периода. На автографе неизвестной рукой проставлено: «Владивосток, 192?».
[Закрыть]
Ветки качались с усталым шумом,
Веяла сырость из темных чащ…
Вы Вашу лошадь оставили с грумом,
Мальчик дремал, завернувшись в плащ…
Следом за Вами я крался… Орешник
Скрыл меня плотно в свежей глуши.
Здесь подсмотрел я, бродяга-грешник,
Темное горе Вашей души…
Плечи в беззвучном дрожали плаче,
Но оставалась глухой тропа…
Был обезумлен Ваш взор незрячий,
Ваша походка была слепа…
Близким мне сделалось робкое горе,
Но подойти к Вам я не посмел, —
Да и ушли Вы, поплакав, вскоре,
Снова Ваш взор стал презрительно смел…
Стэком коснулись спящего грума,
Выйдя из леса… Ваш лик был строг…
Черное платье вилось угрюмо
И шелестело у Ваших ног…
Вы на меня посмотрели скучно…
И кто бы сказал, что, гордая, Вы
Плакали так безысходно, беззвучно
В тихих шептаньях лесной листвы?
Легенда о драконе («Уже утрачено…»). СО. 1927, № 3. Позднее печаталось и в эмиграции; известна харбинская публикация (Р. 1930 № 38), оставшаяся недоступной для составителей, но были, очевидно, и другие. В частности, Е.Ф. Индриксон по памяти записал текст этого стихотворения, где «Янцзе» было заменено на правильное «Янцзы». Приводим последнюю строфу стихотворения по записи Е.Ф. Индриксона:
Горячий ветер треплет парусину,Рокочет туча танками грозы,И выгибает медленную спинуДракон крылатый – голубой Янцзы.
[Закрыть]
Уже утрачено
Его название,
Уже никто
Не вспоминает год, —
Вверх по Янцзе
(Так говорит предание)
Шел первый
Океанский пароход.
И в белом шлеме,
В грубой парусине
Им правил
Англичанин-капитан.
И вечерел,
Уже багрово-синий,
Простор Янцзе,
Закатом осиян.
В усталом ветре
Вздрагивали тросы,
Как чьи-то
Золотые волоса…
И пели беззаботные матросы,
Иные
Вспоминая небеса…
А с берегов,
Из тростниковых хижин,
На пароход,
На дыма черный вал
Глядел крестьянин,
Робок и принижен,
И дьяволом
Его именовал.
И… там,
Где солнце
Медно-красным диском
Склонялось в аспид
Острогрудых круч,
Вдруг появились
В отдаленьи близком
Клубящиеся змеи
Черных туч…
Из дыма их
На аспидные кручи,
Окрасив в пурпур
Блеклый небосклон,
Неслышно выполз
Сказочно могучий
Тысячекрылый
Огненный дракон.
И,
Стерегущий реку
Неизменно,
Разбив стекло
Завечеревших вод,
Он,
Пасть раскрывший,
Проглотил мгновенно
Гудком гремевший
Вражий пароход.
И скрылся снова…
Солнце опускалось…
Победно пела
Каждая струя.
И до рассвета
Грозно отражалась
В огне зыбей
Драконья чешуя.
Прошли года,
Прошли десятилетья,
Развеян сказки
Рухнувший уют,
Но,
Как тогда,
И в это лихолетье
Преданье вспоминают
И поют…
Поют…
И вспыхивают фейерверки
Немых зарниц…
Чернеют берега…
И вахта на английской канонерке
Не спит.
Молчит.
И чувствует врага.
Усталый ветер
Треплет парусиной
И ласково лепечет о грозе…
И в блеске молний выгибает спину —
Драконью спину —
Голубой Янцзе.
За 800 верст («Гор обугленные горбы…»). ВР. 1927, № 11–12. Название не совсем понятно, поскольку стихотворение обращено к Марине Цветаевой, а 800 верст с натяжкой можно толковать разве что как расстояние от Владивостока до Харбина; возможна, впрочем, и связь с поэтическим сборником Цветаевой «Версты», о чем см. ниже. Во времена переписки с Несмеловым (видимо, недолговременной) в конце двадцатых годов Цветаева жила во Франции, откуда до Дальнего Востока – существенно больше, чем 800 верст (и даже больше, чем 8 000 верст, если вкралась опечатка). Эпиграф – из стихотворения М. Цветаевой «Идешь, на меня похожий…» (3 мая 1913 г.). «Звонят ли в Москве колокола?..»– ср. у Цветаевой: «У меня в Москве – колокола звонят…» в стихотворении «У меня в Москве – купола горят…» (№ 5 из цикла «Стихи к Блоку», 7 мая 1916 года) из сборника «Версты» (М., 1922). Бухта Улисс, возле которой жил Несмелов в 1923 году, расположена к югу от Владивостока.
[Закрыть]
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь
Марина Цветаева
Гор обугленные горбы,
Мили – до самого близкого.
Опрокинув розовые столбы,
Закат море обыскивал.
Полосы меди отточенной
Выковал запада горн.
Граниту наносят пощечины
Мокрошлепающие ладони волн.
Облаков сквозные невода,
Умирающая вода.
Туда – Камчатка,
Киты, туманов молочный напор,
Замшевая перчатка
На распяленных пальцах гор.
Туда – зеленеющие пышно
Вулканические острова.
Народ, подкрадывающийся неслышно,
Убивая, говорящий вежливые слова.
Туда – зеленеющие пышно,
Светящиеся духи, протяжный гонг.
Гонконг,
Слоны Сиама.
А в Москве светает.
(Звонят ли в Москве колокола?)
Первого трамвая
Густая
Гудит пчела.
Из переулка такого,
Что знал – века,
Ломовика
Падающая подкова.
Ничего не знаю, какая вы!
(Видел раз в двенадцатом году.)
Переливчатые цвета и вы,
Отраженная в голубом льду.
Поэтому какая у вас комната,
Как вы открываете глаза?
Я бы всё это мог выдумать (гном на то!),
Но этого нельзя…
Ночь. Ветер. Знойный и ночью.
(Летают светящиеся мухи.)
Пляска шаркающих туфель волн.
(Мои глаза электрически сухи.)
Ветер. Прибоя и вой, и вол.
Сейчас поплыву, волной освечен,
Буду клубить под собой межу.
Вал, откатясь, обнажает плечи
Не человеку уже – моржу.
Фыркаю. Камень схватил за спину.
Солоны губы. Давай! Давай!
И выгибают кошачью спину
Волны на каменный каравай.
Может быть, вглубь и торпедой до дна,
Вытянув рук голубой бугшприт,
Чтобы взорвать тот чертог подводный,
Где фосфорический свет зарыт.
Верблюд в песчаном караване, я
Покачиваюсь от ороби:
Под грохотом завоевания
Всплывают голубые проруби.
А вы сейчас пьете чай,
Прищуриваясь на строчки,
И мне – от морей – различать
Маркизетовые цветочки.
Хорошо, что вы есть, что ваш
Голос слышен до океана,
До страны, что живет, жива
По Евангелию Иоанна.
И стихи вам и петь, и вить,
Их за тысячи верст не спрячете!
Мне в ладони мои ловить
Метеоровые их мячики.
Я стою на огне росы,
Я на берег себя причалил…
(Вы станете – ну да, часы! —
Ведь девятый у вас вначале.)
Ночь.
Субтропическая, синяя, жаркая.
Как танцующие слоны,
Шаркают волны.
Волны,
Отпрыгнувшей прочь,
Голубоватый песок.
Ночь.
На мысок
Берег хвост опускает драконий, иглистый —
Шаткий от крена, —
Парус контрабандиста.
Ветер. Прожектор. Сирена.
Дальний Восток. Бухта Улисс
«Я одинок, без близких и друзей…». Приложено к письму от 26 августа 1927 года (РГАЛИ, фонд № 2475 /журнал «Звено»/, опись 1, е.х. 334). Прижизненная публикация неизвестна. Впервые – «Новый журнал» (№ 200, сент. 1995).
[Закрыть]
Я одинок, без близких и друзей,
Целую очи моего искусства;
Придет толпа – я говорю:
«Глазей!» Придет поэт —
«Товарищ, знаю вкус твой!»
А может быть, стихов из тысячи
Кремневых два бессонное терпенье
Кладет в карниз – простые кирпичи
Собора, загудевшего от пенья.
И голуби свистящий свой полет
Смахнут с крыла и рядом заворкуют,
Ведь сердце обреченное поет,
Не требуя награду никакую.
Самое обыкновенное («На Каланчевской пять, квартира три…»). Впервые – «Новый журнал» (№ 200, сент. 1995). Прижизненная публикация неизвестна.
[Закрыть]
На Каланчевской пять, квартира три,
Жил человек. Труслив, к тому ж развязен.
На желтом лбу его цвели угри,
Воротничок всегда помят и грязен.
Но полночью пришел к нему Господь,
Он милосерд, иль с неба видно проще, —
И до утра, и до рассвета вплоть
Сияло в комнате, как в снежной роще.
И стало так. Он жил теперь в пустом
Пространстве рокота и вихревого гула,
А по ночам беседовал с Христом
В саду, у склона горного аула.
И раз Христос сказал, сияя весь
(Они тогда к ручью сходили вместе):
«Ошибся я, тебе бы жить не здесь
И не теперь, а лет назад на двести!»
И с Каланчевской пять, квартира три
Поднял его и отослал в былое,
И встретил он румяный свет зари
В избе, в скиту, в лесу у аналоя.
И память старца праведного чтим,
Не ведая, не знающие крылий,
Что вот прошел он спутником твоим,
Что с ним вчера еще мы вместе жили.
Туман («Глухое “у-у”закинуто протяжной…»). Р (вырезка с пометкой «1928», номер не установлен).
[Закрыть]
Глухое «у-у» закинуто протяжной
Сиреной невидимки-маяка,
И тяжело своей холстиной влажной
Повис тяжелый парус моряка.
Вершин расплывчатые очертанья,
Долин дымящиеся закрома,
Где спрятаны в скалистые гортани
Печами обогретые дома.
Где женщина, поджаривая рыбу,
Смеется, к гостю повернув лицо,
Где ночь, ворча, приваливает глыбу
Тумана на дощатое крыльцо.
За мглою – мгла! Сквозь острые проколы,
Распластаны на замшевый экран
(Подобие кровоточащих ран!),
Огней разбрызганные ореолы…
Туман,
Туман,
Туман…
Голубая княжна («В отеле, где пьяный джесс…»). Автограф (архив И.А. Якушева). Прижизненная публикация неизвестна. Впервые – «Рубеж» (1995, № 2). Джесс– т. е. джаз. Прэнсесс(фр.) – т. е. княжна. Чосен-банк– большой банк в Харбине. «И с Рюриком общий предок…»– т. е. род княжны восходит к Рюриковичам. Со смертью царя Федора Иоанновича (1598) династия Рюриковичей прекратилась, но отдельные княжеские фамилии продолжали существовать и до нашего времени; всего сохранившихся родов Рюриковичей насчитывается до четырехсот.
[Закрыть]
В отеле, где пьяный джесс
Сгибает танцоров в дуги,
Еще говорят прэнсесс
В крахмальных сорочках слуги.
И старенький генерал
(О, как он еще не помер)
Рассказывать про Урал
Стучится в соседний номер.
И пища еще нежна,
И вина сверкают, пенясь.
И маленькая княжна,
Как прежде, играет в теннис.
Но близит уже судьба
Простой и вульгарный финиш,
Когда ты из Чосен-банк
Последнюю сотню вынешь.
И жалко нахмуришь бровь
На радость своих соседок…
К чему голубая кровь
И с Рюриком общий предок?
Для многих теперь стезя
Едва ли сулит удачу.
Мне тоже в Москву нельзя,
Однако же я не плачу!
Но вы – вы ведь так нежны
Для нашей тоски и муки,
У вас, голубой княжны,
Как тонкие стебли – руки.
И львы с твоего герба
Не бросятся на защиту,
Когда отшвырнет судьба
Последнюю карту битой.
И ужас подходит вплоть,
Как браунинг: миг и выстрел…
А впрочем, чего молоть:
Сосед-то – любезный мистер!
« У причалов остроухий пинчер…». Автограф (архив И.А. Якушева). Прижизненная публикация неизвестна.
[Закрыть]
У причалов остроухий пинчер
Водит нынче тоненькую мисс.
Англичаночка, не осрамитесь,
Не для шкуны же папаша вынянчил!
Рыжий боцман выплюнул табак,
Рыжий боцман подмигнул подвахте:
«Этакую ежели на бак,
Ну-ка, малый, выдержишь характер?»
Хохотала праздная корма:
«Не матросу сватать недотрогу!
Глянь-ка, боцман, чертов доберман,
Что ни тумба, поднимает ногу!..»
Лучший виски – уайтхорсвиски:
Белая лошадь, по-английски.
Полковой врач («Умирает ли в тифе лиса…»). Автограф (архив Якушева). Прижизненная публикация неизвестна.
[Закрыть]
Умирает ли в тифе лиса,
Погибает ли дрозд от простуды?
Не изведает сифилиса
Даже кот, похудевший от блуда!
Вы – шутник. Папироса во рту,
Под большой электрической лампой
Отмечаете люэс, ртуть
И ломаете горлышки ампул.
И на беглую спутанность фраз,
На звенящую просьбу вопроса
Улыбаетесь: «Даже Эразм —
Роттердамский!—
Немного без носу!»
Узоры памяти («Я пишу рассказы…»). Р. 1929, № 1. «…в сумском мундире» – см. прим. к рассказу «Исповедь убийцы» (т. 2. наст. изд.). Ментик– короткая гусарская куртка со шнурками. Лядунка– сумка для патронов, носимая на перевязи через плечо.
[Закрыть]
Я пишу рассказы
И стихи в газете,
Вы кроите платья
В модной мастерской.
Прихожу домой я,
Пьяный, на рассвете
С медленной и серой
Утренней тоской.
Зверем сон на сердце
Тяжело надавит,
Оторвет, поднимет
И умчит в Москву,
И былое снова
Пережить заставит,
Словно сон недавний,
Вставший наяву.
Озарен высоким
Золотистым светом
Белый, загудевший
Институтский зал.
В золотом мундире
Маленьким кадетом
Я вхожу и сердцем
Погружаюсь в бал.
И едва окину
Залу первым взглядом,
Как уж сердцем выну
Из всего и всех
Вашу пелерину
С классной дамой рядом
И глаза, что ярче
Васильков в овсе.
В сердце вздрогнет жальце,
Но не к вам, а всё же
Прежде к классной даме
Надо подойти.
Миг – и мы несемся
В застонавшем вальсе,
И любовь над нами
Облаком летит!
Франт в сумском мундире
Управляет балом —
Ментик и лядунка,
Молодец-гусар.
Сердце бьется ровно
В напряженьи алом…
Ластится к перчатке
Девичья коса.
Па-де-патинером
Сменена мазурка.
Шепот: «Я устала!»
Легкая душа…
Снова к классной даме…
Шестиклассник Шурка
Говорит, что Лара
Очень хороша.
…Просыпаюсь. Утро.
Штора. Свет неверный.
Стол и стул похожи
На немых химер.
Думаю, зевая:
«На балах, наверно,
Больше не танцуют
Па-де-патинер».
И на сон далекий
Сердце не ответит.
Только скрипки плачут
Золотой тоской…
Я пишу рассказы
И стихи в газете,
Вы кроите платья
В модной мастерской.








