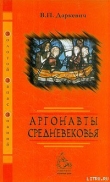Текст книги "Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства"
Автор книги: Арон Гуревич
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 31 страниц)
Выше приводились примеры неблагочестивого поведения прихожан в церкви в начале переходного периода, – но вот свидетельства из протестантской Германии. Во время проповеди многие развлекаются, молодые люди читают популярные тогда рассказы об Уленшпигеле и громко хохочут; иные, утомленные речью пастора, дремлют и во сне падают на пол. Исследователь поясняет: проповедь предполагает способность к вниманию и минимум знаний, которыми большинство неграмотных прихожан не обладало (235, с. 660). Обязательная катехизация способствовала некоторому распространению элементов христианского вероучения, и тем не менее в самом конце XVI в. в Прирейнской Германии встречались прихожане, которые не слышали ни о Творце, ни о Христе, не знали молитвы «Отче наш» и не были способны различать лица Троицы. О своем полнейшем религиозном невежестве в отрочестве рассказывает и Симплициссимус. В отдельных приходах это невежество было почти всеобщим, а те, кто механически заучил молитвы или ответы на вопросы катехизиса, не понимали их смысла. Пасторы жаловались, что, путая слова молитвы, верующие невольно превращали ее в богохульство и вместо: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь…» – и т. д. произносили: «Отыми у нас хлеб наш насущный… введи нас во искушение…» (235, с. 797).
Но неверно было бы заключать на этом основании, что Реформация прошла впустую и не принесла с собой никаких изменений в религиозной жизни. Протестантизм установил новое понимание религии как непосредственной связи между верующими и Христом. Обращение к святым или Богоматери было заменено прямой молитвой к Спасителю. Простое пассивное участие в церковном ритуале отныне считалось недостаточным. Вместо неуверенности относительно участи души в загробном мире, повсеместной в католической Европе, лютеранство и кальвинизм внушали человеку надежду на спасение в силу одной лишь веры, без «добрых дел». Религиозность сделалась более личной. При этом у каждого верующего предполагался известный минимум знаний. Распространение элементарного образования привело к тому, что через сто лет после выступления Лютера 50 процентов населения Германии было грамотным (235, с. 881, 1290).
Протестантизм произвел немаловажные изменения в моральной жизни общества. Было пересмотрено отношение к труду, который отныне приобретал религиозно– этическую ценность, тогда как лень считали матерью всех пороков, а профессиональную некомпетентность – грехом, ибо бог приставил каждого к его занятию и сделал профессию человеческим призванием (идея, как мы видели, развиваемая еще Бертольдом Регенсбургским). Протестантизм подчеркивал важность и высокую ценность семейной жизни и взаимные обязанности родителей и детей. Перед семьей была поставлена новая задача – воспитывать послушных подданных для государства.
Разумеется, между доктриной и реальной практикой подчас зияла пропасть, и отнюдь не все население прониклось пониманием нового учения. Переход от присущей католицизму веры в коллективное спасение к вере в спасение индивидуальное, положенной в основу протестантизма, был нелегок и нескор. Еще и в 1620 г., то есть столетие спустя после выступления Лютера, многие крестьяне по-прежнему верили, что молитва пастора достаточна для их спасения и что за это ему и платят. И частичные успехи и неудачи протестантизма в немалой мере объяснялись прямым и постоянным вмешательством светской власти, с ее мелочной регламентацией, охватывавшей все стороны индивидуальной и общественной жизни. Несмотря на все успехи Реформации, заключает Б. Фоглер, сельская цивилизация не испытала глубоких перемен под ее воздействием (235, с. 890, 1295).
В католических странах перемены были еще менее заметны. Против утверждения о торжестве среди крестьянства в этих областях Европы «обновленного» христианства, провозглашенного Тридентским собором, свидетельствует то, что довольно скоро начался противоположный процесс, а именно дехристианизация, утрата религией былого влияния на сознание людей. Во Франции этот процесс просматривается с середины XVIII в. (236, с. 267). Одним из выражений «аккультурации» крестьянских масс, предпринятой как протестантской, так и «обновленной» католической церквами, было ограничение ими народных праздников и даже прямое их запрещение. В монотонной и во всех отношениях ограниченной сельской жизни праздник был средством, которое предоставляло возможность выйти наружу долго скапливающимся и подавляемым эмоциям. Вместе с тем он был моментом, регулярное повторение которого определенным образом ритмизировало течение времени. В празднике выявлялись существенные стороны народного миросозерцания. Поэтому вполне правомерно в научной литературе праздникам Средневековья и Ренессанса ныне уделяется повышенное внимание. В карнавале и других сезонных торжествах усматривают квинтэссенцию народной жизни, стихии смеха и вольномыслия; ищут глубокие, восходящие чуть ли не к первобытности корни этих празднеств (М. М. Бахтин). Мне представляется, однако, важным прислушаться к голосам тех ученых, которые отмечают, что празднества XVI–XVIII вв. не были непосредственным продолжением праздников Средневековья и что их генезис и оформление теснейшим образом связаны с развитием города как центра культуры (84, с. 9 и след.).
В истории карнавала – а она, в отличие от его содержания, далеко еще не ясна, – можно усмотреть противоречие. С одной стороны, не вызывает сомнений наличие в нем элементов аграрных праздников, частично восходящих к языческой, дохристианской эпохе; с другой же стороны, карнавал как массовое празднество, растягивающееся на много дней и подчиненное сложному, разработанному «сценарию», сложился в знакомых историкам и этнографам формах, видимо, только во второй половине Средневековья, и первые упоминания его в источниках едва ли восходят к времени ранее конца XIII или начала XIV в. Тем более неосмотрительно и прямо ошибочно было бы судить о средневековом карнавале по формам, искусственно реставрированным в первой половине XIX в. (в К е льне – в 1823 г., в Нюрнберге – в 1843 г., в Ницце – около 1850 г.) (94, с. 20).
Карнавал – наиболее красочное проявление народной культуры конца Средневековья и начала Нового времени. Однако в тех формах, в какие он отлился в XVI–XVIII вв., карнавал был явлением типично урбанистским, возможным только в условиях относительно высокой плотности и большой численности разнородного городского населения – носителя многих и разнообразных культурных традиций.
Сельская местность знала лишь немногие празднества, которые хотя бы в отдаленной степени его напоминали. Среди этих праздников – праздник встречи весны, праздник летнего солнцестояния (Иванов день), праздник урожая. К этим праздникам, действительно не имевшим ничего общего с христианством ни по происхождению, ни по внутреннему смыслу (таков, например, ритуал очистительного огня в Иванову ночь), средневековая церковь тем не менее относилась довольно терпимо. Между тем в изучаемый период отношение церковных и светских властей к ним изменилось, и в них, как и во многом другом в деревенской жизни, стали усматривать нечто непозволительное и недопустимое.
Во всей Западной Европе существовали своеобразные объединения молодежи. Они не имели ни религиозного, ни политического характера: то было естественное сплочение в возрастную группу подростков и юношей, устраивающих праздничные шествия, выпивки и дебоши. О таких объединениях источники упоминают начиная с XIII в. В большинстве соборов из числа детей, составлявших церковный хор, на Рождество избирался «детский епископ» (episcopus puerorum), Kinderbiscop, или «дурацкий аббат» (abbot of Unreason), и из этого терпимого церковью обычая вырос праздник дураков, абсурдно и карикатурно изображавший представителей всех слоев и разрядов общества. Вплоть до середины XVI в. в ряде английских городов мэр публично появлялся рука об руку со своим фарсовым дублером (Mock Mayor). Молодежь городов и деревень устраивала шуточные суды.
Начиная с XIV в. в Западной Европе зафиксирован обычай «шаривари» – «кошачьих концертов»: так называли сопровождаемый дикой музыкой оглушительный шум, устраивавшийся молодежью под окнами лиц, которым хотели выразить неодобрение; чаще всего жертвами шаривари делались лица, вступавшие в повторный брак, – вдовец, берущий замуж юную девушку, вдова, выходящая за более молодого мужчину, или участники неравного брака, например богач, который женится на бедной. В шествиях, устраиваемых по этому поводу, были принуждены участвовать и сами вызвавшие их виновники. Шаривари представляли собой ритуальное осмеяние нарушителей «норм» брачных отношений, но этот обычай не препятствовал вступлению в брак, – дело ограничивалось уплатой «выкупа» его жертвами. Этот шутовской обряд как бы санкционировал новый брак, освобождая вдовца или вдову от прежних обязательств, которые, согласно средневековым представлениям, не уничтожались и со смертью одного из супругов (в тот период ранняя смерть и следовавший за нею повторный брак были заурядными явлениями), и поэтому ритуал шаривари в парадоксальной форме осмеяния как бы гарантировал безболезненность заключения нового брака и его продуктивность. Кроме того, считалось, что всякого рода отклонение людей от установленных норм гибельно отражается и на урожае, поэтому обычай шаривари оказывался связанным и с аграрными верованиями крестьян. Церковь неизменно относилась к обычаю шаривари враждебно, но особенно усилились запреты и репрессии против него после Реформации (96).
Религиозные праздники в Средние века включали неортодоксальные обряды и ритуалы. Народный обычай не останавливался на пороге церкви, и священник не находил ничего зазорного в том, чтобы принять участие в пирушке, которую его прихожане устраивали в самой церкви. Здесь же нередко происходили танцы, распевались песни отнюдь не религиозного содержания. В бурлескной пародии молитвы, во введении в храм осла, в шутливой литургии не усматривали богохульства и руки дьявола. Но эта отчасти фольклоризованная средневековая религия, содержавшая в себе элементы народной культуры и явно сливавшая в дни праздников воедино сакральное и мирское, в XVI–XVII вв. уходила в прошлое, – она была несовместима с новым духом христианства, насаждаемым в ходе Реформы и Контрреформы. Не одобряли народных праздников и обычаев не только церковные деятели, – к ним с предубеждением и непониманием относились и просветители, которые видели в них «невежество» и «варварство», достояние минувшей «готической эпохи». Статья «Праздники» в «Философском словаре» (1766) расценивала их как источник пьянства, дебоша и преступности.
Новый предпринимательский дух, носителями которого были не одни лишь пуритане, не мог мириться с «растратой» драгоценного времени на непроизводительные занятия. «Все забавы незаконны, если они отнимают Время, которое мы должны затратить на более серьезные дела» (Ричард Бакстер) (168). В результате число ежегодных праздников, достигавшее в Средние века трети календарного времени (если прибавить к ним воскресные дни), было резко сокращено. Во второй половине XVII в. победа труда над досугом стала окончательной. Королевские декларации о спорте в Англии (1618, 1633), защищавшие спортивные соревнования, праздник мая, танцы и т. п „вызвали осуждение пуританских проповедников как сатанинские, и революция их отменила (168, с. II и след.). Однако искоренение народных традиций, развлечений и праздников в сельской местности проходило медленнее и не столь последовательно, как в городах, и земледельческие и скотоводческие ритуалы и празднества продолжали кое-где свое существование вплоть до начала XX в.
Тем не менее наступление церкви и государства на народные праздники и способы проведения досуга, ужесточение всестороннего контроля над повседневной жизнью приносило свои плоды. Распад традиционного общества сопровождался упадком крестьянских празднеств и развлечений. «Старый мир, в котором смешивались воедино смех и религия, труд и праздник, поскольку последний придавал ритм всему ходу годичного времени и всей жизни, – этот старый мир разрушался» (181, с. 215).
Историки далеки от единства в ответе на вопрос о том, в какой мере была уничтожена относительная культурная автономия народа к началу промышленной революции в Европе (149, с. 12). Однако трудно отрицать, что она целенаправленно подвергалась ограничению и утеснению. Но ни в одной области эта враждебность церкви, государства и интеллектуальной элиты к народному мировидению и обусловленному им практическому поведению не обнаружила себя с такой силой и последовательностью, со столь же разрушительными и жестокими результатами, как в отношении к народной магии и ее носителям, переквалифицированным в ведьм и колдунов.
5.
Как мы видели, в замкнутом мирке средневековой деревни лица, владевшие магией с наибольшим искусством, – колдуны и колдуньи, знахарки и прорицатели, – даже если они и внушали страх и опасения, были жизненно необходимы для благополучия и нормального функционирования сельского коллектива. Микрокосм – человеческое тело находится под влиянием сил, сосредоточенных во вселенной, и нужно умилостивить или нейтрализовать эти таинственные могущественные силы макрокосма. В болезни и смерти человек той эпохи не видел чего-то вполне естественного и часто был склонен искать их причины в неправильном поведении, в несоблюдении примет, но прежде всего – в злокозненных действиях других людей. Колдун, ведьма могли быть полезны, но могли представлять собой и угрозу. Отсюда – двойственность отношения к ним. По утверждению Р. Мюшембле, исследовавшего материалы процессов над ведьмами в Северной Франции, колдуны внушали страх соседям и вместе с тем пользовались популярностью у жителей более отдаленных деревень (182, с. 55 и след.). К их услугам и помощи обращались, но нередко их подвергали и гонениям. Однако на протяжении большей части Средневековья эти гонения носили характер спонтанных расправ, а не судебных преследований. Как уже упоминалось, церковь в тот период осуждала веру народа в сверхъестественное могущество ведьм и колдунов, считая ее суеверием, противоречащим христианству.
Положение коренным образом изменилось к концу Средневековья, когда духовенство и светские власти стали упорно сближать ведовство с ересью (в некоторых странах термины «ведьма» и «вальденс» стали синонимами) и жестоко его преследовать. Запылали костры. Победила точка зрения теологов и юристов, согласно которой человек способен заключать договор с дьяволом и служить ему, заручившись за эту службу его поддержкой. Подобные представления существовали и прежде, но теперь они получили теологическую и правовую санкцию. Так возникла новая концепция ведовства: ведьма не просто знахарка или колдунья, знающая секреты магии, она служанка Сатаны, которая вступила с ним в пакт и в половые сношения, по его наущению и с его помощью губит людей и их имущество. Если в более ранний период (как и у неевропейских народов) речь шла об индивидуальных действиях колдуний и колдунов, то преследователи в XV–XVII вв. обвиняли ведьм в массовых сборищах и в организованном культе нечистой силы: ведьмы регулярно собираются на шабаши, на которых отправляют ритуалы, являющиеся подобием церковной мессы навыворот, и совершают иные отвратительные действия, в которых раньше винили еретиков. Таким образом, у Сатаны имеется как бы своя собственная антицерковь, и ведьмы – ее прихожанки и служительницы. Все это давало возможность предельно сблизить обвинения в ведовстве с обвинениями вере ей (205).
Ученые представления о ведьме были далеки от образа ведьмы в народном сознании. Образ колдуньи изменился и демонизировался. Священники и проповедники неустанно внушали прихожанам мысль о вездесущности дьявола и его слуг, демономания начала охватывать широкие слои населения, в огромной степени обостряя и без того напряженный социально-психологический климат. В политических и религиозных противниках привычно узнавали слуг дьявола: протестанты – в папистах, католики – в протестантах, и те и другие – в евреях, турках, ведьмах… Демономания давала универсальное клише для изображения врага (106). Легко убедиться в том, что при конструировании идеи шабаша, с хороводами ведьм и ритуальным пиршеством, была использована модель народных обрядов, – однако с добавлением поклонения Сатане и свального греха участников. Демонизация ведьмы шла рука об руку с демонизацией крестьянского праздника.
Но в чем искать разгадку исторического феномена охоты на ведьм? Традиционная точка зрения либеральной историографии гласила: охота на ведьм – результат заблуждений темной массы, использованных церковными мракобесами в своих целях, прекращение гонений – результат преодоления этого порожденного во «мраке Средневековья» заблуждения под лучами Просвещения. Ныне ясно, что народ не только использовали, но и сам он оказывал известное и подчас весьма активное влияние на ход событий. Во главе преследований ведьм стояли монахи-доминиканцы, тесно связанные с низами города и крестьянами, среди которых вели свою проповедь. Доминиканцы ближе чем кто-либо должны были знать умонастроения и психологию массы населения и, воздействуя на нее, в свою очередь получать он нее импульсы. Известны многочисленные случаи, когда инициатива в гонениях на ведьм принадлежала жителям деревень и прихожане обращались к властям с требованием искоренить ведьм, не останавливаясь перед расходами, ибо община, где имел место процесс, должна была изыскивать средства на проведение судебного разбирательства, оплату чиновников и палача, содержание заключенных, казнь осужденных и организацию банкета, который устраивали после казни, причем эти расходы были высоки и не всегда покрывались конфискованным у жертвы имуществом.
Достижением историков последних полутора-двух десятилетий нужно считать не столько то, что им удалось решить проблему массовых преследований ведьм на Западе, сколько то, что они сумели поставить ее по-новому. Теперь исследуются не только трактаты демонологов и их критиков, но и протоколы судебных процессов, притом взятые не в отдельности, как примеры 34, а в совокупноности, представляющей ту или иную местность, графство, страну в определенный период. Тем самым решительно изменен самый подход, и проблема гонений на ведьм рассматривается прежде всего не «сверху», с точки зрения интеллектуалов и властей, а «снизу», ибо в судебных актах нашло отражение наряду с позицией судей, которые руководствовались демонологической доктриной и воспринявшим ее судебным законодательством, отношение к ведовству истцов и свидетелей, то есть соседей обвиняемых, и самих подозреваемых и обвиняемых, сколь ни приглушенно звучит их голос в судебных записях.
Если судебные процессы по обвинениям в ведовстве рассматривать в намеченном выше контексте взаимоотношений между народной культурной традицией и традицией официальной, церковной, то именно здесь, в судебной камере, с предельной четкостью выявляется их изменившееся соотношение. Речь больше не идет о приноравливании одной традиции к другой, – от амбивалентного «диалога-конфликта» остался лишь конфликт. У судей нет понимания или желания понять иную традицию. Относительная терпимость, которую на протяжении Средневековья церковь была вынуждена проявлять в отношении к народным верованиям, ритуалам, магической практике, сменяется совершенно новой стратегией, и ее можно определить только как полное подавление духовной автономии народной культуры. Налицо упорное, последовательное стремление носителей ученой культуры перевести определенные элементы культуры народной на язык демонологии. Этот перевод, в корне меняющий смысл и содержание народной традиции, подготавливает ее уничтожение.
Предпосылкой такого преобразования было резкое изменение позиции церкви. От осуждения народной веры в ведьм, характерного для большей части Средневековья, церковь в конце его перешла к осуждению самих ведьм. Вера в черта и его могущество, в способность человека вступать с ним в сношения и заключать с ним вассальный договор была столь же ученого происхождения, как и народного. Теперь уже невозможно уверенно утверждать, в какой среде впервые возникла эта вера, мы можем лишь констатировать ее общераспространенность. В связную демонологическую систему ее объединила теологическая мысль, но элементы ее существовали в ходячих представлениях народа и в фольклоре. Вера в реальность ведьмы и ее способность причинять всяческое зло «изначально» присутствовала в народном сознании, и можно предположить, что изменение позиции церкви, переход ее от отрицания этой веры к признанию злокозненности ведьм произошли под влиянием верующих. Однако «ученая» трактовка ведовства коренным образом преобразовала его облик в направлении тотальной его демонизации. Вера в ведьм в этом новом, теологическом и юридическом ключе в конце концов была своим острием направлена против той самой народной культурной традиции, в недрах которой зародились и веками бытовали многие ее элементы.
Здесь необходимо отметить, что демонизация ведьм началась задолго до массовых гонений на них: уже в XIII в. теологами, в том числе Фомой Аквинским, была признана возможность вступления ведьмы в сношения с дьяволом, было разработано учение о суккубах и инкубах. Но и тогда и много позднее эти схоластические рассуждения не получили непосредственного приложения к жизни. Более того, приходится с осторожностью подходить и к оценке практических последствий таких печально знаменитых документов, как булла папы Иннокентия VIII «Summis desiderantes affectibus» (1484 г.) и «Молот против ведьм» Инститориса и Шпренгера (1486 г.). Их вдохновляющее воздействие на будущих гонителей ведьм, разумеется, не может быть поставлено под сомнение. Но не следовало бы забывать, что момент появления папской буллы и «Молота» отделен целым столетием от времени, когда развернулась массовая охота на ведьм, то есть 80-х гг. XVI в. Иными словами, теоретическая подготовка преследований ведьм на несколько поколений опередила эти преследования.
История гонений не столь прямолинейна и проста, как ее представляли себе историки конца XIX и начала XX в. (Г.-Ч. Ли, И. Ганзен и другие) и как ее и ныне иногда все еще изображают. Гонения конца XVI и XVII вв. не явились продолжением более ранних преследований еретиков, и демонология сама по себе не породила ужасной практики конца XVI и XVII вв. Нужны были специфические социальные и социально-психологические условия, для того чтобы развязать этот процесс, в котором рационализированное суеверие сочеталось с массовыми страхами и политическим расчетом.
Присмотримся к тому, что происходило на ведовском процессе. Стандартное обвинение, лежащее у его истока, обычно представляло собой жалобу соседей на вред, который якобы был причинен колдовскими действиями некого лица, обычно проживающего в этом же населенном пункте или поблизости от него. Образ ведьмы, которым до сих пор подчас оперирует историография, – одинокая пожилая женщина, старуха, вдова, потерявшая родных и лишенная чьей-либо материальной помощи; соседи отказали ей в поддержке, а она им пригрозила, и вскоре ее угроза сбылась. Но этот стереотип лишь в ограниченной степени соответствует действительности. Среди обвиняемых в ведовстве наряду с пожилыми женщинами не менее часто фигурируют относительно молодые женщины и юные девушки, а отчасти и мужчины, наряду с бедняками и более обеспеченные. Любое лицо, вплоть до ребенка, могло стать жертвой обвинения и преследования.
Никаких угроз и попыток осуществления их со стороны предполагаемой ведьмы могло и не иметь места. Но члены относительно немногочисленного сельского мирка или городского соседства, близко знакомые друг с другом, руководствовались собственными оценками всех, с кем они соприкасались в повседневной жизни. Их представления о причинах бытовых невзгод и семейных или личных несчастий были примерно такими же, какие обнаружены этнологами у народов Африки: когда у кого-либо заболевал член семьи, умирал ребенок, пала корова, лошадь, пропали какие-то вещи, случился неурожай, они твердо знали, что эта беда не может быть объяснена простой случайностью или одними естественными причинами, – здесь непременно должна была проявиться и чья-то злонамеренность, выразившаяся в магических, колдовских действиях, и было нетрудно заподозрить в качестве виновного то или иное лицо, репутация которого была не безупречна или отношения с которым были натянуты. В обвинениях в ведовстве сплошь и рядом выявлялись локальные конфликты между отдельными лицами или между коллективом и индивидом.
Лица, считавшие себя потерпевшими, старались отомстить предполагаемой виновнице, самостоятельно расправившись с нею. В других случаях поступал донос властям. В доносе речь шла о вреде, причиненном посредством черной магии, но за пределы maleficium обвинение не выходило, и не было никаких упоминаний нечистой силы. Однако передача дела в руки властей коренным образом меняла всю ситуацию. Здесь-то и происходил переход от одного понимания ведовства, народного, бытового, традиционного, к другой его трактовке – судебно-теологической, демонологической.
С самого начала процесса в центре внимания судей оказывались не maleficium, а условия, которые, с их точки зрения, только и могли сделать эффективными магические действия. Судьи уж е заранее располагали развернутым перечнем вопросов, которые они задавали обвиняемой, добиваясь от нее признания в том, что свои колдовские акты она осуществила при содействии нечистой силы. Их внимание было всецело сосредоточено на договоре с дьяволом и на обстоятельствах, при которых он был заключен, на половых сношениях ведьмы с Князем тьмы, посещении обвиняемой шабаша и его описании, а также на выяснении того, кто еще в шабашах участвовал 35. Неизбежным и вполне объяснимым следствием предъявления такого рода обвинений было запирательство жертвы процесса, которая отрицала связь с нечистой силой. Однако судьи проявляли в этих случаях исключительное упорство, во что бы то ни стало добиваясь нужных им признаний. С их точки зрения, смысл процесса заключался именно в разоблачении преступного сговора между ведьмой и Сатаной.
По существу, здесь складывалась следующая расстановка сил. Перед судьями, проникшимися понятиями демонологии и верившими, что борются против Сатаны и его воинства, стояла женщина, которая в силу своих знахарских навыков и умения аккумулировала вековой опыт народной культурной традиции. Ей не ставили в вину то, чем она на самом деле занималась, то есть гадания, прорицания, исцеления, – вина ее изображалась в совершенно иных категориях – пакта с дьяволом, сожительства с ним, ночных полетов на шабаши, оборотничества, умерщвления младенцев с целью использования их плоти для изготовления колдовских снадобий… Народная магия, неотъемлемый компонент крестьянской жизни в ту эпоху, трансформировалась в ходе допросов, которым подвергали обвиняемую, в отказ от бога и измену ему, в служение сатанинской антицеркви; народные праздники и календарные обряды превращались в непотребные сборища, демонстрировавшие единение ведьмы с бесами. Повторяю: демонизировалась не только жертва судебного процесса, – демонизировалась народная крестьянская культура. Обвиняемая была обречена с самого начала, но вместе с нею осуждение распространялось на всю толщу той магической и мифологической традиции, которую она в суде поневоле олицетворяла.
Приверженцам и носителям народной культуры прививалась мысль о греховности их верований и обрядов. Хотя судьи не говорили прямо об этой культурно-религиозной традиции и, вполне возможно, даже не думали о ней, помимо чьих бы то ни было сознательных намерений объективно суд шел именно над ней.
В этой связи нужно отметить исследование К. Гинцбурга о фриульских «benandanti» (буквально «благоидущие») конца xvi– первой половины XVII в. Они считали себя добрыми колдунами, которые магическими средствами противодействуют злым колдунам и сражаются с ними во время ночных полетов, причем оружием служат пучки тмина в руках «бенанданти» и стебли сорго у недобрых колдунов; в случае победы «бенанданти» год будет урожайным, а победа злых колдунов грозит недородом. В отличие от ведьм «бенанданти» заявляли, что «сражаются за веру Христову». По мнению К. Гинцбурга, перед нами – феномен народной религиозности, в котором культ плодородия связан с культом мертвых. Показательно, что инквизиторы, занимавшиеся делом о «бенанданти», старались подвести их под привычную для них категорию ведьм, и в конце концов один из «бенанданти» признался, что участвовал в шабаше! Спонтанные высказывания этих людей и признания, исторгнутые у них судьями, слиты воедино в сохранившихся судебных протоколах, и реконструировать верования и представления «бенанданти» в их подлинном виде чрезвычайно трудно (124; 125, с. 341–354).
Искоренение суеверий и остатков язычества, ликвидация невежества в отношении начал христианской веры, ограничение и запреты сельских аграрных культов, праздников и развлечений, с одной стороны, и преследования ведьм и колдунов – с другой, в своей основе были проявлениями одного и того же процесса наступления на народную культуру. Но проявлениями очень различными. Главнейшее различие заключалось в том, что в уничтожение носителей культуры народа был активно вовлечен сам народ. Крестьяне и горожане оказывали давление на власти, требуя расправы с ведьмами, и ликовали при виде костров, на которых их сжигали, не отдавая себе отчета в том, что вместе с ведьмами приговор выносился и их взгляду на мир, их собственной традиционной системе поведения.
За ненавистью к дьяволу и его служительнице у судей, образованных и нередко интеллигентных людей, скрывалось, может быть, не вполне осознанное ими отвращение к культуре простого народа. Поскольку же своя собственная культура представлялась им единственно возможной и допустимой, то эту другую культуру они воспринимали не как культуру, но в качестве антикультуры. Их культура была всецело ориентирована на бога, следовательно, другая культура по необходимости должна была быть порождением дьявола. Поэтому в борьбе против нее все средства допустимы и оправданы. Наиболее эффективным средством, с помощью которого можно было побороть дьявола, то есть добиться признания ведьмы (без этого признания обвинительный приговор не мог быть вынесен), была пытка.
Введенное на протяжении XVI в. в ряде стран новое уголовное законодательство (Constitutio criminalis Carolina, 1532 г., в Империи, королевские ордонансы 1539 и 1570 гг. во Франции, уголовный ордонанс 1570 г. в испанских Нидерландах), в отличие от средневекового, допустило пытку, которая в процессах о ведовстве стала главным и решающим средством воздействия на подсудимых.