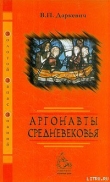Текст книги "Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства"
Автор книги: Арон Гуревич
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
Одним из средств исцеления было изготовление свечей размером с тело больного или весом, равным его весу. Подобная, казалось бы, далекая от христианства практика нашла тем не менее свое отражение в церковных формулах благословения этих свечей: совершая такой дар Богу, больной мог рассчитывать на Его помощь и исцеление. Либо при взвешивании тела больного на другую чашу весов возлагали даримые им продукты – зерно, сосуды с маслом и вином, воск и т. п. (21, II, с. 464–467). Заклинания лихорадки, замечает Франц, в которых, в частности, упоминались «семь сестер» – бесов, вызывавших это заболевание (21, II, с. 482, 483), – не были разрешены церковью, но тем не менее она их терпела. Еще более наглядно магическая сторона заклинаний проявляется в тексте формулы, трактующей исцеление больного эпилепсией: после прочтения заклинаний нужно закопать пояс на перекрестке трех дорог (21, II, с. 504). Но такие места, как перекрестки дорог, издревле служили пунктами, где особенно эффективно проявляли себя магические силы. В формуле заклинания глазных болезней встречаются имена ряда святых, обращение к которым считалось особенно полезным '(21, II, с. 496–497). Формула благословения масла представляет собой каталог различных болезней, от паралича, немоты, слепоты и лихорадки («четырехдневной, трехдневной и ежедневной») до дизентерии, болезней желудка, рук и ног, – все они могут быть излечены при помощи этого чудодейственного средства. Но далее сказано, что оно помогает и от укусов зверей, скорпионов, змей и, главное, от покушений бесов и нечистых духов, от черной магии, заклинаний колдунов, «халдеев», прорицателей и т. д. (21, 1, с. 346–347). Как и во многих других формулах, подробное и детальное называние болезней и бед, от которых исцеляет освященное масло, было непременным условием действенности лечения.
Борьба сил добра против сил зла достигала своего максимального выражения в случаях с одержимыми. Психические заболевания неизменно расценивались как состояния, когда бес или бесы завладевали человеком, превращая его в безвольное орудие своих бесчинств. Сидя в теле одержимого, нечистый выл, кричал, бранился, разговаривал на разных языках, неведомых самому «сосуду», то есть несчастному, в которого вселился бес; одержимые приобретали чудесную способность рассказывать о многом таком, о чем не мог знать нормальный человек, в частности открывать тайные грехи присутствующих, если они в них не покаялись. Были популярны рассказы о засевших в людях демонах, которые проповедовали лучше, чем сам священник. Такие рассказы об одержимых и о святых, которые одни были способны их изгонять, обладали крайней притягательностью для средневековых людей.
В силу уверенности в вездесущности бесов, которые упорно преследуют и подстерегают человека от первых его шагов до могилы, и вследствие беспредельного страха, который они внушали верующим, экзорцизм, изгнание нечистого из тела человека, представлял предмет особых забот духовенства. Одержимый, по существу, был душевнобольным, однако, согласно утверждениям теологов, бес, в нем засевший, не может завладеть его душой, – обиталищем демона было одно только тело несчастного. В качестве средств исцеления одержимого рекомендовались строгие и длительные посты, чтение месс и молитв, переодевание в одежду, опрысканную святой водой, выпивание ее вместе с солью, которую благословил священник, и с полынью, что должно было вызвать целительную рвоту; на протяжении сорока дней одержимый должен был остерегаться вида падали и мертвеца; по истечении этого срока следовали исповедь больного, месса и вкушение святых даров – все эти средства должны были оказать целительное действие, заключает автор формулы (21, II, с. 563). Изгнанию беса зачастую предшествовал его «разговор» с экзорцистом, который выспрашивал его об имени, природе и преследуемых им целях; священник старался выяснить, пришел ли бес с юга, севера, запада или востока, инкуб он или суккуб, служит ли он Сатане, или Плутону, или Астарот, явился ли один или вместе с другими бесами, а также кто имеет силу его изгнать и в какой части тела одержимого он обитает. Экзорцист крепко охватывал голову одержимого правой рукой, а палец левой засовывал ему в рот, произнося при этом каббалистическое заклинание (21, II, с. 569). На голову одержимого ставили чашу с дарами или мощами. Начиная с XIV в. церемонии против одержимости стали сближаться с магическими ритуалами: на полу церкви, близ алтаря рисовали мелом круг или фигуру, внутри которой помещали больного, связанного по рукам и ногам. Магическая фигура должна была предохранить экзорциста от посягательств и помех, чинимых бесами; произносились заклинания, которые связывали нечистого. После изгнания беса одержимый лежал как бы полумертвый и нуждался в святой воде и пребывании во храме.
Формулы экзорцизма появляются на рубеже VII и VIII вв., и вскоре их число начинает множиться. Франц отмечает соседство формул, которые затем были включены в ритуальные сборники церкви, с формулами, так сказать, «неофициальными» и изобилующими заимствованиями из осужденной церковью апокрифической литературы. В последних встречаются необычные имена бога и ангелов, заклятия «печатью Соломона» и «реками, текущими в раю». Для многих формул характерно детальное перечисление частей тела от лба до пяток, из которых бес должен быть изгнан, ибо лишь упоминание точного местоположения нечистого могло привести к победе над ним, и в Х – XIII вв. подобные номенклатуры, призванные усилить действенность заклинания, наполняют формулы. «Изыди из головы, из волос, из языка, из гортани, из рук, из ноздрей, из груди, из глаз, из вен, из желудка и кишок…» – читаем мы в некоторых из развернутых формул (21, II, с. 594–595, 602). В майнцской формуле Х в. перечень членов и органов тела вырастает чуть ли не в трактат по анатомии, причем к нему присоединяются и семя, и пот, и моча, и все иные выделения, но также и пища и питье человека. Однако мало и этого, и далее упомянуты «помыслы, слова и все дела» одержимого, а также его «молодость», его «разговоры ныне и в будущем» и т. п. (21, II, с. 601–602; ср. с. 605–606). В безудержной страсти к всеобъемлющему охвату и перечислению эти формулы экзорцизма могут соревноваться, пожалуй, лишь с формулами отлучения грешника от церкви (67, с. 327–330).
В сфере судопроизводства и права магические средства также занимали видное место. Одна из специфических особенностей судебного разбирательства в Средние века – «суд божий». Процедуры выяснения истины посредством судебного поединка сторон или испытания раскаленным железом и кипятком независимо от того, каковы их антецеденты в Ветхом завете или у варварских народов, исходили из идеи вмешательства всеведущего божества, которое принимает сторону правого и карает виноватого. Уже Григорий Турский рассказывал о преступниках, наказанных внезапной смертью при попытках с помощью обмана доказать свою правоту (24, VIII, 16).
Как известно, существовало несколько разновидностей «божьего суда». Наряду с поединком применялось испытание крестом, при котором тяжущиеся становились перед большим крестом с распростертыми руками, имитируя его форму, и тот, кто первым опускал руки, считался проигравшим. Особенно распространенными были, однако, испытания огнем (железом). Человек, намеренный очиститься от обвинения или вообще доказать свою правоту (например, святой, желавший дать язычникам убедительное доказательство силы своей веры), держал в руках кусок раскаленного железа или ходил босиком по раскаленным докрасна плужным лемехам (обычно числом девять). Составными частями этой процедуры были благословение огня и железа, месса, молитвы, принятие тела Христова. После того как подвергавшийся испытанию пронес железо или прошел по нему, руку или ноги его забинтовывали, а на третий день повязку снимали и смотрели, в каком состоянии раны: если рука была невредимой, налицо доказательство невиновности испытуемого, его правоты.
Не менее распространено было испытание кипящей водой («котелком»). В котелок бросали кольцо, которое испытуемый должен был извлечь из кипятка. При этом следили за тем, чтобы испытуемый не прибег к каким-либо магическим средствам и чтобы в ордалию не вмешалась нечистая сила. Для этого орудия испытания обрызгивали святой водой. Впервые такая ордалия описана тем же Григорием Турским, повествующим о состязании между арианским священником и католическим диаконом: еретик, естественно, был посрамлен.
Испытание холодной водой имело такое объяснение: вода, чистая стихия, не примет преступника. Ордалия заключалась в том, что обвиняемого, руки и ноги которого были связаны вместе, бросали в водоем или реку, привязав к телу веревку. Если он тонул, его вытаскивали и объявляли оправданным, если же вода не принимала его, он считался виновным. Этот вид «божьего суда» приобрел широкое применение во время преследований ведьм (см. ниже, с. 366). Испытание обвиняемых могло выразиться в их взвешивании (процедура не ясна). Практиковались далее испытания хлебом с сыром: верили, что виновный не в состоянии проглотить кусок освященного хлеба.
Сохранилось большое число церковных формул благословения оружия участников судебной дуэли, формулы заклятия раскаленного железа, перед тем как его возьмет в руки испытуемый (такая формула гласила: «Изгоняю бесов из тебя, тварь железная»), и обращение к богу– «справедливому Судии» с просьбой освятить железо и сделать руку того, кто его возьмет, невредимой в случае отсутствия вины, но сжечь ее в случае виновности, и призыв к испытуемому отказаться от ордалии, если он знает свою вину; далее, формула благословения кипящей воды и заклятия котелка; формула заклятия холодной воды: не принять виновного, но принять невинного, причем здесь указано, что эту ордалию «создал сам всемогущий Бог», а «нашел ее» папа Евгений, с тем чтобы ее соблюдали все епископы, аббаты, графы и все вообще христиане по всему свету (21, II, с. 364–384) 31.
«Божий суд» повсеместно применялся с начала Средневековья, хотя всегда встречал ученую оппозицию. Один из наиболее авторитетных его критиков, Агобард Лионский, написал сочинение «Против божьего суда» почти одновременно с опубликованием Карлом Великим предписания «без каких-либо сомнений верить в силу и справедливость божьего суда» (Аахенский капитулярий 809 г.).
Агобард высмеивает глупость тех людей, которые называют подобные процедуры «божьим судом», как если б Господь, заповедавший всеобщую любовь, стал служить человеческим выдумкам и вражде и решать, кому принадлежат тот или иной участок земли, лошадь или свинья, из-за коих разгорелась тяжба (P. L., CIV, с. 251). Напротив, Хинкмар Реймсский, другой видный деятель каролингского времени, решительно отметал все возражения против применения «божьего суда» (P. L., CXXV, с. 659–680). Стоит отметить, что вполне в духе эпохи и противники и сторонники «божьего суда» в своей аргументации опирались на авторитет Писания.
Возобладала общепринятая практика, и она была подтверждена церковными синодами (847, 895, 1023 гг.). Бурхард Вормсский в свою очередь исходил из мысли о правомерности подобных испытаний (P. L., CXL, с. 773, 822, 912). Во Франции и Германии «божий суд» был признанной составной частью судопроизводства вплоть до XIII–XIV вв. Между тем римские папы на протяжении IX–XIII вв. постоянно возражали против судебных поединков и запрещали их. С критикой «божьего суда» – греховного нарушения заповеди «не испытывать Бога» – выступали и известный парижский ученый второй половины XII в. Петр Кантор, и поэт Готтфрид Страсбургский, и Фома Аквинский, и, что более существенно с практической точки зрения, Фридрих II Гогенштауфен, запретивший ордалии своими «Мельфийскими конституциями» 1231 г. Но одновременно «Саксонское зерцало», а вслед за ним (в 70-е гг. XIII в.) и «Швабское зерцало» одобрили эти процедуры в качестве законных средств судебного доказательства, и «божий суд» просуществовал в Германии вплоть до XV столетия. Вопреки критике ученых людей и просвещенных законодателей народ и значительная масса духовенства продолжали твердо верить в то, что бог постоянно вмешивается в повседневную жизнь, и в частности в судопроизводство. Эта вера в безошибочность божьих приговоров намного полнее отвечала их общему мировосприятию, нежели суждения критиков.
Изучение формул заклятий, благословений и отлучений латинской церкви Средневековья открывает перед нами специфическую область мысли, эмоций и слова. Это мысль о постоянной, неизбывной борьбе сил добра против сил зла, схватке сакрального и демонического принципов – конфликте, который охватывает весь универсум и вместе с тем вовлекает в себя каждого индивидуума. Это обширная область страхов перед природными явлениями, которые грозят мором, болезнями, смертью, недородом, бурей, безумием, разорением, и перед скрывающимся за ними и в них себя обнаруживающим дьявольским началом. Это слово, в котором любовь и милосердие соседствуют с ненавистью и односторонней и абсолютной императивностью и оттесняются ими на задний план; это слово, в основе своей обездушенное, слово, рассчитанное преимущественно на механическое повторение, а не слово, несущее благую весть или выражающее высокое упование. Рассмотренные выше церковные формулы вводят нас в мир архаических верований и нерассуждающего ритуализма. Христианский пласт в формулах прикрывает поведение весьма далекое от того, какое проповедовалось с кафедры. От участников экзорцизмов и лиц, произносивших заклятия, не требуется высокого душевного настроя. Богатая смыслами символика подменена здесь формализмом, спиритуальность – магией.
Как уже упоминалось, Франц, рассматривая собранные им формулы, был склонен вычленить в них «собственно христианское», ортодоксальное содержание и «наносные суеверия» и с сожалением констатировал, что допущение духовенством этих последних оказывало отрицательное влияние на религиозную жизнь паствы, снижая ее уровень, а впоследствии дало повод реформаторам нападать на католическую религию и церковь. Иными словами, в его глазах магические и ритуальные аспекты формул благословений и заклинаний суть не более чем досадные «издержки» средневекового христианства.
Подобная оценка вряд ли удовлетворит историка, который стремится понять средневековое христианство как систему, пусть противоречивую и многослойную, но все же систему. Тем менее этот подход исчерпывает проблему, когда мы ставим перед собой задачу обнаружить образ мыслей и поведения широких слоев населения. Простолюдины не' были склонны и способны анализировать свои действия и те формулы, которые им предлагались для разрешения возникавших в их жизни трудностей. Они ими безоговорочно пользовались как данностями, ожидая позитивного результата. Поэтому вряд ли правомерно отграничивать в формулах христианство от суеверий и язычества – они представляли собой единый сплав. Как мы видели, то, что можно было бы отнести в изученных текстах к магии и внехристианской практике, во многих случаях не было унаследовано от более архаической стадии, а возникло к концу Средневековья. Чем ближе к Новому времени, тем формулы делаются более воинственными и непримиримыми по тону, более насыщенными мотивами, казалось бы, чуждыми евангельскому духу.
Необходимо вновь напомнить и другое обстоятельство, не раз отмеченное выше: запечатленная в формулах религиозно-магическая практика получила распространение в церковном приходе; во многих формулах особо подчеркнуто, что то или иное заклятие, например осуждение зверей или насекомых-вредителей, действенно в границах данного прихода. Главными ее агентами были приходские священники, самым тесным и непосредственным образом связанные с местной жизнью и рядовыми верующими. Низшее духовенство, плоть от плоти своей паствы, разделяло ее интересы и умственный кругозор и не желало вступать с ней в конфликт. Именно здесь, в приходе, преимущественно деревенском, была плодородная почва для ритуалов, магических формул и заклятий, которые на протяжении всего Средневековья вызывали недоумение, сожаление и осуждение мыслящих церковных деятелей и авторов, – они не могли не видеть, во что вырождается первоначальное «послание Христа». Но это значит, что наряду с официальным, книжным христианством – христианством теологов, схоластов, высших иерархов церкви, которые блюли целостность учения и строго следили за всеми нарушениями догмы, – в средневековой католической Европе существовало еще и «другое христианство» – повседневный, «бытовой», «приходский» католицизм, вера и религиозная практика масс населения. Эти верующие не просто слабо знали (или вовсе не знали?) доктрину и не были предрасположены всем своим образом жизни и интеллектуальным уровнем к тому, чтобы воспринять ее в первозданной чистоте, – они обладали собственной картиной мира, во многом отличной от той, которую предлагала догма, своей «альтернативной» системой мировидения и соответствующим ей способом религиозно-магического поведения.
Эта «альтернативная» система мировидения известна нам лишь отрывочно, в тех фрагментах, которые уцелели в официальной культуре либо упоминаются ее представителями – неизменно с осуждением и непониманием. Но несмотря на все осуждения, церковь на протяжении Средневековья оказалась не в состоянии разрушить эту иную культурную модель. Более того, несмотря на осуждения, церковь была вынуждена проявлять к ней определенную терпимость – в тех пределах, в каких эта иная религиозность не соприкасалась с ересью и не переходила в нее.
Беспощадная к ереси, которая ставит под сомнение самые основы католической веры, церковь не могла не сознавать, что благословения и заклятия, практикуемые ее служителями и во многом уходящие корнями в темные глубины архаической культуры, были одним из «каналов коммуникации» ее с народом, позволявших ей контролировать его духовную жизнь и социально-религиозное поведение. Не потому ли «суеверия» и «глупости», которые на протяжении всей эпохи подвергались критике со стороны части образованных религиозных деятелей, находивших их во все множившихся ритуалах, тем не менее не отменялись? Стремясь по возможности подчинить себе народные традиции и приспособить их к своим требованиям, церковь допускала их существование. Да она была и бессильна их запретить и тем более искоренить. Это относительное и противоречивое сосуществование было нарушено к концу Средних веков, к эпохе Реформации, когда народная культура стала объектом целенаправленных ограничений и нападок как со стороны протестантских церквей, так и со стороны обновленного католицизма.
ВЕДЬМА В ДЕРЕВНЕ И ПРЕД СУДОМ
Массовая охота на ведьм, распространившаяся в Западной и Центральной Европе в XVI–XVII вв., давно привлекает внимание исследователей. Ныне, в связи с возрастающим у историков интересом к социальной психологии и мировоззрению простого человека, эта проблема стала особенно актуальной 32. Тем не менее, несмотря на усилия многих специалистов, ее едва ли можно считать в достаточной мере проясненной. Историки говорят о «загадочности» этого феномена (179, с. 191 и след.), о сугубой неточности наших знаний о нем (177, с. 7) и даже о «негативных результатах», к которым пришло исследование (214, с. 155). P. Мандру, один из ведущих исследователей ведовских процессов во Франции в XVII в., писал: «Я убежден в том, что мы никогда не сумеем дать им вполне удовлетворительного объяснения» (173, с. 9). Сам Мандру склонен возвратиться к теории Жюля Мишле о создании отчаявшимися угнетенными женщинами Средних веков своего рода «антиобщества» перед лицом мужского засилья, олицетворяемого сельским кюре и сеньором (173, с. 10, 331). Однако вряд ли Мандру в данном случае найдет сочувствие у других ученых. Его попытка возродить романтические фантазии более чем вековой давности доказывает, что при объяснении сложных феноменов массовой психической жизни прошлого историки стоят перед трудностями, которые подчас кажутся непреодолимыми.
Одна из трудностей состоит в том, что подъем демонологии и демономании приходится на период позднего Возрождения, барокко и начала Просвещения. Естественно возникает вопрос: как сочетались культурные явления, радикально обновившие духовную жизнь Европы, с предельным обострением суеверий и мракобесия? Этот разительный парадокс тревожит ученых, – европейская культура начала Нового времени утрачивает немалую долю светоносности и оптимизма, обнажая свою дисгармоничность. В новейшей литературе в разной форме неоднократно выдвигался тезис о том, что демонологию и охоту на ведьм породили Ренессанс и Реформация, которые «продлили жизнь средневековой космологии» (230), «эмансипировали интеллект от чувства и тем самым дали возможность людям быть бесчеловечными с чистой совестью» (150, с. Ни след.), породили «оборотную сторону титанизма» людей Возрождения, в том числе и инквизицию (75, с. 134–135), или, «расшатав средневековые устои сознания», вызвали «бурные волны иррационализма и страха» (76, с. 253–262). Я воздержусь пока от оценки такой точки зрения, но отмечу: парадокс налицо, и он нуждается в спокойной, всесторонне взвешенной оценке.
Прибавлю к этому, что развертывание массовой охоты на ведьм с конца XVI столетия неверно было бы рассматривать как некое прямое продолжение преследований более раннего периода. Сравнительно недавно было показано, что использованные в свое время Зольданом и Ганзеном (132; 133; 217) свидетельства о массовых расправах над ведьмами, якобы имевших место в конце XIII и в середине XIV в., суть не что иное, как фальшивки, сфабрикованные в XV, XVI и в начале XIX в. (99, с. 164). Гонения, начавшиеся в эпоху Реформации, были беспрецедентным явлением, которое нужно объяснять, исходя из условий именно этого времени, а не ссылаясь на многовековую традицию.
Ученым минувшего и начала нашего столетия удавалось отделываться от указанного парадокса посредством разведения его сторон по разным и несообщающимся отсекам: гонениям на ведьм отводилась роль пережитка «темного Средневековья», светские же науки и культура – показатель нового, прогрессивного духа. Теперь подобного рода операции оказываются неприемлемыми. Неприемлемы они как в силу своей либерально-эволюционистской методологии, склонявшей историков к тому, чтобы принимать желаемое за действительное, так и по произвольной механистичности подхода: режут по живому, игнорируя очевидные связи. Главное же заключается в том, что подобная точка зрения несостоятельна перед лицом фактов: среди демонологов мы находим не одних только «темных людей», но и гуманистически образованных философов и писателей (здесь особенно часто и с полным основанием тревожат память Жана Бодена), и вместе с тем среди критиков веры в могущество и злокозненность ведьм были богословы (и католические, и протестантские) и иезуиты. Таковы Фр. Шпее, П. Лайманн, Т. Тумм, Б. Беккер, Хр. Томазиус и другие (242). Отмечают вместе с тем, что такие писатели, как Эразм, воздерживались от критики веры в ведьм как служанок Сатаны.
Здесь уместно напомнить, что менее всего гонения на ведьм поощрялись в Италии, и не благодаря какой-то особой роли гуманистов, а вследствие осторожной позиции, занятой в этом вопросе папством, и что обвинения в ведовстве, выдвинутые на процессе в Зугаррамурди (Страна басков) в начале XVII в., были квалифицированы как ложные расследовавшим их инквизитором Алонсо де Салазар и Фриас, причем его заключение было одобрено в 1614 г. верховным трибуналом испанской инквизиции. Добро и зло, прогресс и регресс в их привычных обликах смешаны и перепутаны: воинствующему фанатизму Бодена, который в своей «Демономании» (1580) призывал беспощадные кары не только на подозреваемых в ведовстве, но и на тех, кто высказывает сомнения в его реальности 33, противостоит для того времени требовавшая немалого мужества позиция иезуита и теолога Адама Таннера, который тоже верил в ведовство, но считал, что искоренять его надобно с помощью запрета сельских развлечений и плясок и мерами воспитательными, а не посредством процессов и костров (176, с. 27).
Однако современное историческое исследование не довольствуется анализом демонологической литературы XV–XVII вв. и вызванной ею полемики, ибо становится все более ясным, что и обилие такого рода трактатов и степень их влияния на общественное мнение и на судопроизводство своего времени нуждаются в объяснении, которое выходило бы за пределы все же относительно узкого круга образованных людей. Установлено, что многие судебные преследования ведьм начинались под давлением населения, которое требовало расправ над виновниками обрушивавшихся на него бедствий: падеж скота, неурожай, внезапные заморозки, смерть ребенка, болезни приписывались злокозненным деяниям тех или иных лиц, и надлежало устранить виновных (113, с. 29 и след.; 81, с. 173 и след.). Сельское и городское население легко поддавалось панике, вызываемой слухами об отравлениях, действии сглаза, колдовстве. Существовал социально-психологический климат, который питал как соответствующие фольклорные представления и возбуждавшую истерические страхи молву, так и построения ученых авторов бесчисленных сочинений о ведьмах и их сношениях с дьяволом и практику судебных властей, преследовавших по обвинению в ведовстве.
Именно поэтому точка зрения, возлагающая вину за развязывание демономании и охоты на ведьм на Ренессанс, не представляется достаточно убедительной. Проблему надлежит рассматривать не только в рамках интеллектуальной истории Запада, но и на более широком фоне социально-психологического состояния широких слоев населения в конце XVI и в XVII столетиях. Возможности воздействия на бюргерство и особенно на крестьян идеологии и философии Возрождения и барокко были предельно ограничены. Ренессанс все же оставался элитарным духовным движением, неспособным существенно изменить мыслительные установки и мировосприятие масс. Между тем в преследование ведьм были втянуты самые широкие круги общества. Паники и фобии охватывали и образованных, но прежде всего неграмотных. Не следует ли, скорее, усматривать влияния иррациональных страхов народа на умы и поведение интеллектуалов? Но осторожнее было бы предположить взаимное влияние: общая социально-психологическая атмосфера определяла умонастроения и интеллектуалов, но кристаллизация этих умонастроений в демонологическом учении, которое детерминировало характер соответствующей судебной практики, в свою очередь оказывала воздействие на коллективную ментальность.
Нужно признать, что методология объяснения такого рода историко-культурных феноменов не разработана. Попытки найти ключ к пониманию столь сложного и значительного и по охвату территории и по численности участников и длительного по времени процесса, как охота на ведьм, – попытки, которых историки, естественно, не могут не предпринимать, пока не дали достаточно убедительного результата. Видимо, не следует спешить с объяснениями; полезнее было бы, внимательно и по возможности всесторонне рассматривая это явление, ставить его в разные исторические контексты, – может быть, в их рамках удастся несколько лучше понять природу массовых преследований и тех стрессовых состояний, которые их порождали и которые им сопутствовали.
Поэтому прежде всего было бы желательно уяснить некоторые характерные особенности социальной психологии населения Европы в указанный период. Мне представляется, что тем самым был бы намечен тот фон, на котором развертывалась охота на ведьм.
1.
Социальная психология масс периода, отделенного от нашего времени несколькими столетиями, трудно уловима, и методология выявления и оценки указаний и намеков на нее в имеющихся источниках разработана недостаточно. Основные классовые и сословные противоречия поздне-феодального общества создавали почву для определенных настроений простонародья: ненависти к господам, недоверия к священникам, зависти, испытываемой к богатеям, монархических иллюзий. Что касается последних, то помимо традиционного роялизма и веры в «добрых королей», память о которых сохранялась веками, до неузнаваемости трансформировав их подлинный облик (Фридрих II Гогенштауфен, Людовик Святой, Генрих IV Французский), народ придавал коронованным особам сверхъестественные способности, в частности – во Франции и Англии – дар исцелять золотушных.
Поведение и психология простолюдинов в первую очередь определялись, естественно, их трудовой деятельностью. В доиндустриальном обществе труд и досуг еще не были четко отделены один от другого и психологически противопоставлены. Крестьянский труд сезонный по своей природе, и периоды напряженной деятельности сменяются периодами относительного отдыха. Западноевропейский крестьянин в изучаемый период уже не знал подневольного барщинного труда и еще не был знаком со строгой трудовой дисциплиной, которую несло с собой предпринимательское крупное хозяйство. Он трудился вместе с членами своей семьи и иногда с работниками, и такой труд в рамках небольшого по составу коллектива мог служить источником удовлетворения и сознания важности выполняемой работы. Происходившие в городе перемены в отношении к времени, связанные с повышенной его оценкой, крестьян практически не затрагивали. Учение протестантизма о труде как долге, «призвании» каждого, выражавшее потребности буржуазного развития, также едва ли могло оказать сколько-нибудь глубокое воздействие на сознание сельского населения, которое помимо всяких доктрин ощущало жизненную потребность трудиться в поте лица. Тесная, неразрывная связь с землей и высокая оценка сельскохозяйственного труда – неотъемлемая часть крестьянской психологии.
Любопытно, что в адресованных простонародью дешевых брошюрах «Голубой библиотеки» (см. ниже) крестьяне и их труд почти вовсе не изображаются. Единственный текст, обнаруженный в повествовании «Мудрое трехлетнее дитя» (первая половина XVI в.), гласит: «Что скажешь ты о работниках, возделывающих землю? Большинство их спасется (от ада), ибо они живут своим простым трудом и весь народ божий кормится за их счет» (89, с. 82). Но и это, оказывается, всего лишь цитата из «Светильника» Гонория Августодунского (начало xii в.), – очевидно, и спустя почти полтысячелетия не возникло новой оценки труда крестьян.
Но когда мы говорим о социальной психологии крестьян определенного периода, то стремимся к вычленению специфических именно для этого периода характеристик, в той или иной мере новых или нетипичных для психологии крестьянских коллективов предшествующего времени.