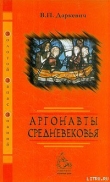Текст книги "Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства"
Автор книги: Арон Гуревич
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц)
Крестьянство и его жизнь почти вовсе не отражаются в социальной картине мира, как она мыслилась в ту эпоху, и этот факт сам по себе весьма симптоматичен. Общество, аграрное по своей природе, строившееся на эксплуатации и подчинении широких слоев сельского населения, как бы позволяло себе идеологически игнорировать собственное большинство. Крестьянин словно «вынесен за скобки». Если он даже и подразумевается в литературных текстах эпохи, то о нем не было нужды и привычки думать или упоминать. Разумеется, наличие в обществе подобного слоя или класса порождало комплекс проблем, но, по крайней мере до поры до времени, крестьяне обычно не попадали в поле зрения образованных людей.
Причины этого умолчания многообразны. Раннесредневековая литература – по преимуществу либо жития святых, либо героический эпос. Главное действующее лицо агиографических повествований – святой, эпических сказаний – благородный воин. Эти две фигуры олицетворяли господствовавшие общественные идеалы, и те, кто им не соответствовал, оставались обойденными литературой. Выходцам из простонародья, из крестьян доступ в литературу был тогда, за редчайшими исключениями, закрыт. Впрочем, Жак Ле Гофф справедливо замечает, что, будучи устранено из литературы Раннего Средневековья, крестьянство возвращается в нее в ином обличье, а именно под именем «язычников» (pagani, rustici pagani), «грешников», «бедняков» и, наконец, «невежественных», «неграмотных людей» – слово rusticus все более приобретало именно такой оттенок (153, с. 131 и след.).
Обратимся вначале к двум последним категориям, оставив в стороне отождествление крестьян с «язычниками». Прежде всего, термин pauper понимался в тот период неоднозначно. Указывая на действительную бедность и нищету, он зачастую служил синонимом социальной приниженности, сословной неполноправности, поэтому не считалось аномалией противопоставление понятий potens («могущественный») и pauper. В круг понятий, охватывающий эти термины, в первом случае входили помимо богатства власть, общественное могущество, родовитость, принадлежность к господствующему слою, во втором – не одна лишь бедность, но и, в особенности, социальная неполноценность, зависимость, несвобода. В некоторых раннесредневековых текстах термин pauper вообще трудно истолковывать буквально, ибо обозначаемый им «бедняк» мог быть вовсе не беден, но зато принадлежал к простонародью, к неблагородным и подвластным людям. Не служило ли в таком случае литературное обозначение крестьян pauperes симптомом их подчиненности господам или по крайней мере наличия подобной тенденции?
Не менее показательно употребление термина rusticus в значении «невежда», «неграмотный». Крестьянство было чуждо официальной культуре, носителями которой являлись духовные лица. Огромную роль в этом процессе культурного «вытеснения» крестьян сыграла церковь, с ее латинской образованностью. Характерна игра словами, к которой прибегал Милон, автор «Жития святого Аманда» (ix в.). Обращаясь к читателю, агиограф просит извинить его «грубость» (rusticitas), «ибо rusticatio создано Всевышним» 1. При этом повествователь имеет в виду сентенцию библейской «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова» (7:15): «Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего» («Non oderis labo-riosa opera et rusticationern creatam ab Altissimo»). rusticitas («невежество», «необразованность», «неотесанность», «грубость») и rusticatio («деревенская жизнь», «сельский труд», «земледелие») оказываются синонимами, Противопоставление языка грамотных людей «мужицкому языку» (sermo rusticus) имело явно оценочный характер, неблагоприятный для простого народа (153, с. 223 и след.).
Собственно, и там, где применялось понятие «бедность», paupertas, как и в случае с применением термина rusticitas, с тем их смысловым наполнением, о котором сейчас шла речь, литературные памятники не изображали крестьянство; на sermo rusticus мог говорить любой человек, не прошедший обучения. Важно, однако, другое: ведь именно термины, прилагаемые к крестьянам, стали синонимами качеств, которые в складывавшемся феодальном обществе считались отрицательными: «невежественный», «неграмотный», «подвластный», «неполноправный», «язычник», «грешник». Иными словами, именно крестьянин в глазах авторов того времени воплощал все отрицательные стороны социальной, экономической, культурной и религиозной жизни.
Как же все-таки, с точки зрения церковных авторов того времени, должен выглядеть «идеальный» крестьянин? Пожалуй, лучше всего об этом можно судить на основе составленного в середине VII в. Псевдо-Киприаном перечня «заблуждений и злоупотреблений мира». Эти двенадцать персонифицированных грехов суть следующие: «… бездеятельный мудрец, старец без религии, непослушный подросток, богач, не подающий милостыни, бесстыдная женщина, господин, лишенный добродетели, сварливый христианин, гордый бедняк, несправедливый король, небрежный епископ, непокорный плебс, народ без закона» (153, с. 136). Pauper superbus, plebs sine disciplina, populus sine lege – таковы, если искать в этом перечне указаний на простолюдинов, главнейшие социальные «чудища». Гордыня, непослушание – вот что страшит в простонародье духовное лицо, составителя этого списка. Следовательно, «идеал» крестьянства, в глазах церкви и формирующегося господствующего класса, – покорный, смирный и смиренный, законопослушный народ.
Так обстояло дело в начальный период генезиса феодализма. В литературе Х и xi вв. крестьянин либо по– прежнему отсутствует, либо упоминания о нем обычно служат не более чем поводом для выражения сожалений и сочувствия или ненависти и презрения. За редчайшими исключениями, он не выступает в письменных памятниках в качестве субъекта, обладающего собственными мыслями и чувствами. Авторы произведений, так или иначе касающихся жизни крестьянства, – либо клирики, зачастую сами выходцы из крестьян, но, как правило, проникнутые церковной идеологией, либо рыцари. Неудивительно, что чаяния и настроения крестьянства почти вовсе не могли наложить своего отпечатка на раннесредневековую литературу.
Во французской поэзии и в поэзии вагантов оценка мужиков, когда она все же встречается, – резко уничижительная и отрицательная. Во «Всепьянейшей литургии» ненависть вагантов к крестьянам находит самое откровенное выражение: «Боже, иже вечную распрю между клириком и мужиком посеял и всех мужиков господскими холопами содеял, подаждь нам… от трудов их питаться, с женами и дочерьми их баловаться и о смертности их вечно веселиться». В «грамматическом упражнении» вагант склоняет слово «мужик» таким образом: «… этот мужик, этого мужлана, этому мерзавцу, эту сволочь…» – и далее в подобном же роде, и в единственном и во множественном числе. В «Мужицком катехизисе» читаем: «Что есть мужик? – Существительное. – Какого рода? – Ослиного: ибо во всех делах и трудах своих он ослу подобен. – Какого вида? – Несовершенного: ибо не имеет он ни образа, ни подобия. – Какого склонения? – Третьего: ибо прежде, чем петух дважды крикнет, мужик уже трижды обгадится…» (159, с. 197) – и так далее, в подобном же духе. Эта ненависть к крестьянам – нелюдям, стоящим вне морали и вне культуры, объединяет вагантов с рыцарями. Такова преобладающая во французской литературе того периода установка. Она сохранится и в дальнейшем.
В Германии, где процессы формирования класса крестьян шли медленнее, чем во Франции (и на иной социальной основе), естественно, затягивалось и оформление взглядов, согласно которым мужики – это низший и приниженный слой общества. В немецкой литературе довольно долго сохранялась патриархальная интерпретация отношений между благородными и простонародьем. Сельский житель не обязательно наделялся здесь отрицательными или отталкивающими чертами. Не существовало – во всяком случае, последовательно проводимой и резко выраженной – противоположности моральных оценок знати и простолюдинов.
В этом смысле заслуживают внимания два произведения – «Unibos» и «Ruodlieb». В первом из них бедняк, владевший лишь одним быком (отсюда и его прозвище – Однобычий), находит клад и богатеет, перехитрив сельских верховодов – приходского священника, старосту и управляющего имением. Крестьянин оказывается умнее и хитрее их, они же – воплощение жадности и глупости, – обманутые Унибосом, сперва своими руками уничтожают собственных домашних животных, затем убивают жен и в конце концов погибают сами. Поэма открывает длинный ряд немецких шванков, шуточных народных рассказов, разделяя с ними как сюжет и художественные особенности, так и критическое отношение к тем, кто находится на социальной лестнице выше простолюдинов. Нравственное и интеллектуальное превосходство в ней – всецело у бедного поселянина. За грубым юмором поэмы стоит, видимо, народная традиция. Общество в поэме делится скорее на умных и глупых, нежели по социально-правовым признакам, однако ум и сметку автор склонен искать у простого крестьянина, а не у священника или должностного лица деревни (55). Сила, управляющая миром, согласно воззрениям анонимного автора, – «судьба», «случай» (for– tuna); к представителю бога в деревне – священнику, да и к самой церкви и ее учению он относится довольно пренебрежительно. В земледельческом труде, как и в крестьянской бедности, автор не находит ничего унизительного.
В отличие от позднейших шванков «Унибос» (и «Руод либ») написан по-латыни. Дата его возникновения неясна (по-видимому, Х или xi в.). Латинский язык поэмы расценивается как свидетельство того, что ее написал клирик. Если это и так, то он, вне сомнения, был близок по своим настроениям к низам общества. Герой поэмы выступает своеобразным мстителем за бедняков и слабых, его победа в борьбе с представителями сельской «аристократии» – торжество справедливости (как ее понимали тогдашние крестьяне).
«Руодлиб», памятник первой половины XI в., также анонимный и также, возможно, вышедший из-под пера монаха (полагают, что поэма была создана в баварском монастыре Тегернзее), по своему сюжету и построению сложнее «Унибоса». Если поэму «Однобычий» с известным основанием можно назвать крестьянским шванком, то «Руодлиб» рисует куда более многообразную и сложную картину общества; действие происходит в разных частях Германии и развертывается в различных социальных сферах. Какое же место в общей структуре поэмы занимает крестьянская жизнь и как она изображена?
«Руодлиб» выдвигает идеалы справедливого короля и доблестного рыцаря, однако наряду с ними здесь фигурирует еще один персонаж, обрисованный в столь же положительных тонах, – крестьянин. Краткое содержание поэмы таково. Рыцарь Руодлиб верно служит королю. При расставании Руодлиб получает от него дюжину полезных советов, преимущественно касающихся нравственного поведения. Среди них есть и такие: «не верь рыжему», «не езди по жнивью», «не ночуй у старика, имеющего молодую жену». Руодлиб тем не менее не посчитался с первым из этих советов и согласился взять в спутники повстречавшегося ему рыжего молодца, который тут же попытался его обокрасть. Затем Rufus («рыжий») вытоптал сельскую ниву, и с ним сурово обошлись обозленные крестьяне. Путники въезжают в деревню и спрашивают, у кого можно остановиться на постой. Эпизод в селе и представляет для нас в данном контексте наибольший интерес.
Руодлиба отсылают в богатый дом, хозяин которого сперва был в нем простым слугой у прежнего владельца, войдя к нему в полное доверие, а после смерти хозяина женился на его вдове. Хозяйство у него таково, что он мог бы оказать гостеприимство и графу с сотней рыцарей. Скота у него много, он не в состоянии назвать точное число голов. Двери его дома всегда открыты для всех нуждающихся. Руодлиб встречает тут достойный прием и участвует в пиршестве, во время которого подают вино и многие яства. По окончании пира гость дарит хозяйке дома дорогой плащ. Rufus же навязал себя в постояльцы к старику, женатому на молоденькой, и тут же попытался ее соблазнить; застигнутый мужем, он убил его. Заключительная сцена поэмы (в том виде, в каком она сохранилась, – конец ее утрачен) происходит на сельской сходке. Молодая вдова кается в своем прегрешении и добровольно возлагает на себя тяжкую епитимью, а рыжего бандита приговаривают к казни (61, с. 287–361).
Поэма содержит множество деталей деревенской жизни. Описаны богатство крестьян, дорогая утварь, обильные угощения, одежды и подарки, которые они дают и получают, сельский суд, чинимый крестьянскими выборными лицами, воспроизведены даже подлинные реалии народного права. Со статусом крестьянина не связан какой-либо один тип характера или поведения, как то присуще средневековой французской литературе, неизменно враждебной мужику. Бок о бок с идеализированным крестьянином, который выбился из слуг в богачи благодаря своим нравственным качествам, в поэме стоит карикатурно злой и уродливый старик крестьянин, точно так же как наряду с образцовыми королем и рыцарем Руодлибом в ней фигурирует Rufus, отмеченный печатью неблагородства. В центре внимания автора поэмы – этические, а не сословные противоречия. Зло и добро одинаковы во всех слоях общества. Сельская жизнь здесь не противопоставлена придворной: принципы справедливости и умеренности имеют равную силу как для рыцарей, так и для крестьян.
Однако, в отличие от «Унибоса», где герой – бедняк, в «Руодлибе» восхваляется зажиточный, благополучный крестьянин. Между хозяевами и их челядью поддерживаются отношения образцовой общности и взаимного благожелательства: усердие, честность и перед бедняком открывают дорогу к уважению и преуспеянию. Деревня, как она обрисована в поэме, представляет собой самодовлеющий мирок, жители которого самостоятельно решают все свои дела, вплоть до наказания преступников по приговору местного суда. Читатель тщетно стал бы допытываться, кому подчинено сельское население, находится ли оно от кого-либо в зависимости и т. п., – эти вопросы не занимают автора, дающего явно приукрашенную картину сельской жизни, причем идиллия нарушается не вторжением каких-либо социальных сил, но исключительно в результате попрания законов морали.
«Руодлиб» предоставляет исследователю единственную в своем роде возможность познакомиться с некоторыми чертами крестьянского самосознания в период генезиса феодализма, хотя, разумеется, для того чтобы правильно понять отраженный в нем мир крестьянских идей, нельзя забывать о пронизывающей поэму тенденции к возвышающей стилизации.
Настроения, запечатленные в разобранных выше произведениях, отчасти сохраняются в отдельных памятниках немецкой литературы последующего периода: в стихотворении «О праве», действующие лица которого, хозяин и работник, «равные по праву» перед богом, вместе корчуют лес и честно делят между собой плоды своего труда, или в «Бедном Генрихе» Хартмана фон Ауэ, изображающем отношения между господином и слугой, пронизанные взаимной нерушимой верностью.
Однако по мере складывания класса крестьян и дальнейшего развития феодального строя классовая ненависть к ним господ и пренебрежение горожан и образованных людей стали общим местом в немецкой, как и во французской литературе.
2. КРЕСТЬЯНСТВО В ХРИСТИАНСКОЙ СХЕМЕ РАННЕФЕОДАЛЬНОГО ОБЩЕСТВАЦерковь, разумеется, не разделяла открытой враждебности к крестьянам, несовместимой с проповедью смирения, любви к ближнему и равенства всех перед богом. Ее задача состояла в том, чтобы по возможности сглаживать социальные конфликты и антагонизмы, оставаясь при этом в главном и основном на стороне господ, к которым принадлежали сами церковно-аристократические верхи. В соответствии с этим и вырабатывалась идеологическая позиция духовенства. Обращаясь к сильным мира сего, оно взывало к милосердию по отношению к угнетенным и обездоленным. Церковные авторы осуждали магнатов за чинимые ими утеснения мелкого люда и жестокость в обращении с подданными. Эта традиция обличения социального зла восходила к весьма отдаленным временам: не говоря уже о периоде раннего христианства, вспомним хотя бы ламентации Сальвиана Марсельского (v в.) по поводу безнадежного положения угнетенных масс Римской империи, предпочитавших жить с варварами, чем переносить гнет собственного государства.
Орлеанский епископ Иона (IX в.), обрушивая громы и молнии на головы «потентатов», напоминал им, что «по своей природе их рабы и вообще все бедняки равны им» (120, с. 51). В начале XI в. ланский епископ Адальберон в сатирической поэме, посвященной королю Франции Роберту Благочестивому, сокрушался по поводу беззаконий и развращенности высших слоев и оплакивал несчастное положение сервов, которые лишены всего, хотя своим трудом содержат все общество. «Есть ли предел слезам и стонам сервов?» (3, с. 781–782) – вопрошал он.
Это сочувствие к низшим слоям общества и осуждение их могущественных притеснителей в значительной мере проистекали из социального учения церкви, которая с подозрением относилась к богатству и превозносила бедность, считая ее идеальным состоянием. Правда, осуждение богатства, столь решительное в произведениях отцов церкви III–V вв., было несколько приглушено в литературе того времени, когда сама церковь стала крупнейшей собственницей. Прославление же бедности проходит лейтмотивом через все литературные памятники Раннего Средневековья. В бедняках видели божьих избранников, – «избранничество» должно было служить им своего рода моральной компенсацией за земные невзгоды. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство божие» – эта евангельская сентенция (Матф., 19:24) была популярна в Средние века. Однако духовенство никогда не настаивало на том, что слова Нового завета нужно понимать буквально и, следуя им, отказываться от богатства, хотя никому не возбранялось раздать свое имущество и принять обет добровольной бедности.
Программа церкви в этом отношении практически сводилась к требованию милостыни в пользу бедняков. О способах прекращения бедности и не помышляли, – подаяние призвано было ее увековечить, поскольку оно склоняло нищих к тому, чтобы оставаться в положении иждивенцев, кормящихся от крох, уделяемых зажиточными. Нищета возводилась в моральное достоинство. Своего рода культ бедности порождал, по свидетельству ряда церковных авторов, осуждаемое ими «чванство бедняков». Впрочем, в житиях святых эта «заносчивость бедных» подчас поощрялась. Парижский епископ Герман, получив в подарок от короля Хильдеберта коня с повозкой, употребил этот дар для выкупа пленника, хотя король просил святого, чтобы тот никому не отдавал его подарка. Автор жития говорит: «… для священника больше значил глас бедняка, нежели короля» (59, с. 385). Подлинным гимном добровольной бедности звучит стихотворная легенда о святом Алексии, удалившемся от богатых родителей и умершем в нищете (56).
В бедняках видели не столько несчастных, чью жалкую участь необходимо облегчить, сколько спасителей богатых. Бедные существуют для того, чтобы богатые могли искупить свои грехи; богатые же нужны бедным, дабы те могли кормиться около них. Подаваемая бедняку милостыня, писал Алкуин в конце VIII в., позволяет подавшему попасть в рай; земные сокровища, будучи розданы беднякам, превращаются в вечные богатства, вторил ему ученик его Храбан Мавр (160, с. 186). Таким образом, бедность не осознавалась как социальная проблема, которую обществу надлежит разрешить. Нельзя не заметить при этом, что во главу угла ставилось не положение того или иного члена общества или социального разряда, а взаимное служение всех на благо целого.
Церковь стояла на позициях сохранения сложившегося порядка и учила, что каждый член общества должен жить сообразно своему положению, а не добиваться изменения своего правового или имущественного статуса.
Спиритуализуя социальные противоречия, церковное учение делало их как бы иллюзорными: поскольку подлинная жизнь человека – это жизнь души, единение с Богом, постольку его общественное поведение имеет, собственно, лишь одну цель: не отяготить бессмертную душу грехами. Среди них на первом месте стояла гордыня, а под эту религиозно-моральную категорию легко подводились все попытки избавиться от своей доли.
Осуждение частной собственности церковью носило сугубо отвлеченный характер. Сотворенная Господом земля вместе со всем, что на ней произрастает и находится, была отдана в общее пользование людям. Своекорыстие людей после грехопадения привело к возникновению частной собственности. Поэтому праведна лишь бедность. В глазах общества она обладала высоким нравственным достоинством. Бедняк, с точки зрения церковного учения, был одновременно и предметом сочувствия или сострадания и образцом для подражания, в нем воплощался существенный идеал Средневековья.
В дальнейшем мы убедимся в том, как на более продвинутом этапе развития общества учение церкви подвергнется существенной модификации и будет сообразовываться с реальными социальными запросами верующих, в частности горожан. Пока же церковь занимала преимущественно консервативную позицию. Эта тенденция духовенства отчетливо проявилась в сочинениях литературы, так или иначе затрагивающих проблему крестьянства.
Уже в период Раннего Средневековья люди не могли не задумываться над устройством общества, его составом и соотношением частей. Способы и формы осознания общественной жизни обусловливались наличным мыслительным материалом. В IX и Х вв. возникает и со временем приобретает популярность учение о тройственном расчленении общества. Независимо от того, каковы были отдаленные истоки подобной конструкции, ее идеологическая суть в обстановке торжества католицизма сводилась к утверждению, согласно которому земная иерархия – не что иное, как порождение и отражение иерархии небесной, и обе они моделируются по образцу божественной Троицы (в законченном виде эта концепция представлена в сочинениях Псевдо-Дионисия Ареопагита, ставших известными на Западе в IX в. в латинском переводе Иоанна Скотта Эриу гены).
Общество делится в соответствии с этим учением на три состояния, разряда (ordines), взаимно дополняющих один другой и образующих гармоническое целое – социальный порядок (термин ordo и должен был выразить именно это понятие).
Расшифровка и уточнение, осмысление этой схемы заняли длительное время, и лишь постепенно была выработана вполне удовлетворительная формула. Упоминание трех «сословий» встречается уже в послании папы Захария Пипину Короткому (16, с. 480). В начале ix в. орлеанский епископ и каролингский поэт Теодульф писал о трех «орденах»: монахов, пребывающих у подножия господнего престола; священников, приуготовляющих верующих ко спасению; мирян, которые «вращают колесо мельницы» (120, с. 50). В такой отвлеченной морально– религиозной интерпретации общества невозможно вскрыть взгляды духовенства на простой народ. Однако в конце того же столетия формула трехчленного деления общества приобретает новый вид и принципиально иной смысл. В свой перевод трактата Боэция «Об утешении философией» с латыни на древнеанглийский язык король Альфред включает текст, отсутствующий в оригинале. Рисуя облик идеального государя, английский король пишет, что средством и материалом, необходимым для успешного осуществления монархической миссии, служат три «состояния»: «те, кто молятся» (gebedmen), «те, кто воюют» (fyrdmen) и те, «кто работают» (weorcmen) (32, с. 40). Здесь уже делается попытка представить общество не в плане богословия спасения (как у Теодульфа), а как функционально расчлененное целое, каждая часть которого дополняет другие и служит осуществлению общей задачи.
Внутренняя структура духовного ordo оттесняется коренным расчленением общества в зависимости от выполняемых его частями государственно важных функций. Соответственно миряне делятся на воинов и трудящихся. Этой формулы придерживались и английские церковные авторы последующих двух веков.
Что касается континента Европы, то в самом конце Х в. Аббон из Флери придал трехчленной формуле такой вид: общество состоит из двух «орденов» – клириков и мирян, – последние же разделяются на «земледельцев» (agricolae) и «воинов» (agonistae). (Подобным же образом в начале XII в. польский хронист Галл Аноним проводил деление на «воинствующих рыцарей» (milites bellicosi) и «трудолюбивых земледельцев» (rustici laboriosi) (22, с. 8).
Простолюдины, трудящиеся, крестьяне получают в «социологической схеме» мыслителей Раннего Средневековья особое место. В начале XI в. Адальберон Ланский, подчеркнув единство общества в качестве «дома божьего», то есть по отношению к Творцу, и двоякое его расчленение на «свободных» и «несвободных» в зависимости от личного статуса, то есть в соответствии е «человеческим законом», одновременно провозглашал троичность социальной структуры, обусловленной функциями, выполняемыми каждым из «орденов»: в этом смысле общество делится, как и у Альфреда, на «молящихся», «воюющих» и «трудящихся». Эти три «ордена» живут вместе, и «разделение для них непереносимо», ибо услуги одних делают возможным существование других и все опираются друг на друга (3, с. 782). Подобную же трехфункциональную схему общества развивал одновременно и епископ Камб ре Герард (iii, с. 35 и след.).
Троичное деление общества не единственное, которое можно найти в раннесредневековой литературе. Еще в середине viii в. святой Бонифаций различал ordo господ и ordo подданных, ordo богатых и ordo бедных (что скорее можно истолковать, по-видимому, как двойственное деление, нежели четверное), а святой Бенедикт Анианский в ix в. писал об «орденах» старых и молодых, господ, богатых, бедных, благородных, неблагородных и т. д. (120, с. 51, 144). В следующем столетии Ратхерий Веронский вместо отягощенного раннехристианской традицией понятия ordo употребляет чисто светское понятие «чин», «звание» (conditio), тогда как авторы xii и xiii вв. пишут уже о «статусах», давая им развернутую и нюансированную градацию.
Если ограничиваться пока периодом Раннего Средневековья (ибо мыслители более позднего времени вообще придерживались иных взглядов на социальную структуру), то есть все основания утверждать, что трехчленная схема была наиболее авторитетной и отличалась продуманностью и законченностью. Идея сотрудничества и взаимопомощи составляющих социальное целое «орденов», каждый из коих существует от века и неизменен, как неизменен и вечен объемлющий их богоустановленный миропорядок, оправдывала подчиненное положение крестьянства и служила интересам складывавшейся феодальной монархии (153, с. 80 и след.; 154; 192). Эта схема вместе с тем отвечала глубоко заложенной в средневековом сознании потребности видеть отдельное под знаком целого; благополучие же целого зависит от постоянства и неделимости его компонентов. Что касается простого люда, крестьянства, то, по словам авторов упомянутых выше схем, его труд столь же существен и необходим для разрядов «молящихся» и «воинов», как услуги духовенства и рыцарства жизненно важны для «пахарей». Классовая гармония и отрицание социальной мобильности – идеал мыслителей той эпохи.
Желая по тем или иным причинам охарактеризовать общество в целом, церковные авторы накладывали на социальную действительность некую отвлеченную трехчленную конструкцию, считая, очевидно, ее вполне адекватной и достаточной, ибо эти понятия (адекватность и достаточность) предполагали не объективность «отражения» жизни с ее многообразием и текучестью – это никого не интересовало, – а соответствие высшим идеальным образцам, в данном случае – принципу троичного деления единого мира. В период господства теологической мысли осознание социальных отношений могло означать только одно: изображение их в соответствии с априорно заданными мифологемами. Это видно и из того, с какой легкостью классово-сословное деление общества возводилось – опять-таки по правилам троичной схемы! – к библейским прототипам: рыцари, свободные и сервы происходят от трех братьев-сыновей Ноя; рыцарь – от Яфета, свободный – от Сима, зависимый – от Хама (29, с. 166). Согласно «Венской Книге бытия» (XI в.), источником крестьянской несвободы явилось проклятие Хама Ноем – толкование, которое в более позднее время опровергалось «Саксонским зерцалом» (44).
Трехчленная схема нашла отражение и в поэзии. Так, в немецкой поэме «Frauenlob» («Похвала женщинам») читаем: «С самого начала люди разделены натрое, как я читал: крестьяне, рыцари и священники». В немецкой поэзии подчеркивается и взаимозависимость сословий. «Священник, рыцарь и крестьянин должны быть товарищами. Крестьянин должен обрабатывать землю для священника и рыцаря, священник должен спасать крестьянина и рыцаря от ада, а благородный рыцарь должен защищать священника и крестьянина от угрожающих им злодеев» (130, с. 2–3). При всех различиях отдельных толкований христианской трехчленной формулы смыслом ее оставалось идеологическое обоснование крестьянской зависимости и нерушимости общественного строя, опиравшегося на труд земледельцев.