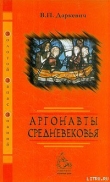Текст книги "Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства"
Автор книги: Арон Гуревич
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
То же самое можно обнаружить и в других бытовых нормах и навыках, например, в очень медленно шедшем процессе интимизации сна. Долгое время спали по два или несколько человек в одной постели, не говоря уже об одной комнате. Сексуальная жизнь на протяжении Средневековья еще не была окружена тою тайной, которая окутала ее в более позднее время, и, в частности, не была столь радикально устранена от взоров ребенка. Отправление естественных потребностей, в Новое время уходящее целиком за кулисы общественной жизни и замалчиваемое, в Средние века не было окружено такою же стеной стеснительности. В поучениях о добрых нравах XVI–XVIII вв. благородным юношам внушается мысль о том, что эти потребности нужно удовлетворять не на глазах других людей, но в среде простолюдинов подобные нормы не были в ходу (115, с. 174 и след.). Иллюстрацией могут служить хотя бы полотна Брейгеля. На картине «Крестьянская свадьба» видны несколько участников сельского праздника – мужчин, которые отходят к стене помочиться, и ни для них, ни для пляшущих тут же рядом пар в этом нет ничего неестественного или неприличного.
«Барьер стыдливости», окружающий «атомизированную» личность Нового времени, в тот период был не таков и проходил не там, где он проходит ныне, но когда он стал воздвигаться, то это цивилизационное движение коснулось прежде всего высшей части общества, постепенно распространяясь за ее пределы, и лишь в последнюю очередь затронуло деревенское население. В этих особенностях нравов XVI и XVII вв. можно видеть симптомы самосознания человека, который еще не настолько внутренне обособил себя от социального окружения, чтобы ощутить потребность укрыть определенные аспекты своего бытового поведения за «стеною аффектов» и чтобы эта потребность сделалась его неотъемлемой привычкой, автоматизмом.
Из этих примеров вытекают по меньшей мере два следствия. Во-первых, «цивилизационный процесс» (в интерпретации Элиаса), неравномерно охватывая общество и начинаясь «сверху», вел к дальнейшему обособлению аристократической его части от плебса и к усилению культурной противоположности между знатью и низами. Аристократия воплощала в себе культуру и просвещенность, достойные утонченного человека манеры и навыки поведения; простолюдины же, и прежде всего крестьяне, оказывались вообще как бы вне человеческого общества, и не случайно в упомянутых поучениях и трактатах о должном поведении по одну сторону оказываются мужики и животные (115, с. Ill и след., 117, 123, 125, 131). В высшей степени красноречивое уравнивание!
Во-вторых, рост самосознания человеческой личности, выражающийся, в частности, в ее стремлении обособиться, в среде крестьян ощущался в тот период в наименьшей степени. Коллективистское сознание, традиционная групповая принадлежность, равно как и тяжелое, угнетенное положение и общий «идиотизм деревенской жизни», сковывали развитие личности крестьянина, и она могла обнаружить себя преимущественно после ухода из деревни и разрыва с прежним образом существования. В числе гуманистов, просветителей и религиозных деятелей XVI–XVIII вв. было немало выходцев из крестьян, но это были люди, порвавшие с рутиной сельского труда и быта.
Отношение к ребенку – один из немаловажных показателей социально-психологической жизни. Как показал Ф. Ариес, это отношение переживало значительную трансформацию как раз в конце Средневековья и начале Нового времени: постепенно начинают осознавать особенности детства, новые формы приобретает родительская привязанность к детям, семья становится ячейкой, в рамках которой осуществляется воспитание ребенка, в то время как до того семья вокруг детей не центрировалась и их воспринимали преимущественно в качестве «маленьких взрослых» (82). Однако материал источников, на которые опирается Ариес, по большей части относится к аристократической и буржуазной семье, и об отношении к детям крестьян и мелких горожан историку известно немногое.
Ребенок в простонародных семьях с раннего детства приучался к труду и нередко подвергался при этом суровому обращению. В силу чрезвычайно высокой детской смертности на нее смотрели как на неизбежное зло. В семье нужен был помощник, работник, но вовсе не требовались лишние рты. Ведь точно так же оценивали и немногочисленных в деревне стариков (большинство умирало, не дожив до старости): особым уважением эти иждивенцы пользоваться не могли. П. Губер отмечает, что в церковноприходских книгах сохранились записи о смерти взрослых, но лишь редко– о смерти детей, и возникает вопрос: что думали и чувствовали родители, потерявшие ребенка (127, с. 110, 304)? Губер не исключает безразличия. Однако судебные протоколы свидетельствуют: родители, подозревавшие ведьму в том, что она повредила здоровью их ребенка, не оставались пассивными или индифферентными. Вспомним, что жители пиренейской деревни Монтайю, взгляды и настроения которых зафиксированы в делах инквизиции в начале XIV в., не скрывали родительской любви и горя, испытываемого ими при потере детей (162). Видимо, однозначное решение вопроса невозможно.
В изучаемый нами период школьное обучение детей распространяется не только в городах, но и во многих деревнях. Их учат чтению, письму, счету, внушают элементы религиозных сведений. Церковь и власти заботились о религиозно-нравственном просвещении народа и установлении контроля над его сознанием. Сам факт обучения детей не мог не обратить внимания родителей на специфику детства как психологического феномена даже в тех случаях, когда родители не проявляли (как отмечал Лютер, имея в виду простонародье) заинтересованности в том, чтобы их потомство получило образование.
Однако детство было относительно коротким, и подросткам рано приходилось начинать самостоятельную жизнь. На них сызмальства распространялось и уголовное право. В частности, видя, что жертвами процессов о ведовстве нередко делались малолетние, власти запретили сожжение на костре девочек в возрасте до двенадцати лет и мальчиков в возрасте до четырнадцати лет (182, с. 102).
Трудно разрешимый вопрос: в какой мере репрезентативен для характеристики социальной психологии крестьянства XVI в. и, в частности, для рассмотрения вопроса о развитии индивидуальности в этой среде «казус Мартена Герра»? Имеется в виду эпизод из жизни южнофранцузских крестьян, исследованный Н. 3. Дэвис. Житель одной из деревень, расположенных к югу от Тулузы, Мартен Герр, в 1550 г. бежал из своей деревни, оставив молодую жену и родственников, и начал жизнь наемного солдата и слуги, потеряв в войнах ногу. Шесть лет спустя в деревню, из которой он скрылся, явился некий Арно де Тиль, выдавший себя за Мартена Герра. Жена последнего, Бертранда, приняла его за своего мужа, и в истинности утверждения пришельца поначалу никто – ни в деревне, ни в семье – не сомневался. Лишь через несколько лет в силу имущественных споров, вспыхнувших между родственниками Бертранды и самозванцем, было выдвинуто обвинение в том, что он выдает себя за другого человека. Бертранда, у которой уже была дочь от «нового» Мартена Герра, в конце концов присоединилась к обвинителям, но голоса свидетелей в Тулузском парламенте, где разбиралось дело, раскололись: одни утверждали, что муж Бертранды – самозванец, другие же настаивали, что он и есть подлинный Мартен Герр. Самое любопытное в том, что единодушия на сей счет не существовало даже среди близких родственников Герра. Судья был склонен отвергнуть обвинение, когда в зал заседаний парламента неожиданно для всех явился подлинный Мартен Герр. Участь обманщика была решена: он был осужден и казнен в 1560 г. (103).
Н. 3. Дэвис указывает, что для идентификации «нового» Мартена Герра с «прежним» в то время не было ни фотографий, ни отпечатков пальцев, ни автографов, ни, добавим, никаких документов. По ее предположению, успех обманщика объяснялся тем, что Арно де Тиль познакомился где-то с Мартеном Герром, выведал у него подробности о жизни в его деревне и сведения о жене, родственниках и соседях, вследствие чего мог ввести всех в заблуждение и держаться в деревне как свой человек на протяжении довольно долгого времени. Однако перед нами, как справедливо замечает исследовательница, не комедия ошибок и не плутовская новелла, в которой одно лицо с легкостью выдает себя за другое, а реальный случай из жизни французской деревни и из судебной практики, cause celebre, описанный самим судьей. И все же нелегко представить себе психологию родственников, включая братьев и сестер Мартена Герра, выросших вместе с ним, которые не сумели за четыре года проживания с самозванцем обнаружить обман! Не следует ли предположить, что восприятие человеческой индивидуальности и неповторимых ее черт, по крайней мере в крестьянской среде, в ту эпоху отличалось от современного?
Здесь приходит на память еще одно обстоятельство: человек из крестьян подчас не знает точно своего возраста. В протоколах судов, рассматривавших дела о ведовстве, зафиксированы показания обвиняемых; они определяют свой возраст сплошь и рядом по следующему образцу: «N лет или около того» (182, с. 89, 99 и след., 146 и след.). Впрочем, незнание человеком, сколько ему лет, вообще было одной из черт, присущих людям Средневековья, с их особым отношением к времени (121, с. 145 и след.).
Мне кажется, что обрисовка рассмотренных выше аспектов социально-психологического климата на Западе в период перехода от Средневековья к Новому времени – возможная при нынешнем состоянии знаний только фрагментарно, в чрезвычайно обобщенных и потому огрубленных чертах, – тем не менее помогает уяснить особенности сознания и поведения людей той эпохи, страхи, их обуревавшие, и тем самым лучше представить себе ту ментальную почву, на которой произрастали идеи о злокозненности ведьм и необходимости вести против них истребительную, непримиримую войну.
Теперь в целях дальнейшего расширения исторического контекста мне хотелось бы затронуть, опять-таки в самом общем виде, другую существенную проблему, по моему убеждению, тесно связанную с охотой на ведьм, – проблему народной культуры этого переходного периода.
3.
Сохраняя свои основные характеристики, присущие ей в собственно средневековую эпоху, культура простолюдинов на протяжении XVI–XVII вв. переживала заметные и немаловажные изменения. Общее развитие европейской цивилизации не могло не оказать воздействия и на крестьян и мелких горожан.
Первый из факторов, способствовавших этим переменам, – частичное приобщение к книге тех слоев общества, которые ранее к ней доступа не имели. Изобретение и распространение книгопечатания ознаменовало революцию в средствах социальной коммуникации, в области диффузии и циркуляции достижений культуры и, в конечном итоге, в структуре общественного сознания, поскольку внедрение грамотности приводило к глубоким изменениям последнего. Человек в недрах устной культуры и человек в условиях культуры книжной являют собой два глубоко различных типа личности. Ориентация на слуховое восприятие сменялась частичной переориентацией на восприятие визуальное, которое дает более стабильную основу для социального поведения. Человек в меньшей мере зависит от случайных слухов, колеблющейся и неверной молвы и от капризов собственной и чужой памяти. Его практические трансакции с другими членами общества могут отныне опереться на точно фиксирующий их документ. Сама память приобретает качественно иные параметры, ибо в условиях доминирования устной, фольклорной культуры ее временная глубина ограничивается немногими предшествующими поколениями родственников и соседей, своего рода «островками памяти», а за этими пределами начинается безбрежное и не поддающееся временному измерению господство мифа, предания, сказки; тогда как память, дисциплинируемая книгой, способна организовываться исторически, и поэтому собственно историческое сознание может проникнуть в широкие круги общества только в результате успехов культуры книги.
На протяжении Средневековья книга (рукописная, а потому редкая и дорогая, обычно – произведение искусства) оставалась достоянием кучки образованных, сакральным предметом, совершенно недоступным массе населения. Книгопечатание открыло возможность приобщения к информации, запечатлеваемой уже не одною человеческой памятью, в принципе для всех. Включение печатной книги в механизм функционирования культуры демократизировало знание.
И действительно, на протяжении изучаемого периода, в особенности к концу его, неуклонно возрастал процент грамотных людей, которые хотя бы в минимальной степени умели читать и писать, лавинообразно увеличивалось количество печатной продукции, книга, брошюра, печатный плакат или листовка становились доступными все более обширному числу жителей Запада. Однако этот процесс протекал неравномерно, в разной мере охватывая отдельные страны и провинции. Так, в Германии наблюдался известный рост грамотности до Тридцатилетней войны, а после нее, в обстановке всеобщей разрухи, наметился регресс (148, с. 180).
Разумеется, город в овладении грамотностью намного опережал деревню. Связанная с появлением книгопечатания революция наглядно была видна именно в городских центрах новой цивилизации, тогда как в сельской местности грамотные насчитывались единицами. Женщины в деревне были почти сплошь неграмотны. Что касается мужчин, то, например, в Лангедоке в 70—90-е годы XVI в. способными написать собственное имя были 3 процента батраков и 10 процентов состоятельных крестьян (161, с. 345–347). М. Вовель пишет о «крестьянском культурном гетто» в Провансе XVII и XVIII вв., где грамотность среди мужчин не превышала 4–8 процентов (237, с. 338). П. Губер оценивает процент грамотности французских крестьян несколько выше, чем другие авторы: по его мнению, в конце XVII в. почти половина мужчин и четверть женщин могли поставить свои подписи в нотариальных актах, оформлявших брак (127, с. 82). По Р. Мюшембле, в это же время около 1/3 мужчин и менее 1/7 женщин были хотя бы в элементарной форме затронуты «цивилизацией письменности» (182, с. 208). Приводимые исследователями цифры расходятся, общая же картина остается примерно той же самой: большинство населения деревни неграмотно.
Человек, умеющий читать и писать в сельской местности, – это прежде всего приходский кюре. Но и у деревенских священников, как показывают протоколы епископских визитаций, книг было до крайности мало. Изредка в деревнях встречались и другие лица, худо-бедно владевшие грамотой, остальная же масса прихожан по-прежнему принадлежала всецело стихии устной культуры. Естественно, что наличие в деревне даже одного или нескольких грамотеев могло привести к тому, что какая-то печатная информация делалась отчасти достижимой и для их окружения, ибо книгу, брошюру, альманах читали вслух или пересказывали их содержание.
В период Реформации и Контрреформации церковь (и протестантская и католическая) энергично мобилизовала духовенство на более эффективную проповедь среди горожан и особенно крестьян, наименее осведомленных в вопросах религии. Был проведен ряд мер, которые способствовали распространению книги и грамотности. В сельской местности были созданы приходские школы: считали необходимым обучить крестьянских детей хотя бы начаткам грамоты, с тем чтобы они могли лучше усваивать слово божье. Этих школ было немного, зачастую недоставало учителей, крестьянские дети, труд которых представлял немаловажное подспорье в хозяйстве, имели возможность посещать школу лишь несистематично. К тому же крестьянские сыновья, усвоившие грамоту, нередко покидали деревню, обращаясь к ремеслу или готовясь принять священнический сан. Тем не менее церковь добивалась того, чтобы рядовой прихожанин был способен выучить катехизис, содержавший необходимый минимум сведений религиозного содержания, изложенных в виде вопросов и ответов.
В период между появлением книгопечатания в середине XV в. и кануном Реформации 3/4 всей типографской продукции составляли религиозные сочинения – «Подражание Христу», «Библия бедных», «Зерцало человеческого спасения», «Ars moriendi» и т. п. произведения. До Реформации Библия была редкостью даже в руках духовенства.
На протяжении XVI столетия она выходит на первое место среди печатных изданий. Начиная с лютеровского перевода Библии, в 20-е и 30-е гг. во всей Европе развертывается энергичная работа по переводу Священного писания на национальные языки, как в странах реформационных, так и у католиков. Перевод Библии явился фактом огромного общественного и культурного значения, оказавшим мощное воздействие на развитие языка и литературы. Писание, которое до того оставалось достоянием одного только кюре, в переводах делалось доступным практически всем, и в силу довольно больших тиражей, какими оно появилось в разных странах, от Уэльса и Швеции до Чехии и Венгрии, и в силу того, что все возраставшее число людей было способно его читать.
Однако катехизис, эта «Библия простолюдина», был более понятен крестьянам и мелким бюргерам; особенным распространением он пользовался в протестантских государствах. Новое значение в условиях книгопечатания приобрела религиозная проповедь. Достаточно сказать, что сочинение Беньяна «Путь пилигрима» (1678) до конца XVII столетия выдержало 22 издания и было переведено с английского на многие другие языки. Среди литературы, предназначенной для религиозного просвещения народа, преобладали наряду с катехизисом жития святых, религиозные песнопения, рождественские рассказы.
Открывая перед простолюдинами возможность знакомиться с содержанием религиозных текстов, церковь вместе с тем испытывала вполне оправданные опасения: если прежде прихожане получали свои религиозные знания из рук одного лишь священника, проповедника, то отныне эта монополия разрушалась и было невозможно предсказать, что именно извлекут те или иные пытливые читатели из Библии. «Для тебя ли чтение Библии? – вопрошал инквизитор еретика, заточенного в лионскую тюрьму в 1552 г, – ведь ты ремесленник и знаний у тебя нет». «Библия принадлежит всем христианам, дабы они уяснили путь ко спасению», – отвечал заключенный, французский иезуит писал: «Богу не угодно открывать свои тайны простолюдинам. Воспламененные какими-то словами апостолов, дурно процитированными и еще хуже понятыми, они ставят под сомнение мессу и задают вопросы» (102, с. 220–221). Опыт Крестьянской войны в Германии воочию показал, сколь действенным оружием могут стать Библия и Евангелие в руках восставших крестьян и других низших слоев общества. Листовки и памфлеты в период Реформации распространялись в Германии в тысячах экземпляров, их читали на рынках, в тавернах, в церквах и на сельских праздниках. В XVIII в. в Германии образованные также высказывали мнение, что дурно делать крестьян слишком умными, нужно поставить границы их образованности. Такой точки зрения придерживался и Фридрих II Прусский, опасавшийся, что грамотный человек вознамерится покинуть деревню (148, с. 176, 199–200). С опаской на просвещение простонародья смотрел и Вольтер.
Наряду с религиозными текстами в переводах на национальные языки появляются многочисленные издания литературы светского содержания, предназначенной для широкого потребителя. Эти книги, точнее, брошюры, объемом в два десятка страниц, отпечатанные на низкосортной бумаге и стоившие очень дешево, распространяли на ярмарках коробейники, странствующие мелочные торговцы. Во Франции на протяжении XVII и XVIII вв. особой популярностью пользовались брошюры «Голубой библиотеки» из Труа, где они печатались (название «Голубая библиотека» объясняется цветом оберточной бумаги этих буклетов). Исследователи полагают, что главным потребителем подобных изданий была деревня, так как в городе существовали и многие другие источники информации, доступные простонародью. Авторы этих книжек анонимны, – вероятно, это лица, получавшие заказы от печатника, а последний при посредстве разносчиков внимательно следил за читательским спросом. Поэтому, как полагает Р. Мандру, анализ печатной продукции, выпущенной типографами Труа (сохранились книжки 450 названий), может отразить картину состояния народной культуры.
Какова тематика брошюр «Голубой библиотеки»? Это мифологические повествования, сказки о феях и волшебниках, рассказы о колдовстве и чудесах, рыцарские романы, календари и жития святых, сочинения нравоучительного и благочестивого содержания, гривуазные фарсы, повести о разбойниках, о любви и смерти, песенники. Чрезвычайной популярностью пользовались астрологические сведения. Астрология должна была помочь и в прозрении будущего, и в исцелении от болезней, и в обеспечении урожая; тема судьбы живо занимала читателей брошюр. Герои дешевой литературы, адресованной простонародью, – Карл Великий, Роланд, Оливье, предатель Ганелон, рыцари типа Оже Датского, крестоносцы; герои мифологических повестей – Гаргантюа, Тиль Уленшпигель, Скарамуш. Р. Мандру подчеркивает активный интерес читателей к миру сверхъестественного и расценивает эту печатную продукцию как «литературу бегства от жизни» (litterature d'evasion) (170, с. 40). Хотя среди книг «Голубой библиотеки» встречаются произведения, касающиеся воспитания, ремесел, арифметики и – особенно часто – элементарных медицинских знаний, в целом она далека от повседневной жизни и увлекает читателя в воображаемый чудесный мир (172, с. 157).
В брошюрах «Голубой библиотеки» напрасно искать имена философов, ученых или писателей Просвещения или хотя бы косвенное отражение их идей. Эта литература обращена к прошлому, заимствует свои темы и сюжеты по большей части у Средневековья. Здесь видно, как аристократическая и рыцарская культура перелицовывается и приспосабливается для менее взыскательных вкусов плебса. История находит в ней отражение постольку, поскольку перерабатывается в мифологические и легендарные повествования, в анекдоты, в которых сообщения об отдельных фактах прошлого смешиваются с баснями.
Что касается социальной проблематики, то общество изображено в литературе коробейников «стыдливо» и односторонне: эксплуатация масс, классовые антагонизмы, голодовки, религиозные кризисы, гнет налогов не находят здесь никакого выражения. Господствующая тональность этих повестей – социальный конформизм и фатализм. Р. Мандру называет этот конгломерат верований, идей и знаний, унаследованных от более ранней эпохи, частично при посредстве фольклора, «народной культурой» и отмечает ее неизменность на протяжении двух столетий существования «Голубой библиотеки». Но он признает вместе с тем, что эта сумма сюжетов и повествований представляла собой «форму отчуждения народной культуры» (170, с. 40).
Точка зрения Мандру и Боллем (90) встретила, однако, обоснованные возражения других исследователей (102, с. 190, 123). Едва ли можно составить себе представление о народной, в частности крестьянской, культуре XVII и XVIII вв., исходя только из содержания брошюр и альманахов, которые были доступны простолюдинам, – ведь ничего не известно о том, как они воспринимали эти сочинения и что именно они в них воспринимали. Мандру, видимо, исходил из предположения о полной пассивности этого восприятия, но нет оснований согласиться с подобной предпосылкой. Перед нами – скорее культура д л я народа, предлагаемая, навязываемая простолюдинам, нежели народная культура в прямом смысле слова. Было бы неосмотрительно пытаться извлечь из брошюр «Голубой библиотеки» элементы картины мира простого человека. Во всяком случае, учитывая низкую грамотность сельского населения в этот период, нет оснований преувеличивать степень воздействия на него популярной литературы. Культура крестьян оставалась устной, фольклорной.
Восприятие простолюдинами литературы, предлагаемой коробейниками, остается неизвестным. Тем не менее благодаря исследованиям итальянского историка К. Гинцбурга есть возможность заглянуть в «умственную лабораторию» хотя бы одного сельского жителя второй половины XVI в. Это мельник из Фриуля (итальянские восточные Альпы) Доменико Сканделла, по прозвищу Меноккьо. Папская инквизиция дважды арестовывала его по обвинению в ереси. В конце концов он окончил жизнь на костре, почти одновременно с Джордано Бруно (в конце 1600 или в начале 1601 г.). Сохранились протоколы допросов Меноккьо, во время которых он довольно свободно и откровенно изъяснял свои причудливые воззрения. Ибо у этого деревенского мыслителя существовали самобытные взгляды на мир, бога, Христа и церковь, в корне расходившиеся с ортодоксией, но трудно сопоставимые и с какой-либо известной ересью того времени.
Бог и ангелы, по его словам, зародились в первозданном хаосе, подобно тому как черви появляются в зреющем сыре. Христос – Сын божий в том же смысле, в каком и все люди – дети божьи. Он родился от брака Марии с Иосифом и не мог воскреснуть. Он – лишь святой праведник, пророк, в божественной же природе Меноккьо ему отказывает. В ад деревенский философ не верит, равно как и в бессмертие души и в богодухновенность Евангелия (все религиозные тексты, утверждал он, придуманы духовенством и монахами для их собственной выгоды). Он считает себя христианином и желает таковым оставаться, поскольку христианство – вера его предков, однако признает столь же справедливыми и религии других народов, турок или иудеев, ибо никому не ведомо, какая вера правильная. Религию он сводит к морали, к любви к ближнему.
Взгляды Меноккьо не образовывали какой-либо системы, – этот доморощенный философ, охотно вступавший в обсуждение своих идей с любым встречным, на все имел собственную точку зрения, сложившуюся у него в результате размышлений, пищу для которых отчасти дала ему разрозненная, немногочисленная и в высшей степени случайная литература, попадавшая в его руки. Что же он читал? Библию в переводе, «Цветочки Библии» (перевод средневековой каталонской хроники, включающей части Вульгаты, «Хроники» Исидора Севильского, апокрифические евангелия, «Светильник» Гонория Августодунского), собрание легенд о святых Якова Варагинского, «Путешествие» сэра Джона Мандевилля – повествование XIV в. о легендарных посещениях стран Востока, «Декамерон», может быть, Коран.
Дело, однако, не столько в том, какие книги оказались ему доступными, сколько в том, как Меноккьо их читал и что он из них вычитал. Исследователю удалось показать, сколь самостоятельным и, главное, избирательным было его чтение, – Меноккьо выделял из прочитанного то, что отвечало его потребностям и могло питать его собственные идеи. В частности, «Путешествие» Мандевилля, которое содержит фантастическое описание нравов и верований народов, якобы проживающих на островках близ Индии и Китая, давало пищу для рассуждений Сканделлы об относительности религий и возвещаемых ими истин.
Но в данной связи нас занимают не взгляды этого мельника-еретика сами по себе, сколь они ни интересны, – налицо уникальное, но оттого не менее ценное свидетельство, что чтение человеком из народа литературы, которая оказалась ему доступной, могло быть в высшей степени активным, преобразующим исходный материал в нечто совершенно своеобразное в соответствии с его картиной мира. Это своеобразие чтения книг Меноккьо К. Гинцбург называет «агрессивным». Как он замечает, «не книга как таковая, но столкновение печатной страницы с устной культурой порождало взрывчатую смесь в голове Меноккьо». Для него важным оказывался не сам читаемый текст, а тот экран, который он неосознанно ставил между собой и страницей книги, фильтр, выделявший отдельные слова и затемнявший другие, вычленение из контекста определенных выражений и оборотов, и этот экран постоянно возвращает нас, как пишет Гинцбург, к культуре, весьма отличающейся от той, какая нашла выражение на печатной странице, – к культуре, основанной на устной традиции. Контакт с книжным текстом порождает в уме Меноккьо некую идею, но ее источник – не ученая, а народная культура.
Реформация открыла перед этим доморощенным мыслителем возможность высказать свои идеи о церкви и мире; благодаря книгопечатанию он получил в свое распоряжение словесные средства для выражения темного, неартикулированного видения мира, которое в нем зарождалось. Тем самым Меноккьо как бы совершил «исторический скачок огромного значения», преодолев разрыв между «жестикулирующей, бормочущей, крикливой речью устной культуры» и культурой письменной, беззвучной и кристаллизующейся на странице книги. Употребляя в качестве строительного материала термины и обрывки мыслей, порожденных христианством, неоплатонизмом, схоластикой, он пытался выразить «инстинктивный материализм» поколений крестьян (123). Этот «деревенский материализм» – религиозный, но космогония Меноккьо, как и крестьянская религия, которую он по-своему выразил, религия, отрицающая божественное творение, воплощение бога и искупление, равно как и эффективность таинств, имели очень мало общего с религией, проповедуемой священником с церковной кафедры.
Пример Доменико Сканделлы, повторяю, единственный в своем роде. Заурядного грамотного крестьянина (а в XVIII в. их число возросло) чтение не превращало в философа. Зато можно утверждать: усвоение сведений, черпаемых из доступной крестьянам литературы, неизбежно приводило к созданию некого сплава, в котором фольклор сочетался с книжными знаниями. Отец Ретифа де ла Бретона, французского писателя последней трети XVIII в., автора «Жизни отца моего» (1778), выходца из крестьян Нижней Бургундии, первый человек в деревне, грамотный и с довольно широким кругозором, выступал по отношению к своим многочисленным домочадцам (жене, детям, работникам, служанкам, которые должны были слушать его в почтительном молчании) в роли главного источника информации, включая метеорологические сведения и местные новости, чтение молитв и Ветхого и Нового заветов (с явным уклоном в пользу первого, с его безжалостной патриархальной этикой); он же распевал перед ними на Рождество старинные песни, заимствованные из брошюр «Голубой библиотеки» (163, с. 375–376).
Нельзя недооценивать значение книги в жизни простолюдинов в XVI–XVIII вв., она открывала перед их умственным взором новые горизонты и способствовала частичной перестройке духовного универсума. Но из изложенного явствует, что чтение или слушание громкой читки едва ли выводили их за пределы религиозной картины мира. Пример с фриульским мельником, при всей его нетипичности, показателен именно в этом отношении: мысль Сканделлы сосредоточена на коренных вопросах своеобразно понятой им религии.