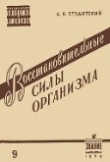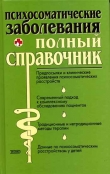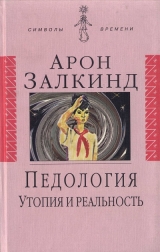
Текст книги "Педология: Утопия и реальность"
Автор книги: Арон Залкинд
Соавторы: Кирилл Фараджев,Александр Залужный
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 41 страниц)
Совершенно очевидно, что никакое согласование здесь невозможно, поэтому становится понятным тот факт, что на педологических съездах, которыми руководил Залкинд, в педологических его «исследованиях» школа и ребенок, взятый в учебно-воспитательном процессе, не находят для себя места.
Достаточно, например, напомнить то, что на первом педологическом съезде из ста десяти докладов только три касаются конкретных школьных вопросов, а на педологической секции съезда по изучению поведения человека (1930) из сорока девяти докладов, зачитанных на секции, не было ни одного, посвященного этим вопросам.
Но несомненно, что при тех исходных позициях, которые были у педологов, если бы здесь и были зачитаны доклады, посвященные школе, они ничего, кроме вреда, ей не принесли бы.
Было бы неправильно не отметить здесь того, что Залкинд пытался будто бы выступать против «фаталистического хвостизма».
«Мистическая, виталистическая позиция тех, кто благоговеет перед заложенной в организме „силой“, „отбирающей“ одни признаки и „отталкивающей“ другие, для нас совсем не обязательна», – писал он. «Внутренней закономерности, „не определяемой“ внешней средой (либо гибнет, либо подчиняет себе среду?!) для нас нет» [283]283
«Основные вопросы педологии», 1927, с 53.
[Закрыть].
В этот период своей деятельности Залкинд на словах даже как бы отрицал фаталистическую обусловленность судьбы детей биологическими факторами, влиянием наследственности. Как мы увидим ниже, на деле этого не было. Но зато он ставил развитие ребенка в полную зависимость от среды. Как же понимает он среду?
В более ранних своих работах среда у Залкинда выступает как совокупность раздражителей, падающих на организм ребенка. Он признает изменчивость среды. «Бешеный динамизм „новейшей“ социальной среды делает неустойчивыми последние (как и древние) наслоения, и новейшие, воспитуемые пласты оказываются при этом необычайно влиятельными в сравнении с ролью „новейшего“ в прочем живом мире». [284]284
«Основные вопросы педологии», 1927, с 53.
[Закрыть]
Из этой мало вразумительной фразы ясно одно, что здесь социальная среда отличается от среды в понимании биологов только лишь большей динамичностью. Дальше Залкинд яснее выражает эту мысль: «Влияниями через кору и общегигиеническими мероприятиями (т. е. через социальную среду) мы можем в короткий исторический период скверную наследственность обуздать и направить энергию организма по нужным для класса путям» [285]285
Там же, с.53.
[Закрыть]. Здесь речь идет об исторических периодах, которые нужны для «обуздания энергии организма». Действующим началом в этом процессе является среда и мероприятия, осуществляемые через эту среду.
Напрасно мы стали бы искать у Залкинда, да и у других представителей лженауки педологии указаний на то, какую же роль играют здесь планомерные учебно-воспитательные воздействия, какова роль школы, как при переходе к социалистическому обществу стихийные воздействия среды сменяются планомерными учебно-воспитательными воздействиями.
Среда и у тех педологов, которые много говорили о ее «бешеной динамике», качественнооставалась неизменной, выступая в роли того фатума, которые может «обуздать скверную наследственность» только на протяжении определенного исторического периода, но отнюдь не на протяжении дошкольного и школьного возраста. В чем же, по сути дела, отказ Залкинда от «биологизма»?
Из этого именно понимания среды и исходил Залкинд и другие педологи, предлагая сложнейшую и бессмысленнейшую методику изучения среды.
На первое место в этой «методике» ставилось изучение производственных элементов среды. «Вслед за этим основным сектором среды, – пишет Залкинд, – мы захватываем и последующие – политический, идеологический, затем культурно-бытовой, конкретизирующий, оживляющий материал и лишь в заключение санитарно-гигиенические ее моменты».
На этой последовательности Залкинд настаивает: «Мы требуем, – пишет он, – чтобы все элементы изучаемого были отражены в порядке действительной их значимости, о которой свидетельствует приведенная выше последовательность» [286]286
«Педология», № 2 (14), 1931, с 8.
[Закрыть].
Из этого именно требования и исходили составители тех многочисленных анкет для изучения среды, в которых были сотни вопросов, не имеющих никакого отношения к данному ребенку. Здесь не уделялось никакого внимания ребенку, взятому в педагогическом процессе, зато здесь давалось «теоретическое» обоснование тому «изучательскому» подходу к ребенку, которое на практике привело к стольким извращениям, здесь делались попытки обосновать и тот «целостный» подход, в котором, по существу, ребенок представлялся не как объект и субъект воспитания и обучения, а как взрослый, как работник и классовый боец. «Нас в первую очередь интересует во всем содержании личности, – пишет там же Залкинд, – действенно трудовое и боевое начало. Отсюда и мыслительный материал интересует нас как материал для действия и к действию».
И дальше: «Наиболее актуальным для нас сейчас является безусловно изучение сдвигов в поведении.Стержнем изучения качества практического интеллекта является классовая значимость поведения, а отсюда для нас представляют основной интерес, – во-первых, – рост психических механизмов и навыков, расширение общего и специального кругозора, развитие направленности интересов; во-вторых, изменения в главных социально-приспособительных механизмах (изменения в двигательных установках и умениях, в анализаторах и т. д.); в-третьих, – общие физиологические явления, …функциональные нервные симптомы, общие суммарные изменения в кровообращении, общие изменения в обмене веществ. Вот что должно войти в тематику педологического исследования ближайших нескольких лет максимальной конкретизации в сторону актуальных тем педагогики, т. е. в сторону политехнизации, всеобуча и политвоспитания».
Как видно из этой длинной цитаты, перед педологами ставятся обширнейшие задачи, – здесь все есть: и обмен веществ, и нервные симптомы, и рост психических механизмов, и развитие направленности, и расширение общего и специального кругозора, – нет только основного, – конкретных тем, касающихся учебно-воспитательного процесса и ребенка, взятого в этом процессе. Отсутствие именно этих тем еще раз показывает, что мы имеем здесь дело с лженаукой, не умеющей даже определить задач своих исследований.
Выполнение намечаемого здесь «плана» научной работы, – неизбежно, в силу ложности исходных позиций и характера самих намеченных вопросов, вело к «полному отрыву от педагога и школьных занятий». Выполнение этого «плана» неизбежно вело к «ложнонаучным экспериментам и проведению среди школьников и их родителей бесчисленного количества обследований в виде бессмысленных и вредных анкет, тестов и т. п., давно осужденных партией». (Из постановления ЦК ВКП(б) «О педагогических извращениях в системе наркомпросов» от 4/VI 1936 г.)
Как мы уже видели, в ранних своих работах Залкинд на первое место выдвигал для изучения ребенка чисто биологические методы. Позже он несколько перестраивается. В той же статье, которую мы только что цитировали, он, сохраняя все эти методы, только иначе их расставляет:
«Анатомо-морфологический метод, – пишет он здесь, – будет играть теперь в педологии служебную, вспомогательную роль». Физиологический метод он сохраняет тоже, для изучения, главным образом, нейрофизиологии и «тех физиологических моментов организма, которые непосредственно связаны с нейродинамикой».
«В психологическом комплексе методов, – пишет он, – мы используем приемы изучения, являющиеся сейчас наиболее актуальными». К ним он относит изучение деятельности сознания и «различных высших механизмов поведения», а также эмоциональной сферы и одаренности «в практических ее элементах».
«В социологическом методе, – пишет он дальше, – основное значение должно быть придано изучению направленности среды и коллектива и закономерностей в их перестройке».
Такие методы, как биографический, статистический, «метод анкетирования» и «тестирования» Залкинд считает вспомогательными.
Словом, здесь все есть, и все это весьма «наукообразно», нет только одного – систематического наблюдения живого ребенка в процессе обучения и воспитания.
V
ТЕСТЫ
К тестам Залкинд относился как будто критически, но он их отнюдь не отвергал.
«Бинэ и Симон, – писал он, – сравнивая ребят „трудовых низов“, „черной кости“ с наследниками обеспеченных семей, с „белой костью“, – приходят к выводу, что психобиологические свойства пролетарской детворы – основной тормоз для успешного прохождения ими средней школы. Как видим, педологическая внеклассовость совсем не внеклассовая» [287]287
«Вопросы советской педагогики», 1931, с. 17.
[Закрыть].
Здесь Залкинд как будто бы осуждает методику тестов.
Но здесь к самому Залкинду полностью применимо то, что он сказал о других педологах, договаривающихся «до боевых революционных выводов в одной какой-нибудь частичке вопросов, но сейчас же идущих на капитуляцию по всему прочему фронту в результате чего от их „революционизма“ остаются рожки да ножки» [288]288
Там же, с.188.
[Закрыть].
Нельзя было ограничиваться частичной критикой этой методики, которая органически связана с той буржуазной теорией, которая «ставит своей задачей в целях сохранения господства эксплуататорских классов доказать особую одаренность и особые права на существование эксплуататорских классов и „высших рас“ и, с другой стороны, – физическую и духовную обреченность трудящихся классов и „низших рас“». (Из постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г.)
Частичная критика этой теории, какой бы «революционной» фразеологией она ни сопровождалась, только запутывала вопрос, а не способствовала его решению.
В действительности же Залкинд тестов и не отрицал. Он только считал их, так же, как и «анкетирование», вторичными, частными методиками.
«От тестов мы не отказываемся, – пишет он, – но они должны оказаться для нас в педологическом, целевом плане глубинными раздражителями, и только те тесты, которые умеют зацепиться за доминанту, за основной фонд эмоции и интересов, дают нам динамический материал, который можно использовать… Равно и анкеты ценны, когда они задевают глубинные моменты психики, когда они близки к принципу интеллектуального и эмоционального подхода».
Здесь нельзя удержаться от того, чтобы не сказать хотя несколько слов по поводу языка Залкинда. Лженаучность всегда рядится в пеструю мишуру малопонятных, часто труднопроизносимых «новых» терминов и выражений. В этом отношении вряд ли кто может конкурировать с Залкиндом. Жреческо-шаманский язык Залкинда часто настолько непонятен, что вызывает раздражение. В самом деле, что нужно понимать под «глубинными моментами», «глубинными раздражителями», что должно обозначать «цепляние за доминанту»? Это, очевидно, известно было только самому автору этих «глубинных терминов».
Можно было бы составить целый словарь «изобретенных» Залкиндом слов, но мы приведем здесь для примера только несколько из его любимых терминов: «психогенез», «диалектизм», «эготирование, или обезличностнение», «надзирание», «социоцентризм» и т. д. и т. п. Мы уже говорим о «социагогике», автором которой он пытался стать и о ряде других особенно цветистых его выражений. Чего стоит, например, такое его выражение: «Коллективистическое тускнеет, когда слишком распухает любовь», – или: «Надо отнять у полового все то, что волей класса обманщика оно укралоу человеческого творчества» [289]289
«Очерки культурной революции времени», с. 54–55.
[Закрыть].
Давно известно, что истинная наука умеет говорить понятным языком, что ей нет надобности прибегать в словесной маскировке. Мы знаем, как просто умел изложить Ленин самые глубокие мысли, как просто и до предельности ясно выражает свое мысли тов. Сталин, как писали все классики марксизма.
И намека на это не найдем у Залкинда.
Но вернемся к содержанию приведенной выше цитаты, касающейся тестов.
В отношении к тестам представители лженауки педологии по существу не расходились. Одни (Блонский и ряд психологов и психотехников) безоговорочно их принимали, а другие, к которым принадлежали Залкинд и автор настоящих строк, принимали этот метод с оговорками, отчего на практике дело не менялось, так как тесты, которые составляли и распространяли принимавшие этот метод с оговорками было не менее вредными. Да и эти оговорки была не принципиальными. «Метод этот, – писал я о тестах, предназначенных для изучения „социального поведения“ детей, страдает, конечно, многими дефектами, но благодаря своей простоте этот метод все же может дать для изучения социальных реакций детей очень много, особенно если наряду с ним будут разрабатываться и другие методы» [290]290
«Детский коллектив и методы его изучения», 1931, с. 64.
[Закрыть].
Из этого видно, что принципиальной порочности этого нового метода я тогда не видел, что давая даже частичную критику этого метода, мы вели ее тогда с неправильных позиций. Это особенно ясно из следующей цитаты:
«Таких методов, которые давали бы возможность окончательноустановить уровень данной личности, в настоящее время не имеется. Наилучшие тесты не могут заменить научного наблюдения и эксперимента. Именно эти методы должны быть положены в основу изучения поведения личности и коллектива. Но это совсем не означает, что мы совершенно должны отбросить методику тестов. Эта методика, если поставить ее на настоящее место, если поставить перед ней задачу измерения реальных функций, а не голых абстракций, – может дать очень много, особенно для педагогики» [291]291
«Детский коллектив и методы его изучения», 1931, с. 64.
[Закрыть].
Как видно из этого, я полностью принимал тесты и только требовал «хороших» тестов, не сознавая того, что хороших тестов не может быть, так как эта методика ложна по своему существу.
В основе признания тестов как научной объективной методики лежит признание того, что существует какой-то определенный уровень «одаренности» и что этот уровень можно вскрыть этой методикой, которая считается методикой объективной. «Методика тестирования в высших своих достижениях, – писал я, – целиком отказывается от субъективно психологического подхода к человеку и склоняется к тому, чтобы совершенно объективно учесть реакции человека на те или иные раздражители, которые в данном случае и называются тестами» [292]292
Там же.
[Закрыть]. Как видно из этого, я наравне с Залкиндом и со всем социобиологическим направлением полностью признавал этот метод. Оттого, что мы считали так называемое IQ (ику) не стабильным, зависящим от среды, дело по существу не менялось, так как мы ведь тоже признавали предсказанную силу тестов, и тем самым мы принимали ту методику, по которой педологами-практиками велся отбор в «специальные» школы. Это тем более непростительно, что о Термене, в редакции которого применялись у нас тесты Бинэ, я писал, что он принадлежит к реакционнейшему направлению американской психологии, к направлению, которое считает, что IQ остается постоянным из протяжении всей жизни человека. Именно Термен потратил наибольше усилий для того, чтобы попытаться доказать, что дети рабочих и колониальных народов имеют от природы низкий интеллект. Он объяснял это теорией отбора, тем, что более способные от природы в силу своих способностей переходят в класс буржуазии, буржуазной интеллигенции и т. д., а неспособные остаются рабочими и родят таких же неспособных детей.
Против этой реакционнейшей теории выступает в Америке даже ряд буржуазных ученых (Фримен и др.), а у нас, благодаря лженауке педологии, тесты Бинэ – Термена были приняты без критики и нашли широкое применение. На основании их «все большее и большее количество детей зачислялось в категорию умственно отсталых, дефективных и „трудных“».
Вред, приносимый этой методикой, не ограничивался тем, что некоторые дети неправильно зачислялись в умственно отсталые. От тестов страдали и дети, которые не попадали в эту категорию, так как в целом ряде так называемых «эллективных» и избирательных тестов на выбор давалось несколько ответов, среди которых только один был правильный. Не говоря о том, что среди этих неправильных ответов нередко были ответы явно контрреволюционные, как и в методе коллизий, все эти неверные ответы были глубоко антипедагогичны, они засоряли память ребенка неверными данными, извращали его представления. Не лучше обстояло дело и с анкетами, в которых количество вопросов иногда достигало многих сотен. Среди этих вопросов были и такие, которые вызывали справедливое негодование родителей.
Частичную критику этих методик некоторые авторы пытались давать и раньше. Были некоторые попытки и к самокритике. Так, например, Залкинд в своей самокритической статье писал: «У нас не было бдительности на два фронта в борьбе с антиколлективистами. Не лучше и в области методов изучения, напустили к себе „союзничков“, которые рады подрезать материалистические корни нашей атаки: перейти к „чистой“ психологии с полным отказом от анатомо-физиологических материалов или взамен халтурно-поверхностных, но все же честных доз-тестов, предлагаются расплывчатые „глубинные“ схемы, где классовое „не заостряется“, но обезглавливается, где социальное и биологическое танцуют на одной плоскости, подчиняясь „одинаковым“ закономерностям».
Как видно из этой цитаты, Залкинд берет здесь под свою защиту «честные тесты», которым угрожает опасность со стороны «глубинных» схем. Принципиальной глубокой критики тех методов, которыми пользовались педологи, а также и психологи и психотехники, к сожалению, еще не дано. Совершенно очевидно, что эта критика должна быть обращена в первую очередь на те теории развития человеческой личности, из которых и выросли эти методики. Было бы непоследовательно, исходя из той «теории» стихийности, которую педологи разделяли, исходя из того «объективизма», который мы заимствовали у бихевиористов и рефлексологов, «отрицать» тестовую методику. Основные критические удары должны быть направлены на эти буржуазные теории, тогда станет ясным и вся лженаучность этой и других методик, которые нашли у нас такое широкое распространение.
В чем же основная суть этих теорий развития человеческой личности?
На этот вопрос нам не трудно будет ответить, если мы хотя бы вкратце проследим историю буржуазной «антропосоциологии» и «биометрии», из которых исторически и выросли те реакционные теории, которые лежат в основе «тестологии».
Еще в «трудах» таких «антропосоциологов», как Гобино, Лапуж, Чемберлен, Гальтон, Дюринг и др., мы находим попытки обоснования неравноценности человеческих рас, а вместе с тем и неравноценности человеческих личностей, принадлежащих к различным национальностям. В этих «научных трудах» буржуазные ученые прилагают все усилия к тому, чтобы «научно» обосновать необходимость империалистических захватов и колониальной политике, с одной стороны, и эксплуатации рабочих масс своей страны – с другой. Но уже к концу прошлого столетия примитивный описательный метод указанных авторов оказался слишком элементарным и сошел со сцены, к тому же эти теории подвергались резкой критике со стороны более либеральных буржуазных ученых. Поэтому на Западе, и прежде всего в Англии, в стране с наибольшим колониальным населением, создаются новые «научные школы». Первое место среди них нужно отвести школе Пирсона, который оказал на зарождение тестовых обследований наибольшее влияние. Пирсон, уничтожающую критику философии которого дал Ленин, наиболее последовательно развивал ту теорию, что все разнообразие особей любого вида животных или растений легко уложить в вариационный ряд и в кривую распределения, которая имеет математические закономерности. Статистический метод исследования, разработанный на биологическом материале, был без всяких изменений перенесен на человека и поставлен на службу обоснования расовых и других теорий, «ставящих своей задачей, в целях сохранения господства эксплуататорских классов, доказать особую одаренность и особые права на существование эксплуататорских классов и „высших“ рас, с одной стороны, и, с другой стороны, физическую и духовную обреченность трудящихся классов и „низших“ рас».
Теория Пирсона исходит из того, что в человеческом обществе происходит отбор наиболее одаренных и что «наверху» оказываются наиболее одаренные, «внизу» – наименее одаренные. Но Пирсон сам не занимался психологией, – он интересовался главным образом статистическими исследованиями, «биометрией».
В начале 900-х годов в Англии Спирмен, Бэрт и др., в Америке Торндайк, Вудворт, несколько позже во Франции Бинэ и Симон, в Германии Штерн и другие, а потом бесчисленное множество всяких тестологов начали изобретать всевозможного рода тесты и «измерять» психические способности, главным образом интеллект, почти всегда пытаясь доказать, что дети «высших» классов дают лучшие результаты, что негры, ирландцы и другие народности, живущие в Америке, стоят ниже американцев, что среди рабочих больший процент умственно отсталых, чем среди детей буржуазии и т. д.
Здесь не место останавливаться на тех дискуссиях, которые ведутся уже на протяжении десятков лет между школами Торндайка и Спирмена, между сторонниками врожденности интеллектуальных способностей и сторонниками большего значения в деле развития интеллекта социальной среды и т. д. Отметим только, что наши педологи считали последних чуть ли не марксистами, тогда как в основе взглядов на человеческую личность всех этих школ и направлений в том или ином виде лежит одна и та же теория неравноценности человеческих личностей, неравноценности человеческих рас и народностей, неравноценности людей, принадлежащих к различным классам.
Мы видим, таким образом, что тестовая методика была создана и продолжает служить для обоснования неравноценности человеческих личностей и человеческих рас. «Объективизм» этой методики покоится на отношении к человеческой личности как к объекту эксплуатации, объекту использования. Всякого рода изменения интеллекта ставятся здесь на службу капиталистической эксплуатации, ничего не давая самой подвергающейся обследованию личности, которая в буржуазном обществе является только орудием в руках господствующих классов.
Марксо-ленинское учение, из которого вытекает и сталинская забота о человеке и о многочисленных народах, входящих на основе полного равноправия в Союз Советских Социалистических Республик, основана на совершенно ином отношении к человеческой личности. В социалистическом обществе человеческая личность выступает как субъект, имеющий право на образование, на труд, на заботу со стороны социалистического государства и общественных организаций. Сталинская Конституция полностью отражает эту величайшую заботу о человеческой личности. Такой же огромной заботой окружается и наше подрастающее поколение. В то время, как в буржуазном обществе на первое место ставится «измерение» с целью наиболее выгодного использования данной личности в интересах эксплуатации, в нашем социалистическом обществе на первое место ставится забота о том, как бы наиболее полно развить способности ребенка, как бы наибольше обогатить каждую человеческую личность знаниями и навыками, без которых нельзя стать коммунистом.
Совершенно ясно, что тестовая методика для этого абсолютно непригодна, что кроме вреда, она ничего принести не могла, так же, как ясно и то, что лженаука педология здесь полностью отстаивала позиции буржуазных ученых.