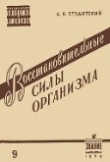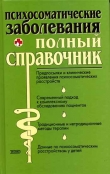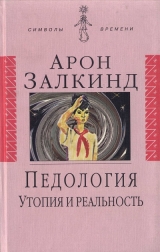
Текст книги "Педология: Утопия и реальность"
Автор книги: Арон Залкинд
Соавторы: Кирилл Фараджев,Александр Залужный
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 41 страниц)
Предосторожность: все эти меры (дача, туристика, путешествие, охота) должны проводиться в обстановке упорядоченного режима (расписание дня!), при обязательном своевременном отдыхе, без излишних испытаний, лишений и пр., иначе – снова перегрузка.
Профсоюзы и другие общественные организации, особо сильно связанные с умственным трудом, должны всерьез озаботиться о скорейшем построении технических условий, облегчающих их работникам именно такой тип отпускных отдыхов: сколько средств из страхкасс, сколько санаторных коек, сколько инвалидных столетий, сколько творческих ценностей будет сбережено при подобном подходе.
Хорошо организованный отдых «природно-двигательного типа» надо сочетать с несложными, не утомляющими художественными впечатлениями, с легкой культурно-просветительной работой (не вести ее самому, а быть ее «объектом»).
Как хорошо было бы, если бы в местах обширного скопления отдыхающих мозговиков проводилась планомерная гигиенически-рационализаторская пропаганда– не «вообще», а в применении к условиям умственного труда! Борьба за культуру, за здоровье при таком подходе действительно вступила бы на твердую почву. Из отпуска работник извлек бы не только восстановленную работоспособность, но и уменье отстаиватьее впредь!
Несколько слов о шахматахкак типе мозгового отдыха. В этом вопросе нет единодушия. Шахматная «игра», хотя и называется игрой, требует большого мозгового напряжения – иногда большего, чем обычный, даже серьезный, умственный труд. Процесс шахматной игры – не разгрузка, а нагрузка мозга: правда, иным типом груза – в сравнении с текущей работой, – но с утомляющим эффектом того же типа, при тех же симптомах утомления.
Шахматы можно рассматривать, пожалуй, как «отдых-переключение» (перевод напряжения из одного участка в другой), но с тем отличием, что данное переключение не имеет непосредственного делового значения: перевод из ответственно работающегоучастка на ответственно«играющий» участок.
Для некоторых умственных работников этот процесс имеет, пожалуй, значение «переходного отдыха»: если они перенапряжены длительной работой повседневного, технического, узко-делового, житейски-конкретного характера, они за шахматной доской получают возможность смягчить свое общее напряжение уходом в отвлеченные процессы шахматной «стратегии».
Во всяком случае, существует риск – шахматный отдых может нередко похитить часть действительного отдыха и часть действительного творчества: не случайность, что умственные работники, всегда «отдыхающие» на шахматах, дают более ленивую добавочнуютворческую продукцию – их хватает лишь на повседневное мозговое напряжение. Шахматная доска поглощает все ту же единую энергию из рабочего источника.
Конечно, если шахматы конкурируют с пивной – шахматы неизмеримо лучше. Но в борьбе с коньками и прогулкой рабочий мозг должен от шахмат отказаться. Шахматы можно еще, пожалуй, рассматривать как интенсивную интеллектуальную гимнастику-тренировку,но и как все тренировки мозговика – этот новый тип должен быть вводим лишь в умеренных дозах, без предшествующего и последующего утомления.
Вино, табак.Вопрос о них, конечно, надоел читателю: слишком часто об этом говорят. Однако в работе об умственном труде нельзя игнорировать вопросы наркомании,тем более что в специальном применении к умственной работе вопросы эти ставятся реже всего.
Влияние табака: возбуждение нервной системы, спазм кровеносных сосудов, засорение крови никотинным ядом, засорение легочных ходов никотинными пробками. К табаку привыкают, и он делается нужным в усиливающихсядозах, при уменьшающейсяспособности организма нейтрализовать его ядовитое влияние (бесполезность самозащиты организма, так как курение продолжается). Таково общее значение табака для организма.
Специально для умственного труда: вместо естественного нажима на подсознание, на предшествующий опыт, вместо естественного процесса сосредоточения (процессы психологического порядка) – приковывание внимания к ощущениям, связанным с куреньем, – искусственноефизиологическое возбуждение мозга, перебрасывающееся затем на нужную задачу.
Результат привычного курения: часть внимания, отвлеченного на «чувственное наслаждение», изымается тем самым из творческого процесса, часть творческой динамики, присущей самому мозгу, заменяется искусственной динамикой, – не используется,т. е. отцветает, теряет свои дальнейшие силовые возможности; вместе с тем, работающий орган непосредственно отравляется.
Получается с работающим мозгом то же, что с половой жизнью при онанизме (да простят нас курильщики за термин – «никотинный онанизм»): естественные возбудители ослабляют свое влияние, активная половая способность тускнеет, – половое влечение окружается особым выдуманным содержанием («воображение мастурбанта»).
Конечно, незачем трагически запугивать: как табак, так и онанизм, одни, сами по себе, не дают разложения личности. Их вред – относительный, частичный, но все же достаточно явственный, чтобы крепко учесть его при рационализации умственной работы.
Если курят – значит не хватаетестественных возбудителей мозгового процесса: выход тогда, конечно, не в табаке, а в отысканииэтих утерянных здоровых возбудителей (методы работы, быт, нагрузка?). Если выход не найден (после энергичных поисков!),тогда, конечно, лучше табак, чем деловой паралич!
Зачастую курение действует не как наркотик, но как условный раздражитель: «запах напоминает», «запах» толкает, сосанье трубки «организует» и пр. В таких случаях оторваться от табака особенно легко: надо, чтобы «вкус» работы «напоминал», «толкал» сильнее «запаха» и «сосанья»: усилить нажим на работу при одновременном отказе от этих нелепых «сигнализаций»!
Конечный вывод: массовое распространение куренья среди мозговиков указывает на глубокие изъяны в их рабоче-бытовых установкахи углубляет эти изъяны. Кстати: т. Ленин категорически запрещал куренье на заседаниях с его участием, – жаль, что этот пример не превратился в закон.
Вино.О нем надо сказать либо очень мало, либо очень много: сейчас нам доступно, конечно, первое. Поэтому выдвинем лишь тезисы.
Эмоции ответственного мозгового труда ведут к раннему склерозу, – вино ускоряет темп склероза. Утомление работающего мозга вызывает иррадиацию (распыление возбуждения, «рассредоточение»), – вино углубляет эту иррадиацию. Эмоции, лежащие вне данного рабочего мозгового процесса, отягощают, дезорганизуют работу, – вино вызывает именно эти эмоции.
Умственный труд требует хорошего развития тормозного аппарата (закалка, тренировка сюда же!), – вино разрушает в первую очередь тормозной аппарат. Умственный труд требует гибких, комбинированных процессов (богатого ассоциирования), – вино уплощает, притупляет ассоциативную работу. Мозговая работ ослабляет общефизиологические процессы, – вино душит их, и т. д., и т. д.
Два слова о «маленьком алкоголизме», о «рюмочках – но не бутылках»: эмоциональная напряженность мозгового труда (понижение сопротивляемости, ослабление тормозов – «воли»!) очень легко переводит рюмочки в бутылки, и кроме того, «маленькие дозы» алкоголя в малой степени имеют те же элементы вредности, что и большие дозы. Одна лишь особенность. Утомленный мозг дает гораздо более сильную (т. е. более вредную) биохимическую реакцию на алкоголь – как в крупных, так и в ее «слабых» дозах: «рюмочки» же принимаются обычно «для поднятия тонуса», в состояниях особо сильного утомления.
Итак: мы не за святошество, не за аскетизм – мы за революционную экономию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Два главных фронта борьбы в области умственного труда.
А. Борьба за общую целеустремленность умственного работника.
Основной принцип, господствующий во всех отраслях умственной деятельности, – это принцип доминанты.В принцип доминанты вложено все: наибольший интерес, наилучшее сосредоточение, величайшая глубина, широчайший охват, максимальная гибкость, – одним словом, все то, что дает наилучшую рабочую продукцию мозга.
Доминанта в исчерпывающей ее расшифровке – это целеустремленность. Тот процесс оказывается доминантным, который связан с наиболее ярким и сильным целеустремлением.
Но мозг представляет собою некое единство,в которое вливаются все отдельные, частные его рабочие процессы, поэтому отдельные доминантные установки всегда органически вырастают из основного, руководящего целеустремления. Если это общее целеустремление выражено слабо, – нет твердости и в частных, отдельных целеустановках – в рабочих процессах мозга. Борьба за умственную продукцию – это в основном борьба за общее целеустремление работника.
Лишь тесная, непрерывная взаимозависимость мировоззрения, общежизненных целей и текущихмыслительных процессов обеспечит последним действительно ценную продукцию.
В мышлении главное – это внимание,доминанта – блестяще организованное внимание. Именно поэтому мыслительная деятельность не терпитидейного раздвоения, этически-волевых шатаний, разрывов между идеалом и стремлениями практики: в таких раздроблениях личности – раздробление работающего мозгового аппарата, – постоянные удары по сосредоточению, по основному источнику для построения доминант.
Могучая общая целеустремленность – наилучшее противоядие для вторгающихся в мозг «отвлекающих» факторов.
В условиях развивающегося социализма единственной животворящей целеустремленностью может быть лишь целеустремленность социалистическая.Социалистическое, т. е. марксистско-ленинское, миросозерцание выявляет собою в условиях СССР единственную целеустремленность, богато, ярко, актуально связанную со всемжизненным окружением, со всеми областями нарастающейновой жизни.
В освещении такой целеустремленности нет в человеческом поведении частностей, оторванных от целого. Каждая деталь нашего мышления, нашей работы освещается общим светом целого,приобретая для себя двигательную силу из этого целого. Нейтрального, неценного, «не доминантного» не бывает при такой установке: на фоне общего все ярко, горячо, ценно (или ненавистно– что тоже полезно для создания доминанты).
В каждом малом рабочем процессе – часть общего процесса: борьба за социализм.Это единство рабочих процессов, рабочих доминант, вливающихся в центральную, социалистическую доминанту,является совершенно исключительным биологическим фактором, обеспечивающим не виданную еще в истории массовую мозговую продукцию.
Им обеспечивается максимально приподнятый, бодрый тонус всех физиологических процессов, – он гарантирует чрезвычайную быстроту, точность, гибкость всех психофизиологических актов, так как в нем все частные доминанты имеют уже оформленное общее направление:нет распыления возбуждения по разобщенным путям, – возбуждение легко «собирается», концентрируется вокруг основной обобщающей установки,вокруг главной доминанты: идет либо от нее, либо к ней.
В таком положении вещей – залог колоссальной экономии сил и времени: минимум бесполезных трений, ненужных отвлечений, ясный целевой уклон, – все это гораздо меньше утомляет, давая одновременно неизмеримо более высокую продукцию.
В условиях СССР, где растущий социализм – основа и стержень всех творческих процессов, нелепо думать о максимальной мозговой продукции – вне социалистической целеустремленности, вне социалистической доминанты. Все, что мы говорим в нашей работе о рационализации мозговой деятельности, в социалистической доминанте находит свое логическое и техническое завершение.
Первоочередная задача на фронте борьбы за мозговую рационализацию – это борьба за социалистическую целеустремленность работников ума.
Б. Второй, не менее важный фронт борьбы за мозговую рационализацию – это борьба за скорейшее обеспечение объективных условий, необходимых для упорядоченного умственного труда.
Представим себе рационализатора, который при 12–14 часах суточной нагрузки все же ухитряется наладить часовой отдых днем, обед в определенное время, и т. д. и вдруг – экстренный вызов по телефону, срочное заседание, неожиданный посетитель, – дополнительная, срочная нагрузка: режим сорвался. Часть этих «неожиданностей» – за счет темпа революционной работы, но подавляющая их часть– за счет неосмотрительности, легкомыслия, организационного неуменья; основной же источник – неосведомленность о законах умственной работы.
Ведь знаем же мы у нас общественные организации, уменьшившие число заседаний вдвое, число внезапных нагрузок – втрое при улучшенной общей продукции. Очевидно, есть возможность реформировать этот вандальский подход к мозгу.
Надо установить максимальный стандарт нагрузки для работников разной квалификации; надо твердо фиксировать время, в течение которого нельзя врываться к работнику ни с заседаниями, ни с приемами, ни с иной «экстрой».
Почему бы не устроить в середине дня всесоюзныйполуторачасовой перерыв для всех умственных работников – по примеру обеденной паузы на производстве? Почему бы не ограничить время заседания определенным максимумом: это дело культуры председателя и самовоспитания участников! Назначить предельное время для вечерних заседаний и выступлений и т. д., и т. д.
До тех пор, пока эти вопросы будут прорабатываться лишь в книгах и статьях и проводиться в жизнь десятками, даже сотнями «героев», – ничего особо ценного из этого не получится.
Необходимо вмешательство партии, профсоюзов, правительства в вопрос о стандартизации главных этапов мозговой работы. Иначе на фронте боев за культурную революцию мы обезоружим основную армию культуры – обезоружим головной мозг.
Литературная справка: другие материалы по рационализации различных видов социального поведения напечатаны в след, основных работах автора: 1) «Основные вопросы педологии» («Р. Пр.», II изд.); 2) «Вопросы советской педагогики». (Гиз, II изд.); 3) «Организм и внушение» (Гиз); 4) «Половое воспитание» («Р. Пр.», II изд.); 5) «Коммунистическая целеустремленность» (печатается, М. обл. Гиз – «Моск. Рабочий»).
А. С. ЗАЛУЖНЫЙ
ЛЖЕНАУКА ПЕДОЛОГИЯ В «ТРУДАХ» ЗАЛКИНДА
Раскритиковать в печати все вышедшие до сих пор теоретические книги теперешних педологов.
Постановление ЦК ВКП(6) от 4-го июля 1936 года
Прежде чем перейти к разбору работ Залкинда, я должен оговориться, что критика многих положений Залкинда является для меня в то же время и самокритикой, так как многие положения Залкинда я вместе с многими другими бывшими педологами так называемого социобиологического или социо-генетического направления не только разделял, но и пропагандировал. В некоторых местах мне придется обращаться и к критике собственных ошибок и извращений, но поскольку в центре внимания в этой брошюре будет Залкинд, я и не буду иметь возможности вскрыть все свои ошибки и извращения. О них речь будет идти в другом месте [254]254
Выпуская брошюру Залужного «Лженаука педология в учении Залкинда», редакция считает совершенно недостаточной оговорку т. Залужного относительно того, что «критика многих положений Залкинда является для меня в то же время и самокритикой». Залужный, принесший много вреда советской школе пропагандой педологической лженауки, должен дать развернутую критику своих собственных ошибок.
[Закрыть].
I
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Залкинд был одним из наиболее ревностных пропагандистов лженауки педологии.
Созданию этой лженауки и внедрению ее в нашу практику он посвятил около полутора десятка лет своей жизни. За это время он написал ряд книг, брошюр, десятки статей, прочитал на различных научных конференциях и съездах много докладов.
Подвергнуть критическому анализу все эти работы в одной небольшой брошюре нет возможности, поэтому мы заранее ограничиваем свою задачу критическим разбором только наиболее основных его работ, тех работ, в которых педологические извращения выступают наиболее рельефно.
Для понимания основной линии этих извращений Залкинда необходимо напомнить, что он не только по своему образованию, но и по своим основным интересам на протяжении всей своей жизни продолжал оставаться врачом-невропатологом. Даже в последние годы своей жизни, в то время, когда он делал попытки подойти к научной разработке таких конкретных вопросов педагогики, как вопрос о построении урока, по существу, он оставался далеким от жизни нашей школы и от педагогической практики.
Являясь учеником, а во многом и последователем академика Бехтерева, он заимствовал у Бехтерева как раз наиболее слабую, наиболее порочную сторону его метода работы, – склонность к широчайшим, необоснованным, обобщениям, – выразившимся у Бехтерева в его «коллективной» и «индивидуальной» рефлексологии. В этих своих попытках «создать» особую науку о детях Залкинд был весьма далек от действительной науки. Ведь действительная научная теория должна давать практикам «силу ориентировки, ясность перспективы, уверенность в работе, веру в победу нашего дела» [255]255
Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10-е, с. 300.
[Закрыть]. Всякие же не опирающиеся на действительные факты ложнотеоретические построения неизбежно ведут, как это особенно ярко видно на примере лженауки педологии, к противоположным результатам, они дезориентируют практических работников, вносят путаницу в работу, мешают продвижению на высшую ступень.
«Практика выше (теоретического) познания, – пишет Ленин, – ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» [256]256
Ленин, Философские тетради, 1936, с. 204.
[Закрыть].
Залкинд же совершенно не задумывался над практикой, и его измышления, всегда абстрактно-схематические, оторванные от жизни, являются вопиющим противоречием марксизму.
Правда, наша революционная действительность не один раз вынуждала Залкинда пересматривать свои позиции, но как мы увидим, этот пересмотр далеко не приводил к положительным результатам.
II
ФРЕЙДИЗМ И РЕФЛЕКСОЛОГИЗМ
«Учение» А. Б. Залкинда о задачах науки о ребенке и о принципах построения лженауки педологии надо рассматривать в динамике. За долгие годы его деятельности в этой области взгляды его до известной степени менялись, не раз они подвергались критике. Не один раз приходилось Залкинду выступать и с самокритикой. Однако, как мы увидим, основной стержень его ошибочных взглядов на ребенка оставался нетронутым, тогда как именно здесь лежал корень лженаучности той «дисциплины», которую мы, бывшие педологи, с усердием, достойным лучшего применения, пытались построить и внедрить в практику.
Наиболее ранним увлечением Залкинда является фрейдизм. «Нет сомнения, – пишет он, – и я объективно способствовал популяризации фрейдизма в СССР в 1923–1925 гг., а по инерции и позже» [257]257
Журнал «Педология», № 3 (15), 1931.
[Закрыть]. И действительно, обращаясь к его книге «Очерки культуры революционного времени», мы находим там такие утверждения: «Блестящий материал, данный нам Фрейдом по ранней детской сексуальности, расшифрованный как следует, в конце концов оказывается фактически сложнейшим социальным наслоением на детской психофизиологии,вернее, сплошной социальной прослойкой детской психофизиологии, проникающей во все закоулки биологических функций ребенка» [258]258
«Очерки культуры революционного времени», 1924, с. 40.
[Закрыть].
Как видно из этого, – поскольку можно вышелушить мысль из этой заумно-кудреватой фразы – Залкинд выводит «социальную прослойку» из сексуальности, считая эту прослойку, как и Фрейд, продуктом «сублимации сексуальных влечений».
Нет необходимости подробно останавливаться на критике этой реакционной теории, тем более, что и сам Залкинд ее позже критиковал, но здесь необходимо отметить, что корни этой «теории» у Залкинда не были полностью выкорчеваны и до конца его жизни. Это легко видеть из его позже вышедшей книжки «Жизни организма и внушение» и даже из его еще более поздних самокритических, как он полагал, выступлений.
«Сублимация, – пишет он, – для меня была гибкой, из среды идущей переброской биологической заряженностив творческие участки, для Фрейда же – это насыщение социального половым материалом (т. е., как раз наоборот» [259]259
Журнал «Педология», № 3 (15), 1931.
[Закрыть]).
Уже здесь Залкинд закладывает основы того «учения» об организме и о среде, которое представители так называемого социобиологического направления считали одним из наиболее революционных своих достижений, но которое фактически сводилось к учению о «фаталистической обусловленности судьбы детей биологическими и социальными факторами».
В самом деле, согласно этой теории «биологическая зараженность» направляется в творческие участки воздействиями среды. Эти стихийные воздействия среды являются сублимирующей силой. Но такой же силой они являются и у Фрейда. Ведь и Фрейд считал, что запрет, социальные требования приводят к сублимации. Залкинд отказывается от зачисления себя в последовательные фрейдисты, он считает, что только «эмпирика частных механизмов фрейдовских теорий» привлекала его, вся же «философия» Фрейда им отбрасывалась, как будто бы эту «эмпирику» можно было отделить от самой «философии» Фрейда.
Как видно, влияние среды, по Залкинду, как и по Фрейду, осуществлялось не через психику, не через сознание, а непосредственно через «глубинные» функции организма.
Всю критику своего фрейдистского прошлого, всю критику фрейдизма Залкинд ведет с рефлексологических позиций. Человеческая личность для него всегда остается только организмом, т. е. биологическим существом.
«В самом деле, – пишет он в работе, в которой пытается критиковать фрейдизм, – если все те факты, которые лишь искажаются субъективистскими кривотолками, перевести без искажений их смысла на язык рефлексов, мы получим вполне приемлемый материал. Ведь живой организм во всем своем бытии проявляет некую активность».
«Рост новых рефлексов, отмирание или торможение старых, это и есть одно из проявлений его биологической активности. В своей рефлекторной активности, в системе своего рефлекторного поведения организм накопляет то полезные, то вредные для его существования сочетания, причем полезность или вредность обуславливаются сочетанием раздражителей во внешней среде и соотношением их с предыдущим фондом организма». «Организм при этом, конечно, не обнаруживает никакой мудрости, он впитывает в себя новые накопления вовсе не в силу их полезности, а в силу их влиятельности» [260]260
«Жизнь организма и „внушение“», Гос. изд., 1927, с. 60.
[Закрыть]. Не будем забывать, что здесь речь идет только о человеке. «Оговариваемся, – предупреждает нас в этой работе Залкинд, – что мы всюду высказываемся лишь о человеке, так как параллели с другими животными завели бы нас слишком далеко». Сознанию человека, как видно уже из этой цитаты, Залкинд не отводит никакого места. Его заменяет «влиятельность» среды. «Мое сознание есть мое отношение к моей среде», – говорит Маркс, устанавливая тем самым активность в отношениях человеческой личности к среде. «Никакой мудрости, никакого сознания в своих отношениях к среде организм не обнаруживает, он только подвергается влияниям», – говорит в полном противоречии с марксизмом Залкинд, – устанавливая тем самым пассивность организма или, что то же, человеческой личности в ее отношениях к среде. Именно из такого понимания «жизни организма» вытекал и тот «объективизм» в изучении ребенка, о котором нам придется говорить дальше.
Как видно из приведенного, Залкинд не только не раскритиковал фрейдизм и не освободился от него, но впал в ряд грубейших ошибок рефлексологического порядка, которые владели им до конца; эти ошибки и лежали в корне его педологического лжеучения.
«Та же недостаточная философская осведомленность, – пишет Залкинд позже, – сыграла скверную и вредную роль в моем „сверхрефлексологизме“ 1922–1924 гг…
Ни павловцы, ни Бехтерев, никогда не считали меня своим „прямым“ адептом. Самая антипсихологическая моя позиция, как знает читатель, насыщена элементами „рефлексологического“ самодвижения (т. е. антитезой рефлексологии), целеустремленностью, „отбором“ и прочими атрибутами, резко непримиримыми с механическим толкованием учения о рефлексах» [261]261
Журнал «Педология», № 3 (15), 1931, с. 12.
[Закрыть].
В чем же выражалось это «рефлексологическое самодвижение»? Для того чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить приведенные цитаты с тем, что Залкинд писал раньше.
«Жизнь, активность организма представляют собой систему непрерывных движений, „рефлексов“, которыми организм строит свое „поведение“ в борьбе за существование, – писал Залкинд в 1924 г. – Усложненная общественность требует от всех органов человека глубоко специализированных (они-то и есть социальные) рефлексов, каковыми так называемые сложные психические акты и являются» [262]262
«Очерки культуры революционного времени».
[Закрыть].
Из сравнения этой цитаты с цитатами из книги «Жизнь организма и внушение», написанной пятью годами позже, легко видеть, что никакого «самодвижения» здесь нет, что учение Залкинда о жизни организма остается одним и тем же. А на этом учении «о жизни организма» строятся Залкиндом и лженаучные педологические построения.
Никакой самокритики, никакого раскрытия ошибок не было у Залкинда. На деле – это вуалирование под флагом самокритики лженаучных измышлений, на которых Залкинд строил педологию, протаскивая в практику советской школы вреднейшие взгляды.
«При современном состоянии науки о ребенке (педология) педагог не может не быть биологом», – пишет он. «Этим педагог недалеко ушел от медика, и все сказанное о втором адресуется также первому». «„Чувства“, „воображение“, „ассоциации“, „внимание“, „память“ и прочие „психизмы“, над чем будто бы „совершенно специально“, в отличии от „физициста“-медика, работает педагог, сводятся к обычным двигательным проявлениям организма и рассматривать содержание этих понятий возможно лишь с точки зрения всего организма в целом» [263]263
«Очерки культуры революционного времени», с. 31.
[Закрыть].
Мы подчеркнули последние слова для того, чтобы читатель их более запомнил, так как именно на этом базировалось то «учение» о целостном подходе к изучению ребенка, которое лженаука педология, особенно так называемое социобиологическое ее направление, считало центральным своим положением. Но продолжим цитаты, чтобы до конца уяснить себе концепцию Залкинда того времени. «Хотя, – как пишет он, – сфера педагога, главным образом, условные рефлексы, а в современном жестко дифференцированном обществе – это, главным образом, рефлексы социальные», – все же и «педагог будто бы работающий над „психикой“, и врач, работающий над „физикой“ ничем фактически не отличаются друг от друга».Да и как же им отличаться друг от друга, если, по Залкинду, «сущность воспитания заключается в способах у организма живого и длительного стремления к изменению своей рефлекторной установки», «а задача лечения – в отыскании общественно-целесообразного русла для этой энергии, социальной ее сублимации» [264]264
Там же, с. 32, 28.
[Закрыть].
Если бы эти рассуждения – помесь фрейлизма с рефлексологией – остались только случайными высказываниями, их скорее можно было бы приводить в качестве курьезов, чем для критики, но, к сожалению, они нашли свое выражение и в практике. Залкинд и ряд врачей и педологов проявили кипучую деятельность по проведению этого «учения» в жизнь.
Результатом этого явилось то, что у нас начали создаваться противоестественные профессии. Такой была профессия врача-педолога, который, называясь врачом, никогда врачебной практикой не занимался, так как никакой подготовки к этому не имел. Такой была профессия педолога-педагога, который пытался играть руководящую роль в педагогическом процессе, не зная этого процесса.
Между таким врачом и педологом-педагогом действительно разницы не было, как этого и требовал Залкинд, но сходство заключалось в том, что и тот и другой одинаково были не подготовлены к тому, чем им нужно было заниматься.
Мы не можем здесь останавливаться на критике всех положений, выдвинутых Залкиндом в цитируемой работе, приведем только еще одну цитату, которая поможет нам понять, откуда взят тот универсализм, на который всегда претендовала лженаука педология.
«„Все виды“ духовной деятельности (искусство, наука, журналистика) являются или косвенной разновидностью той же социагогики и подчиняются одинаковым с нею биологическим законам. Поэтому все соображения о сущности и задачах социагогики в равной мере относятся и к ним». В «социагогику» педология не включается, сюда входят педагогика и психотерапия, педология же, как мы увидим, не претендуя на все виды духовной деятельности, тем не менее, является наукой не менее универсальной, наукой, которая стремится поглотить и педагогику.
Таким образом, уже здесь, в период увлечения фрейдизмом и «рефлексологизмом», оформляется то основное направление, которое с такой активностью не только Залкинд, а и многие из нас, бывших педологов, защищали до самого последнего времени. Так Залкиндом закладывались антимарксистские основы педологической лженауки.
Чтобы полностью оценить весь тот вред, который принесли эти лженаучные концепции, достаточно упомянуть о том, что «рефлексологизм» в педологии не был изжит до самого последнего времени даже в таких областях, как учение о детском коллективе. В ошибках и извращениях в изучении детских коллективов особенно повинен автор настоящих строк.
«Основным объектом изучения живых существ будет изучение их реакций, или изучение их поведения, которое составляется из простых рефлексов, безусловных или условных, из сложных цепных рефлексов, будь это унаследованные рефлексы или условные, выработанные рефлексы, или так называемые целесообразно-приспособленные „сознательные акты поведения“», – писал я в 1928 г. в своей книжке «Учение о коллективе». Я не только повторял здесь ряд ошибок-извращений, сделанных Залкиндом, но делал целый ряд новых. Биологизаторско-механическая трактовка не только простейших, но и наиболее сложных форм деятельности ребенка и детских коллективов, стремление свести все формы этой деятельности к «реакциям», к ответам на эндогенные и экзогенные раздражители привела меня к целому ряду грубейших извращений, о которых подробнее я говорю в других своих статьях.