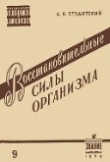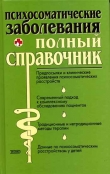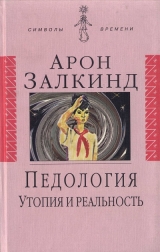
Текст книги "Педология: Утопия и реальность"
Автор книги: Арон Залкинд
Соавторы: Кирилл Фараджев,Александр Залужный
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 41 страниц)
Первым долгом для нас совершенно неприемлема «антипсихологическая» установка отдельных рефлексологов, – в том числе и покойного Бехтерева. Сводить всю личность человека, включая сюда и психику, исключительно к голой неврофизиологии, не выделяя при этом особого, специфически активного психического начала, – это значит грубо механизировать наши представления о диалектической сложности социального человека.
Антипсихологизм отдельных рефлексологов для нас также неприемлем как «антирефлексологизм» отдельных психологов, иногда к тому же еще пытающихся подменить физиологическое (диалектически-биологическое) понятие о рефлексе механистической формулой… физико-химической «реакции». Уж если признавать особое качество за психикой, надо быть диалектически последовательным и признать также особое качество за жизненным процессом: это же, в свою очередь, не потерпит в применении к живому организмуподмены «реакцией» ликвидированного «рефлекса». Диалектика жестока!
Так же, как и «антипсихологизм», для нас совершенно неприемлемы и «социологические» тенденции отдельных рефлексологических групп, включая сюда и Павлова, и Бехтерева. Попытки их – рефлексологическими (т. е. биологическими) методами расшифровывать общественные явления – потерпели уже абсолютное фиаско, полностью разрушены марксистской критикой, и возвращаться снова к борьбе с этими попытками, к счастью, теперь нет никакой нужды.
Так же чужда нам и «панэнергетическая» установка вождя одной из рефлексологических школ – покойного Бехтерева. Тяга сводить все процессы в мироздании, т. е. и в обществе, к замкнутому, механическому кругообороту энергии, толкает к попыткам уничтожить как марксистские законы исторического процесса, так и диалектический подход к явлениям в природе.
В одинаковой степени неприемлема для нас и телеология в понимании Павловым так называемого «рефлекса цели», «изнутри» данное стремление к цели, – попахивающая «творческим порывом» А. Бергсона.
Отказываемся мы также и от механистических, «адекватных» попыток переноса выводов из рефлексологического зооэксперимента – на человека и его поведение. Неприемлема для нас и «педагогическая энциклопедия» рефлексологов, которая тяготеет на все 100 % исчерпаться исключительно рефлексологическим материалом, так же как и сходная их тяга – всю педологию заменить одной лишь рефлексологией.
Все это для нас неприемлемо, это противоречит диалектическому материализму, но вместе с тем, отказываясь от «империализмов» и «перегибов» в отдельных течениях рефлексологов (и даже во всей их школе), – мы, однако, вполне вправе чрезвычайно высоко ценить то действительно важное, диалектическое, что дает нам это учение в области глубокого динамического толкования процессов изменчивости;,то, о чем мы говорили выше.
V. Учение о «психоневрозах» и педология
Клиника помогает лаборатории. Если лаборатория открывает нам богатые пластические возможности даже у кортикально несложных животных, клиника преподносит нам колоссальный материал в области физиопластики человека.История клинической медицины знает немало блестящих глав, где патология помогала вскрывать ценнейшие данные для общей психофизиологии.
Одной из наиболее поразительных в этом смысле глав медицины является сейчас клиническое учение о так называемых психоневрозах [69]69
Психоневроз – это расстройство функций тела, обусловленное изменением иннервации органов, возникшим на «психической» почве. Я в 1919 г. предложил заменить это громоздкое понятие более четким: «психогеноз» (психогенная болезнь). См. в «Научной медицине», 1919 г., ст. «Современная психотерапия».
[Закрыть], накопившее неисчерпаемый материал об условных рефлексах человека.То, чего не может добиться лаборатория экспериментально, проделала над человеком жизнь.
Учение о психоневрозах с неопровержимой убедительностью показывает нам, как велики возможности кортикальных влияний на всю психофизиологию человека, на все его биологические функции, вплоть до самых интимных и древних.
Учение о психоневрозах возникло непосредственно из гипнологии. В течение столетий научную мысль изумлял «чудесный» физиологический эффект внушения. Когда с гипнологических работ были сорваны элементы шарлатании и мистики, выяснилось, что исцеляющим и вообще движущим фактором гипногенных биологических изменений является человеческое «самовнушение».
В процессе внушения у объекта последнего создается особая кортикально-физиологическая целеустремленность, создающая очаг оптимального возбуждения в нужном сейчас участке и направляющая все наличные энергетические запасы тела по пути внушаемого требования. Этой гипногенной доминантойи объясняется сложнейший физиологический эффект внушения, создававший глубокие метаморфозы в самых разнообразных биологических областях.
Если кортикальное возбуждение в виде «эмоции» вызывает в обычной жизни ряд расстройств функций (страх – понос, сердцебиение, пот, отнимаются ноги и пр.; отвращение – рвоту, тоску, головную боль и т. д. и т. д.), – вполне естественно, что и гипнозом можно вызывать избирательные возбуждения в тех или иных кортикальных участках, а отсюда и в физиологической периферии. Механизм гипноза, таким образом, был сведен к переключениям энергетических запасов тела по гипногенным доминантным участкам.
Подобное толкование внушения целиком на пользу оптимистического подхода к биопластике, так как с безупречной экспериментальной точностью подтверждает возможность глубочайшего воспитательного внедрения в самые интимные закоулки тела. Весь богатейший экспериментальный и терапевтический материал мировой гипнологии оказывается, тем самым, главой о роли коры в физиологии.
Последние десятилетия глубина лечебного эффекта внушения подвергалась сомнению, хотя действительная правдоподобность непосредственных гипногенных биоэффектов уже не возбуждала больше сомнений у ученых. Колебания адресовались лишь лечебной прочности гипногенного эффекта, и в результате этого научного кризиса из недр гипнологии, на базе тех же кортикально обусловленных воздействий, развернулось грандиозное учение о «психоневрозах» и психотерапии.
Если гипноз давал экспериментальный и относительный лечебный эффект путем кортикальных (условно-рефлекторных) пересочетаний телесных функций, очевидно, самое заболевание тоже было своеобразным комплексом извращенных условных рефлексов.
Условные рефлексы создают здоровье лишь тогда, если болезнь тоже представляла собою серию условных рефлексов, не более, – таков в переводе на рефлексологический язык основной тезис отца психотерапии проф. Дюбуа:«Внушением устраняются болезни, созданные самовнушением».
Подозревая в гипнотическом влиянии недостаточно прочный элемент, полагая, что кора затрагивается внушением очень поверхностно, кратковременно, Дюбуа, а за ним и другие психотерапевты (Дежерин, Розенбах и т. д.) построили целую клиническую дисциплину, в которой этот кортикальногенный («психогенный») момент был блестяще выявлен на огромном количестве заболеваний всех функций тела и где кортикальная, условно-рефлекторная терапия расшифровывалась самым серьезным образом, в разнообразных направлениях.
Эти ученые доказали, что в плане условно-рефлекторных извращений могут глубоко пострадать все до единого процессы и органы. Дежерин в своей монографии о «психневрозах» шаг за шагом проследил, как все без исключения функциональные области интимно и тяжело дезорганизуются кортикальным (психогенным) моментом: дыхание, кровообращение, пищеварение, движение, речь, сон, умственная работа и т. д. и т. д. [70]70
Обо всем этом подробно см. в нашей книге «Организм и внушение».
[Закрыть]
Психотерапевты показали, как шаг за шагом следует извращающие условно-рефлекторные сочетания заменять лечебно-перевоспитательными, открыв совершенно новую, притом с каждым годом все более разрастающуюся главу в человеческой терапевтической медицине: главу о лечебных влияниях через мозговую кору.
В учении о «психоневрозах» имеется сейчас много течений: суггестисты [71]71
Suggestion – внушение.
[Закрыть], интеллектуалисты (Дюбуа), эмоционалисты (Дежерин), «этикисты» (Марциновский), психоаналитики, адлеристы, социотерапевты, рефлексотерапевты и другие. Но независимо от разницы в методах подхода их к организму и в системе лечебных влияний, все они объединяются на признании колоссальной как патогенной, так и лечебно-воспитательной роли человеческой мозговой коры.
Тот факт, что учение о психогенозах проникло во все области человеческой медицины, что ни один медицинский специалист, в какой бы дали от коры он ни работал (гинекологи, хирурги, «желудочники», «сердечники» и др.), не смеет сейчас закрывать глаза на огромную привходящую роль «психики» (коры) в его специальности, достаточно красноречиво говорит о необычайно «кортикальной опороченности» современного человека.
Если очень далекий от психотерапии мировой медик, огромный практик Штрюмпельнаходит, что «психизм» (кора, условные рефлексы – по-нашему) виноват в добрых 75 % современных человеческих заболеваний, – это звучит убедительно. Если все лучшие учебники по болезням сердца, сосудов, легких, пищеварения не могут сейчас обойтись без особой серьезной главы о психогенных аномалиях, это знамение времени.
Действительно, условные рефлексы, кора играют колоссальную роль во всей физиологии человека, как в здоровом ее содержании, так и в патологии, и роль эта растет тем быстрее, влияние ее становится тем более глубоким, чем динамичнее делается социальная среда человечества.
Биологическим атавизмам, биологической отрыжке древности, как видим, не место в условиях этой горячей кортикальной динамики. Кора подавляет их с первых дней детского бытия. Во всяком случае, не древний биологический опыт человека окажется препятствием к совпадению биотемпа с социотемпом, – таков основной вывод, который дает нам рефлексологический и «психотерапевтический» материал.
Однако не сигнализирует ли учение о психогенозах опасность гибели человека в современной социальности? Если кора дезорганизует, извращает все процессы тела, отражая на себе давление чудовищной, ни с чем не считающейся социальной динамики, где же гарантия здоровья, тем более, что и древний опыт не бронирует ни в малейшей степени?
К счастью, впадать в панику не приходится. Темп изменения социальной среды (темп развертывания пролетарской революции) позаботится о том, чтобы частичная биологическая деградация, обусловленная усложняющим кортикальным вмешательством в телесные функции человека, не углубилась. Революция ведь не спросит санкции у биогенетистов, и чем скорее она добьется своего, тем меньше опасности для биодекаданса человечества [72]72
Мы бы охотно назвали нашу платформу платформой социально-биологического оптимизма. Пусть умирающая буржуазия идет за Шпенглером, нам пессимизм не нужен.
[Закрыть].
Вместе с тем, однако, растущая кортикальная обусловленность человеческой физиологии в конечном итоге окажется огромной важности прогенеративнымфактором. Независимость от древности, подвижность новых биологических связей, расширяющиеся рамки биопластичности, – все это окажется незаменимой ценности орудием в руках максимально-пластичной коммунистической социальности. Коре по дороге с социализмом, и социализму по пути с корой.
Любопытно, что то же учение о психогенозах при правильной рефлексологической его расшифровке даже в элементах патологии начинает приоткрывать зародыш развивающегося прогенеративного ядра. Своеобразно-сильная целеустремленность «психоневротика», доминантная окраска основных его процессов, блестящие (по-своему) стратегические его вылазки в болезнь, поразительная гибкость и быстрота сцеплений самых отдаленных друг от друга комплексных участков его, избирательно богатая фиксирующая способность, – все это характеризует далеко не обычную болезнь, все это говорит о своеобразном творческом ядре, скрытом внутри этой болезни, о богатом энергетическом запасе, нелепо использованном, нерационально переключенном [73]73
Не следует смешивать эту точку зрения с позицией Ломброзо и его последователей. Для них источник творчества в психозе, т. е. в эндогеннойдезорганизации тела. Мы же говорим здесь о наличности творческого ядра у экзогенно дезорганизованных. Кроме того, мы вовсе не считаем «психоневрозы» обязательными для творчества.
[Закрыть].
Среда эксплуатации извратила направление этого прогенеративного энергетического фонда, социалистической среде предстоит освободить последний из плена и творчески канализировать.
Необходимо отметить, что учение о «психогенозах» («психоневрозах»), т. е. об условно-рефлекторных извращениях функций, глубоко проникло и в наиболее тяжелую главу человеческой патологии – психиатрию.
Одна из самых блестящих страниц современной мировой психиатрии, написанная в области шизофрении проф. Блейлером, дает описание глубоких, сложных, подавляющих, психогенныхпластов, внедряющихся в это, по существу, органическое заболевание. Французские психиатры, а у нас Бехтерев, Ганнушкин, Осипов и др., дают яркое описание истерических (т. е. в подавляющей части психогенных) «обрастаний», которыми изобилуют такие эндогенныепсихозы и неврозы, как циклотимия и эпилепсия.
Один из крупнейших современных психиатрических авторитетов, проф. Бумке, пытается установить подход к шизофрении (одному из тяжелейших психозов) как к экзогенному реактивному психозу, и вообще считает подавляющую часть органических психозов хронической формой экзогенныхреактивных состояний.
Проф. Ганнушкин выделяет особую форму нажитой, неизлечимой психической инвалидности, вырастающей исключительно в результате психогенных травм и чрезмерной психогенной перегрузки (эмоциональной и пр.).
Все эти психиатрические материалы отнюдь не способствуют пессимизму, а наоборот, резко, четко выявляют огромную роль воспитания и среды для происхождения, т. е. и для предупрежденияпутем влияния на кору ряда наиболее тяжелых заболеваний. Роль человеческой коры поистине грандиозна во всех функциях тела, направление же и качества ее (коры) влияний всецело зависят от того содержания, которое получит в дальнейшем от истории социальная средачеловечества.
Рядом с богатейшим клиническим(«психоневротическим») материалом об общефизиологической роли коры накопляется об этом же не менее убедительный экспериментально-лабораторный материал.
Лаборатория может вызвать у человека «экспериментальный психоневроз» и в самых глубоких физиологических функциях находит отражение этого мощного влияния коры.
Экспериментальные эмоции вызывают изменения кровяного давления, изменение в соотношении кровяных шариков, серьезные изменения в солевом составе крови и в других телесных соках, аномалии – количественные и качественные – в моче, извращения дыхания, кровообращения, пищеварения и т. д. (опыты Осипова, Данилевского, наши и др.).
Кортикальные потрясения (злоба, страх) изменяют деятельность желез внутренней секреции (надпочечника, половой, щитовидной железы и т. д.), могут вызвать и тяжелые деструктивные изменения во всем организме (знаменитые опыты Фере, которые с помощью серии эмоций в короткое время так резко ослабляли общую жизнеспособность вполне здоровых кроликов, что те погибали от пустяковой инфекции).
Если учесть, что этот экспериментальный материал в значительной его части приобретен опытами над животными, т. е. над организмами с небогатой корой, каковы же должны быть их результаты в отношении к современному человеку, кора которого обладает неизмеримо большей общефизиологической влиятельностью. Если лаборатория не осмеливается экспериментально довести эмоциямичеловека до смерти от пустяковой инфекции, это хорошо за нее делает жизнь, что мы и видели выше во всем приведенном нами клиническомматериале.
Запомним лишь главное. Все то патологическое, что можно через кору вызвать в организме, оказывается патологическим лишь в результате отвратительного сочетания или отвратительного сочетания раздражителей окружающей среды.
Эта же мощная общефизиологическая влиятельность коры может превратиться и в оздоравливающее, глубоко творческое начало, если внешние раздражители по-иному будут сочетаться, получат иной для себя материал.
В социалистической, т. е. прогенеративной среде, мозговая кора человечества окажется одним из решающих факторов общефизиологической прогенерации.
Как видим, учению о «психогенозах» и социально-биологическому оптимизму вполне по пути. Учение о «психогенозах» льет воду целиком на мельницу обоснования биодинамизма, биопластичности человека.
VI. Возрастная эволюция ребенка
Если основная дискуссия заостряется вокруг проблемы о биопластичности человека, очевидно, вопрос о темпе смены возрастов,о темпе возрастной эволюции развивающегося человека окажется в этой дискуссии самым боевым.
В самом деле, если рамки возрастных приобретений грубо и бедно ограничены, нашему воспитательному темпу несдобровать.
Ведь мы знаем, что решающая пластичность содержится в детском периодечеловеческого созревания, и неосуществленное за этот период окажется тем более неосуществимым позже. Поэтому действительные границы возрастных возможностей, действительные возрастные пределы для наших воспитательных воздействийпрактически решат всю участь спора. Темп наших социалистически -педагогическихдостижений может быть тот или иной, в зависимости от возможностей наших шире и богаче выявить возрастные потенции. Итак, особый спор о так называемых возрастных стандартах.
Существуют ли эти стандарты? Можем ли мы утверждать, что тот или иной возрастной сектор, определенный отрезок времени детского развития характеризуется предельным содержанием, дальше которого раздвигать рамки педагогических достижений нельзя? До ответа на этот вопрос уясним, как должны бы вырабатываться стандарты.
Биологический стандарт представляет собой массовую середину, характеризующую тот или иной биологический признак, основные предпосылки развития которого всегда одинаковы.Без последнего условия перед нами никак не стандарт. Поэтому не может существовать одинаковый стандарт для того или иного детского признака в Нью-Йорке и в нашей захолустной деревне. В том же Нью-Йорке стандарты должны резко варьировать в зависимости от того, в каком «районе» города, в каком социальном слое обретается обследуемая массовая детвора.
Причины вариации – разные условия детского развития, т. е. и развития стандартизуемого признака. Если дети сытых родителей, имевших на протяжении ряда поколений сытых предков, начинают, положим, в среднем ходить в 12 месяцев и говорить в 15 месяцев, – дети наследственно голодавших рабочих окажутся в своей массе значительно запоздавшими. Дети сытых родителей, живущие в шумных и душных городах, начнут ходить и заговорят в иное время в сравнении с сытыми детьми тихих местностей и т. д.
Основное качество детских стандартов – динамичность их, необычайно легкая их изменчивость. Грудные дети голодающих английских горняков дали и дадут иные стандарты развития в сравнении с детьми прочих пролетарских слоев Англии. Дети рабочих дооктябрьской России, первых послеоктябрьских лет и дети советской современности развиваются и стандартизируются по-разному.
В одной и той же рабочей среде одного и того же советского города дети дадут разные стандарты – в зависимости от того, провели ли они свои первые годы в благоустроенных яслях и детском саду, или же оставались дома на руках у 8–10-летних нянек-сестренок. Яслевые дети одной и той же социальной среды дадут разные стандарты, в зависимости от того, голый ли гигиенический уклон проводился в яслях, или же ясли оказались передовыми, внесли в детскую жизнь также и серьезное педагогическое содержание и т. д. и т. д.
Динамика стандартов очевидна; обусловленность стандартных вариаций непосредственными с первых дней жизни влияниями окружающей среды – не возбуждает сомнений.
Какой же стандартный материал преподносит нам мировая педология? В какой мере способен он связать нам педагогические руки? Кроме общих, расплывчатых фиксаций, дающих возможность тому или иному грубому признаку варьировать на протяжении очень большого срока, мировая «стандартология» педагогике ничего не дала.
Нет указаний на соотношенияроста различных функций, на хотя бы относительную, взаимно обусловленную очередность в их развитии. Отмечены лишь начала ходьбы, речи и т. д., но без уяснений тонкой динамики даже этих, казалось бы, таких простых процессов. Вот и все то «ценное», «веховое», чем обогащают нас мировые стандарты. Ясно, что ни ценностей, ни воспитательных вех в этих указаниях не содержится.
Можно ли в таком случае считать, что руки наши вполне развязаны? Вправе ли мы неограниченно вталкивать в детские организмы все, что нам заблагорассудится? Конечно, нет; границы имеются, надо лишь их найти. Где же они?
Ряд психофизиологов, работающих в области человеческого детства, пытаются фиксировать основные детские свойства, прикрепив их к «жесткому» объективному признаку. Имеются попытки прикрепить детскую эволюцию «к зубам». Периоды детства характеризуются типом зубов, и смена детских качеств соответствует стадиям смены зубов. Детство беззубое, детство молочных зубов, детство постоянных зубов, – вот основные этапы детского развития, характеризующееся соответствующими им общими и специальными психофизиологическими свойствами.
Если бы эта «стадийная» гипотеза была правдоподобна, нам действительно угрожала бы опасность жесткого педагогического ограничения. Однако опираясь на биогенетический методанализа человеческой психофизиологии, она рушится, как и питающий ее источник. В этой гипотезе наблюдается та же сверхоценка качеств, коренящихся в древности.
Логика «зубных» доказательств следующая: питание – основной жизненный процесс, зубы – основной орган, характеризующий смену типов питании, а посему, очевидно, по зубам равняются и прочие элементы организма, база бытия которого – питание.
Зубные стандартизаторы, конечно, как и вожди их – ультра-биогенетисты,не учли малого, не учли новойроли коры в психофизиологии детства, не учли они и другого малого, а именно – современных изменений в процессах питания, изменений, обусловленных грубыми перестройками социальной среды.
Социально-производственная и творческая приспособленность современного горожанина характеризуется отнюдь не развитием жевательного аппарата, и этапы развития навыков современного приспособления вовсе не связываются с этапами развития зубов. Сами зубы постепенно теряют свое специально-пищеварительное значение, так как культурное человечество неуклонно размягчает свою пищу, и современные люди настойчиво разучиваются жевать.
В современной городской школе дети с наилучшими зубами – это далеко не наилучшие дети, и дети с постоянными зубами далеко не всегда в области корковых функций идут впереди молочнозубых детей. Зубные стадии развертываются быстро у первобытных народов, мозговая же кора развивается у них совсем не быстро; у детей же мощных индустриальных центров – обратное явление.
Зачастую корковый элемент, быстро развивающееся кортикальное, т. е. наиболее творчески ценное содержимое ребенка, является тормозом для развития зубов, и с этим обстоятельством педагогически нельзя не считаться. Если нечего радоваться «зубной отсталости» у кортикально передовых детей, тем более нет оснований тянуть кору вспять во имя зубных стадий. Корреляция, увязка, должна совершаться в какой-то иной «не зубной» плоскости [74]74
Это не значит, конечно, что эволюция типа зубов должна игнорироваться при анализе возрастной эволюции. Это лишь значит, что она становится постепенно, в порядке исторической перспективы, все менее значительнымфактором, генетически все больше связанным с прошлым, чем с будущим. Ироническое пророчество – «зубной признак уступит свое место другому лишь тогда, когда человечество станет беззубым», – выполняется буквально. Зубы как фактор приспособления исторически отмирают, уступая место коре и новейшим эндокринным приобретениям.
[Закрыть].
«Зубные стадии» являются отрыжкой все тех же биогенетических стадий, зубная гипотеза, как и биогенетизм, смотрит назад, а не вперед, и поэтому отстает от тех элементов в биологической эволюции человека, которые действительно являются прогенеративными. В частности, кортикальное «обрастание» физиологических процессов развивается по путям и связям, все менее и менее зависящим от зубных стадий. Педагогические ограничения «зубной платформы» опасны, реакционны. Основных мотивов для возрастных ограничений придется, очевидно, искать в ином признаке.
Другая, тоже из крупнейших, современная стадийная гипотеза пытается найти рамки возрастов в туловищно-конечностых соотношениях, в так называемых антропометрических стандартах.
Полагая, что наш костно-мышечный аппарат отразил в себе эволюцию человечества, гипотеза эта в стадиях костно-мышечного развития пытается найти основные признаки возрастных этапов.
Здесь повторяется та же ошибка, что и с зубным признаком. Как зубы, так и костно-мышечный аппарат, конечно, эволюционируют в процессе развития ребенка, и этого достоинства за ними никто не отрицает. Конечно, в разные возрасты соотношения костно-мышечных областей (как и тип зубов) оказываются различными, этого тоже никто не отрицает. Однако, оказывается либо та, либо иная костно-мышечная стандартная норма обязывающей к соответствующим основным социально-приспособляющим качествам, в этом позволительно более чем усомниться.
Рецидив «зубной» ошибки. Связи закономерностей кортикального развития со стадиями костно-мышечной эволюции не установлены, да если и будут когда-либо установлены, то во всяком случае не в направлении господства тех признаков, которые характеризовали костно-мышечный аппарат человека в прошлом.
Кортикальный момент, питаемый новыми стимулами приспособления к новой среде, вносит совершенно иное содержание в осанку человека, в манеру его ходьбы, в систему пользования конечностями и туловищем, вносит новые иннервации, т. е. и новое питание в костно-мышечную область, меняет связи мышечных групп, формы мышц и костяка, поэтому никак не в рецидивах умирающего прошлого приходится искать опознавательных вех для грядущей эволюциичеловека.
Мышечная сила, количество жира, объем грудной клетки, соотношения длины рук, ног, туловища, – всех этих признаков, как они физиологически ни важны, совершенно недостаточно для уяснения основных путей социально-творческого развития ребенка.
Неудивительно, если слишком часто талантливейшие дети оказываются в антропометрически-отставшей группе – наравне с полуидиотами. Виноваты, конечно, не дети, а дефективные стандарты [75]75
Снова «разъяснение». Макростатические признаки не должны идти впереди симптомокомплексов современной массовой возрастной эволюции детства, но это вовсе не значит, что они должны игнорироваться. Они должны внимательно учитываться нарядус другими возрастными симптомокомплексами, но под обязательным контролем техбиологических элементов, которые генетически устремлены в будущее.
[Закрыть]. В частности, кортикально бедная, но сытая деревня имеет детские антропометрические стандарты более высокие, чем голодающая, но кортикально более богатая детвора города.
Очевидно, приходится искать действительно руководящих возрастных границ в признаках, имеющих не реставрационное, а прегенеративное значение.Только тогда не будем мы связаны в нашем педагогическом размахе реакционными путями эксплуататорского прошлого, только тогда темп и широта нашей воспитательной работы развернутся в пределах действительных(а не суженных реакционными рамками)возможностей данного детского возраста.
Этапы действительной возрастной эволюции надо делить по более гибкому, более изменяемому признаку, по признаку, на который можно особенно активно и непосредственно действовать воспитанием, непрерывно контролируя объективный и субъективный эффект последнего.
Мало того: таким признаком должен оказаться комплекс биологических явлений, характеризующих сейчас наиболее крупные, решающие, приспособляющие процессы организма.Этим мы избежим опасностей предыдущих гипотез, когда в качестве главных признаков были взяты отнюдь не первоочередные приспособления, и кроме того, сами признаки отличались относительной статичностью, тугоподвижностью, лежали вне поля непрерывно контролируемого воспитательного на них влияния.
Точно так же совершенно обязателен прогенеративный характер этого признака,чтобы этапы детской эволюции смотрели не в прошлое, а в будущее.
Таким прогенеративным, динамичным и социально-биологически первоочередным признаком является степень развития центральной нервной системы.
Центральная нервная система является основным фактором, продуцирующим из стимулов социальной среды будущеевсего организма: молодость, гибкость наиболее ответственных областей ее делают ее педагогически более пластичной, непосредственно изменяемой; в то же время она является основным аппаратом приспособлениясовременного человека к среде, – аппаратом, фиксирующим и направляющим главные навыки борьбы человека за жизнь.
Рефлексологические понятия чрезвычайно облегчают расшифровку основных этапов развития этого признака: рост ребенка характеризуется уменьшением явлений возбуждения и увеличением торможений, уменьшением иррадиации и развитием состояний концентрации. По росту способности к торможению и концентрации можно судить о прогрессивном развитии всей детской психофизиологии в целом и частях.
Навыки ходьбы, речи, навыки обращения с предметами и людьми, навыки мышления, навыки игры, – одним словом, все главные навыки жизненного приспособления детей в основном характеризуются определенной степенью развития именно этих, центрально-неврологических признаков. Избыток возбуждения, иррадиации – это значит, что ребенок плохо ходит, мало говорит, хаотичен в коллективе и игре, рассеян в ориентировках и т. д. Улучшение навыков ходьбы, речи и пр. в качестве основной предпосылки требует увеличения способности к торможениям, концентрации.
Как видим, этот признак в определенной степени его развития действительно характеризует степень роста основных приспособляющих процессов ребенка– в этом огромное его преимущество перед «зубно-антропометрическими» признаками.
Второе колоссальное его преимущество – возможность непосредственного воспитательного на него влияния. Возможность воспитания условных рефлексов опытами генетической рефлексологии и наблюдениями передовых работников яслевой педологии доказана для самых ранних периодов детства. Рост же фонда условных рефлексов – это неуклонное уменьшение иррадиации, развитие концентрации.
Об изменениях этих свойств можно судить по росту воспитываемых навыков (условных рефлексов); навыки же эти стимулируются и направляются воспитательными влияниями. Таким образом, наш признак, помимо стержневого своего значения для всех детских навыков, оказывается в то же время необычайно удобным для воспитательного его урегулирования.
Конечно, при этом мы должны зорко следить, чтобы не создавать перегрузки, но наш признак тем и ценен, что он сам сигнализирует тревогу: взамен желательной воспитателю концентрации он при перегрузке дает грубую иррадиацию, которая и приостановит избыточную педагогическую настойчивость.
Особо ценно в нашем признаке и то, что он целиком базируется на росте исторически прогенеративных свойств организма. Степень концентрации и пр. прямо соответствует степени развития коры, этого основного биопрогрессивногоаппарата, и таким образом, в определении возрастных границ мы руководимся не связью со стареющими биологическими функциями, наоборот, – исходим из роста новых качеств, качеств новой эпохи развития человечества.
Первое же использование нашего признака немедленно дает ценнейшие результаты, позволяющие чрезвычайно оптимистически относиться к динамическим возможностям возрастной эволюции.
Неудивительно, что существующие возрастные стандарты Запада (и поспевающих за Западом отдельных советских педологов) оказываются столь куцыми, столь тугоподвижными. Рабочий рынок давал вполне достаточно дешевого товара, и заботиться о массовом улучшении квалификации этого «товара» было совсем не на руку классовому хозяину Запада.
Педагогике Запада, поскольку ей не было дано хозяйского заказа на воспитательное ускорение темпамассового творческого развития, был по меньшей мере безразличен этот темп [76]76
Некоторые из наших критиков опасаются, что наши указания об ускорении темпа превратятся в искусственное ускорение, в чрезмерный «наскок» на ребенка. Как видел и как увидит читатель, это – поклеп. Речь идет о выявлении скрытых, заторможенных, дезорганизованных в старом строе детских возможностей, закупоркакоторых была действительно искусственным замедлением темпа развития. Мы освобождаем здоровый темп, искусственно задержанный вредной средой, а никак не создаем искусственного ускорения темпа.
[Закрыть]. Педагогическая среда Запада выявляла лишь такие влияния, которые соответствовали общим социальным начинаниям буржуазного государства, и рост условных рефлексов, быстрота и качества этого роста, темп замены иррадиации концентрацией полностью соответствовали тем ожиданиям, которые адресовались массовой семье и школе буржуазией.