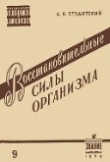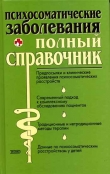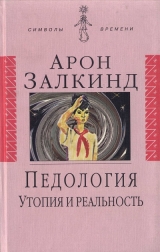
Текст книги "Педология: Утопия и реальность"
Автор книги: Арон Залкинд
Соавторы: Кирилл Фараджев,Александр Залужный
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 41 страниц)
XII. Естествознание и смежные дисциплины с точки зрения полового воспитания в переходном возрасте
Вот, казалось бы, учебные области, как будто ничего общего не имеющие с романтикой переходного возраста, с его воображением, героизмом и пр. Но так казалось бы лишь поверхностному наблюдателю. Лучшие педагоги-методисты естествознания подтвердят, что дети-натуралисты – счастливейшие, вполне романтически, героически настроенные существа при всей жесткой, объективно-конкретной установке их на точное биологическое исследовательство. Однако необходимо вначале оговориться по поводу понимания самих слов «романтика», «воображение» и пр. Слова старые, имевшие во многом больное прошлое и вызывающие поэтому жестокое недоразумение при понимании их сущности. Романтика в использовании ее сантиментальничающими эксплуататорами – это одно, – романтика же как актуально-эмоциональная насыщенность, как цикл ярко-боевых переживаний – это качественно совсем другое: наиболее сильные, мощно целеустремленные пролетарские революционеры, отдающие жизнь свою, все свои силы и мечты революционным боям, – это наиболее яркие романтики…
Привнесение в конкретную действительность яркой эмоции, – уменье, отвлекаясь от сегодняшнего, заглянуть в завтрашний и послезавтрашний день, не теряя при этом объективистического регулятора, уменье радоваться не только тому, что уже есть, но и тому, что еще только будет, – это ценнейшая черта для всякого реалистического бойца, но черта эта немыслима без эмоционально-романтического заряда, без яркого творческого воображения.Конечно, романтика и воображение подростка еще далеко не на 100 % объективизированы, но от педагогического уменья зависит ввести их в максимально точные нормы, дать им одновременно и «обжигающий», и неутолимо-конкретный материал.
Естествознание при умелой его подаче может дать такой материал в неисчерпаемом количестве, организуя этим богатейшие эмоциональные тяготения возраста, подводя фундамент под все дальнейшее творчество взрослого человека и, вместе с тем, отрывая энергию возраста от преждевременного, избыточного ее сексуализирования.Как видим, в таком разрезе и оно оказывается одним из могущественнейших факторов полового воспитания.
Вся теория эволюции с ее изменчивостью, борьбой, противоречиями, отмиранием ненужного, мощью целесообразного, жизнь далекого прошлого, жизнь грядущих эпох, физико-химические законы, техника с ее изобретательской мощью, – все это может и должно быть подано как актуальнейший материал для острой работы воображения, как вкуснейшая и полезнейшая пища для голодных, жадных исследовательских запросов, как стимул для ненасытных непрерывных, поисков. История мироздания, теологические катаклизмы, смена теологических эпох, межпланетные проблемы, мощный динамизм, огромность этих материалов, – только схоласт не сумеет использовать их для яркой эмоционально-действенной зарядки. Физиология человека, тайны его функций, взаимозависимость в целостном организме, физиология творчества, мозг и «душа», мозг и тело, законы наследственности, – все это и для слушанья, и для демонстраций, и для чтения, и для самостоятельного исследовательства – залежи, которыми надо лишь педагогически овладеть. Вот где приходится настойчиво вспомнить о принципе целостности, единства в педагогической работе над переходным возрастом (гл. X).
Правильно построенное обществоведение как центр всех учебных дисциплин, дает совершенно новое освещение и основным биологическим проблемам(природа как фактор труда – человеческий организм и социальные условия, – физико-химические законы и производственно-социальные проблемы и т. д.), заряжает их яркой общественной направленностьюи создает совершенно особый, новый вкус к их изучению, стимул для экскурсий, опытов, коллекционерства, для занятий математикой и т. д. Именно в таком виде естествознание без всякого риска может быть планомерно использовано и для общегигиенических указаний, а также для постепенного, незаметного углубления сексуально-просветительной осведомленности детей, без тех опаснейших «специальных» бесед, которые часто устраиваются на «половые» темы [203]203
См. ниже гл. XX.
[Закрыть].
Итак, мы видим, что естествознание является не только фондом для полового просвещения, но оказывается совершенно незаменимым, притом первоочередным материалом для ценнейшей эмоционально-действенной зарядки подростка, незаменимым фактором полового воспитания.
В таком же положении и смежные с ним дисциплины. Возьмем хотя бы географию. При особом «уменье» она может превратиться в материал для зубрежки названий, в скучнейшие спекуляции с «немой» картой и т. д. При правильном подходе в тесной связи с обществоведческими проблемами, используя яркие этнографические описания, информируя о занимательных приключениях «открывателей» новых стран и, вместе с тем, ядовито разоблачая действительную классовую подоплеку этого «открывательства», – создают на почве географической учебы ценнейший научно-художественный материал, объективно точный и остро интригующий, захватывающий собою для педагогических целей значительную часть действенной эмоциональности подростков.
Экскурсии, лагерное кочевье, специальная исследовательская работа, использованные совместно обществоведом, биологом и географом, могут дать такую длительную творческую зарядку коллективу подростков, что для праздной сексуальности не останется ни времени, ни сил. Повторяем, гиперсексуальность подростка питается лишь неиспользованным эмоциональнымизбытком.
XIII. Искусство как фактор полового воспитания
Лучшим доказательством того, насколько бедна еще методика полового воспитания, является состояние вопроса о художественном воздействии на детей. Как мы видели, решающим фактором полового, т. е. общего воспитания, является эмоциональность детства, требующая соответствующих переключений. Художественные же эмоции являются одними из наиболее влиятельных в общем эмоциональном содержании детей.
Собственно говоря, под понятие художественного влияния искусства можно подвести все то, что усиливает творческое воображение, что дает ему мощную зарядку и яркий, сочный материал. Таким образом, и научная деятельность, и общественная активность могут и должны быть пропитаны, помимо основного своего содержания, также и элементами художественной эмоциональности, элементами искусства: все точное, острое, сильное, глубокое становится сугуботочным, острым и т. д., если оно ярко, если оно заражает других, если оно «красиво», понимая под красотой не «красивость» паразитирующих классов, но вкладывая в понятие красоты яркость жизненных явлений, мощь коллектива, боевую динамику – все то, что до зарезу нужно классу, освобождающемуся от эксплуатации.
Такой зарядкой обладают все отрасли искусства – и художественная литература, и музыка, и живопись, и архитектура, – однако повторяем, не того искусства, которое углубляет пассивность, паразитизм, эгоистическое хищничество, а действительного революционного искусства. Тем острее в ней нужда у детей, у подростков, насыщенная эмоциональность которых требует и насыщенного эмоционального подхода, т. е. подхода, в значительной его части художественного. Таким видом художественного подхода к самым обыкновенным учебным дисциплинам (обществоведение, естествознание и др.) и является реализация всех указаний, приведенных выше в главах XI и XII: соблюдаются полностью требования науки, но сама наука преподносится в художественном окружении, остро необходимом для подросткаи сугубо полезном для того же его научного развития. Однако кроме этого активного художественного элемента, присущего вообще всякой работе с детьми, имеются и специальные отрасли воспитательных влияний, где художественный элемент находится в центре последних, является первой, основной их силой: такова музыка для детей, детский театр и кино, живопись для детства, художественная литература и т. д.
Положение в этих областях, в областях крупнейшей важности для дела полового, т. е. и общеэмоционального воспитания, буквально трагическое. То, что существует, чаще всего никуда не годится, вредно (см. советские анализы детской художественной литературы: ¾ постановок детских театров, 9/10 кино и т. д.), но как строить нужное, педология еще не дает точных указаний, пожалуй, не дает даже и начальных указаний. Наш тезис главы XI – «все, чего не использует обществоведение, поглотит сексуальность», – с особой остротой должен быть приложен к художественному воспитанию: «Все те эмоции, вся та работа воображения, вся та детская энергетика, которые не будут захвачены здоровыми художественными влияниями, особо угрожаемы по охвату их ранней, избыточной сексуальностью». Тезис этот шире «обществоведческого», так как включает в себя вопрос о необходимости художественной организации всех без исключениячастей воспитательной работы с подростком и о жестокой ревизии всех тех элементов «художественности», которые фигурировали в прежних воспитательных подходах.
Злейшими вратами правильного полового воспитания являются современное «авантюрно-романическое» кино и подавляющая часть современной авантюрной и так называемой детской художественной литературы. Кино:вместо возбуждений здорового социально-действенного задора, вместо стимулов к ценной и глубокой работе творческого воображения, вместо пищи для общей тренировки и морального роста, – наркотизирующие, остро захватывающие трюки, неправдоподобные жизненные положения, искажения классовой перспективы, – «романически-сексуальная» зараза. Подросток становится загипнотизированным рабом кино, мечтает о нем, совершает для него и по его примерам преступления, извращает все свои эмоциональные установки, охладевает ко всему, что вне материалов его излюбленного кино. Почва, как видим, наилучшая для неиссякаемых переключений энергии исключительно в сторону полового, которое в переходном возрасте всегда оказывается наиболее чутким и ранимым местом общей эмоциональности, главным притягательным пунктом для всей расшатавшейсядетской энергетики.
Картина «Красные дьяволята» была бы удовлетворительным типом киноподхода к детям (реалистическая фабула, вполне здоровый социальный уклон, яркая занимательность как в этической, так и в действенно-двигательной областях), если бы не чрезмерное ослабление реалистической трезвости, умаление опасностей, фантастическое преувеличение героических возможностей ребят, что также опасно, так как понижает волю к тренировке, обостряет «хвастливо-наплевательское» отношение к реальности, и без того отчасти свойственное возрасту.
В детском кино, в детском театре,больше, чем где-либо, важно соблюдение меры, пропорции между внешними влияниями и действительными детскими нуждами. Длительностьэмоционального возбуждения не должна переходить через границы, когда наступает или подавленность, или болезненная взвинченность. По своему содержаниюэмоциональные возбудители не должны быть потрясающими, неожиданными, должны быть связаны логической и физиологической последовательностью. Не должны допускаться в фабуле уклонения от реалистических пропорций при полном попущении ярко-занимательной выдумки.Материал пьесы должен создавать здоровую социальную двигательно-действенную установку, и лучше всего, если он связан с немедленным претворением в практическоедело той основной «морали», которая в него вложена. Всяких фантастических «темпов», нелепо-быстрых, невозможных темпов движения или темпов развития действия надо всемерно избегать, так как и без того приходится настойчиво бороться с «чрезмерностью» гиперболизма переходного возраста, откуда один шаг до общего «развязывания» тормозного аппарата, т. е. и до половой дезорганизации. Особо желательной является тесная связь между материалом учебной работы и посещением детьми кино или деттеатра: материал пьесы вкладывается в содержание предшествующих и последующих школьных занятий, которые чрезвычайно от этого выигрывают.
В детской литературе опасны все три, сейчас в ней преобладающие, уклона:1) «томный» сентиментализм (Чарская и ее присные); 2) избыточный авантюризм (пинкертоновщина); 3) аскетическая, сухая трезвость. Первый не нужен как отпрыск праздной, пассивной фантазии отмирающих общественных слоев. Второй – своей непомерностью, легковесностью, нервной перегрузкой. Третий – недостачей эмоциональных элементов. Хорошее, классическое сочетание нужных элементов детлитературы имеется в «Томе Сойере» Марка Твена, с одним лишь дефектом: «внеклассовый», «аполитический» демократизм повести. Если дать советскому подростку иной социальный стержень, но при том же принципе построения, который мы имеем в «Томе Сойере», мы получим великолепные образцы замечательного художественного влияния на подростка, – мощного конкурента, соперника для половой фантастики. Много методически ценного у Джека Лондона, много полезного, но по материалу устаревшего, у Жюль Верна и т. д. На собрании подростков пишущему был брошен горький, справедливый упрек: «Почему пишут ученые книги и рассказы о нас, детях, для вас, взрослых, и о вас самих, наконец, а почему не пишут о нас – для нас,да так, чтобы нас от этого не тошнило?» А другой подросток прибавляет: «Как скучно, тоскливо без хорошей книги – деваться некуда, черт знает что делаешь тогда». В этих двух фразах – целая программа для одной из крупнейших глав «полового воспитания».
«Как случилось, что ты в два месяца перестал заниматься онанизмом, только лишь поступил в новую школу? – спрашиваю я у 15-летнего мальчика, который, как недавно нам сообщили, около 1 ½ лет безуспешно боролся со своим онанизмом. – В школе красиво, чисто, уютно, порядок, вокруг двора цветник, часто бывает музыка, все становится вокруг и во мне красивее, яснее, чище и меня начало меньше тянуть». Великолепный, выразительный ответ на вопрос о ценности художественного элемента в области полового воспитания. Конечно, дело было не в цветнике, музыке и чистоте, а в общей атмосфере учреждения, помимо цветников и прочего, пропитанной ярким, художественным содержанием, яркой эмоциональной насыщенностью.
На Северо-Западном областном съезде СПОН в Ленинграде (1927 г.) именно рядовые практические работники активно отмечали огромную ценность художественной обстановки для здоровой половой детской самоорганизации (понимая под «обстановкой» как внутреннее содержание работы, так и ее окружение).
Однако чрезвычайно опасен был бы и чрезмерный «положительный» перегиб в этой области. Отвлечения в избыток «художественности» и отрыв от общих и специальных учебно-воспитательных задач были бы не менее опасны, чем отсутствие художественного подхода в воспитании. Некоторые педагоги представляют себе «художественное воспитание» как нечто самодовлеющее, как самоцель, являющуюся центром всех воспитательных задач. Между тем оно – не цель, а средство, одно из средств, правда, одно из крупнейших средств, но все же средств. Поэтому особые педагогические старания по части впитывания в себя детьми «элементов красоты», по утонченной их специализации в отдельных вопросах искусства, – как общепедагогический подход никуда не годится и, в смысле полового воспитания, принесет в массовом масштабе лишь вред, утончив одно, узкое, специальное, «интимное» и оторвав от другого, общего, широкого, боевого, т. е. сделав детей сексуально-беззащитными.
Художественная специализация – лишь для немногих, особо одаренных в той или иной области, для детской же массы – широкие, общие художественные влияния,настойчиво проникающие во все отрасли учебной и воспитательной работы. В такой постановке художественное воспитание является могучим средством детской эмоциональной самоорганизации, могучим врагом паразитарных половых переключений.
XIV. Труд как фактор полового воспитания
Распространяться здесь об общефизиологической пользе детского труда, конечно, нет никакой нужды, так как советские педолого-педагогические работники усвоили уже на 100 % эту истину, являющуюся базой всей нашей воспитательной системы. Развитие инициативы, конкретных умений, способности к сопротивлению, новое комбинаторное творчество, рост координирующих процессов, улучшение способности общего и специального сосредоточения, – все эти результаты правильного трудового воспитания, конечно, общеизвестны. Однако переходный возраст с его противоречивой эмоциональностью требует особых, специальных подходов в области трудового воспитания, так как может случиться, что именно неправильные трудовые воздействия именно в этом возрасте окажутся богатейшими источниками для роста и развития гиперсексуальных переключений.
Лучшей иллюстрацией этой грустной возможности является сообщение одного из педагогов на всероссийской экскурсии-конференции СПОН (1926 г., Москва) о попытках его «бороться с половыми переключениями методом трудовых переключении»: чтобы извлечь всю детскую лишнюю энергию и оторвать ее от излишних половых тяготений, детей перегружали всяческой физической работой: полевой, домашней, в мастерских, длительной ходьбой и т. д., надеясь, что «сильная физическая усталость будет лучшим препятствием для полового возбуждения». Понятно, такое нелепое, чрезмерное увлечение принципом «труда» чревато огромными опасностями именно с точки зрения полового воспитания: 1) сильная физическая усталость развязывает тормозные («волевые») процессы и делает человека бессильным в борьбе с какими бы ни было нежелательными тяготениями; 2) именно при сильной физической усталости человек особенно падок на искусственные, острые возбудители, дающие возможность хотя бы на время выйти из угнетенного состояния; 3) непрерывный, утомляющий, бессистемный труд опустошает эмоциональное к себе отношение, убивает интерес к себе, подавляет самим своим содержанием, отрывается от детской эмоциональности и, лишенная связи с трудом, праздная детская эмоциональность легко прикрепляется к другим областям, в переходном возрасте – к половой области.
Как видим, именно «труд» может оказаться подлейшим предателем в деле полового воспитания, если неумело им пользоваться. Для здорового полового воспитания переходный возраст требует особых трудовых подходов.
Труд как метод обычной, спокойной тренировки недостаточен для горячей и динамичной эмоциональности переходного возраста. Необходимо пропитать его теми же элементами эмоциональности, сделать труд активно-интересным, доминантным,лишь тогда будет он в состоянии сосредоточить на себе значительные запасы детской энергии и окажется организатором здоровых переключений. Труд, входящий как органическая часть в жизненные планы и в жизненную деятельность ребят, – вытекающий из их интересов, связанный с работой их воображения; только такой труд будет врагом половых переключений.
Важно учесть, что умело маневрируя с подростком, вовсе не приходится плестись в хвосте его желаний, а наоборот, всегда возможно организовать их в нужных воспитательных целях. Подросток с неподражаемой настойчивостью будет проделывать самые тяжелые, самые, казалось бы, скучные вещи, если трудовой процесс будет освещен для него общей идеей,конечной яркой общей цельюэтого процесса. Зажечь синтезирующий, обобщающий маяк в подростнической голове значит творить с подростком буквально педагогические чудеса в трудовом и других отношениях. Правильная эмоциональная общаяустановка в трудовом воспитании – один из крупнейших факторов противополовых переключений.
Для использования труда в качестве эмоционального фактора необходимо связать его в переходном возрасте со сложными, сильными и широкими движениями, которые подросток больше любит и к которым объективно он больше приспособлен, чем к узко-специализированным и мелким процессам. К последним подводить его всегда следует через первоначально широкий охват всего трудового задания,заинтересовав всем сочетанием процессов в целом, и лишь после этой «раскачки» можно его перевести на тонко-специализированную работу. Переходный возраст – в педологии первый возраст, в котором «процессуальность» сама по себе резко отходит на второй план, на первый же энергично прорывается целенаправленностьработы, ожидание ее конечного продукта, связь этого продукта с сложной серией других целеустремлений возраста. Подросток с тоской, с натугой будет мастерить простой легкий табурет для скучной школьной комнаты и с наслаждением, с чрезвычайной гибкостью примется за сооружение сложного лесного шалаша, необходимого ему для лагерного кочевья.
Огромное значение для трудовой эмоциональности возраста имеет широкий простор, развернутостьтой обстановки, где работают подростки. Там, где работают многие, там, где пространство открытое, а не замкнутое, где можно «размахнуться» и зрением и движением, труд подростка протекает радостнее и продуктивнее, чем в изолированном, узком помещении, в одиночестве. Чем уже рамки пространства, охваченного трудовым процессом, тем больше предварительной общеэмоциональной подготовкитребуется для водворения подростка в такую обстановку. Обратно, чем шире и богаче зрительными и другими раздражителями это пространство, тем легче приспособляется он к последнему, при минимальной начальной «раскачке».
Памятуя, что обычные трудовые процессы не имеют в себе для подростка яркого эмоционального стержня, так как мускульная активность его тесно связана с первичными эмоциональными ее стимулами (см. гл. IX), необходимо по возможности чаще менятьхарактер основных трудовых движений, переводя подростка из одной области процесса в другую. Надо, чтобы подросток прошел сначала все стадиитой работы, над отдельными частями которой он стоит, и потом снова возвращался к тем же стадиям, углубляя свое знакомство с ними уже не как с отдельными кусками, а как с частями органического целого. В то время, как другие возрасты требуют сравнительно долгого «засиживания» на одном и том же частном процессе, вплоть до точного усвоения его (процессуальность – от частного к общему), – подросток, однако, не должен долго застревать на отдельных частностях, которые именно он гораздо лучше усвоит, если «прорвется» сначала через все этапы работы в целом: вскоре он, конечно, снова вернется к частностям, но с оживленным интересом, охватив их систему,и это даст ему возможность глубже внедриться тогдав каждую специальную частность.
Элемент освежения, обновленияобстановки, инструментария, мускульных манипуляций, смены очередности процессов, а также дополнительная планировка работы, новые работы и т. д. – в трудовом процессе подростка совершенно обязательны. Здесь неисчерпаемый материал для непрерывного поддержания трудового эмоционального тонуса,который в конечном итоге дает такую закалку, такую общую устойчивость, что для гиперсексуальности здесь не будет работы. Особенно важно, чтобы подросток воочию видел непосредственный результатсвоих трудовых усилий не только в виде определенного предмета, – мало того, он должен видеть тесную динамическую связьсделанного им с целой системойжизненно важных обстоятельств, среди которых он создал своим трудом перемену,внеся туда новое, ценное, способствуя росту чего-либо и т. д.
Все высказанное выше является результатом наблюдений наших над подростками-учениками школ ФЗУ (по кафедре изучения подростка при Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской), однако выводы касаются, конечно, свойств переходного возраста вообще, так как именно эти свойства и были центром наших наблюдений в школах ФЗУ. Дополнительный наш материал из московских и украинских трудкоммун, а отчасти также и школ второй ступени (где, к сожалению, с трудом обстоит не блестяще) подтверждает общевозрастную правильность наших заключений, тем более, что они прочно подкрепляются также сведениями педагогов, выступавших по нашим докладам на конференциях ФЗУ и СПОНа (Москва, Ленинград). Характерно, что приучившись на общей, широкой эмоциональной основе к длительному и специальному трудовому напряжению, подросток в конце концов привыкает и к труду, как процессу, к процессуальному наслаждению трудом,создавая у себя, как видим, длительной эмоциональной «раскачкой» настоящий глубокий трудовой рефлекс,в котором синтезировано наслаждение и усилие. Это постепенно превратит подростка из «легкодела» в действительного социалистического строителя, в действительного носителя здоровой сексуальности.
У труда, правильно эмоционально питаемого,особое, совершенно исключительное значение для борьбы с гиперсексуальностью. Труд дает жизненные навыки, приучает к систематическому усилию, развивает тормозные («волевые») аппараты, воспитывает точность, ответственность, плановость, специализирует работу органов чувств, укрепляет реалистический подход к явлениям жизни, четко, методически распределяет все психофизиологические силы, – одним словом, является основным препятствием для беспорядочных разнузданных переключений энергии, для праздной фантастики, для паразитизма во всех его видах.
Труд подростка, эмоционально подкрепленный, привлекает к себе лучшие элементы возрастной эмоциональности и, в то же время, является для этой эмоциональности наилучшим организатором.