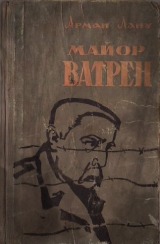
Текст книги "Майор Ватрен"
Автор книги: Арман Лану
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Раздался смех. Сообщение кончилось. Эберлэн заметил Субейрака. Артиллерист закутался в свою зеленую шинель – эти шинели были взяты с захваченных немцами польских складов и выдавались пленным офицерам, которые не имели никакой одежды, – надел свой шлем и пошел было к двери, но остановился, услышав слова начальника «штубе»:
– Господа, прошу прощения. Внимание, господа. То, что я вам сейчас скажу, весьма серьезно.
Все замолчали. Капитан продолжал вкрадчивым голосом:
– Канцлер Гитлер сообщил в своей речи, что немцы взяли 3.916.993 человека советских пленных. Он заявил: «Большевики будут разбиты и уничтожены. Большевистские орды перестанут существовать этим летом». Учтите это!
Снова раздался шум и смех. Эберлэн был похож на военного неопределенной национальности, вроде одного из тех персонажей, которые в изобилии появились впоследствии в романах и пьесах разных авторов от Жана-Поля Сартра до Сименона. Он вышел. Люди, толкаясь и задевая друг друга, занялись приготовлением ужина; четверо офицеров с табуретками на плечах, похожие в своих длинных шинелях на трехрогих минотавров, собирались на лекцию Альгрэна о Магомете – каждому полагалось приходить со своим стулом.
– Вот болваны, – сказал Эберлэн. – Подумать только, например, что Мато, торговец маслом и яйцами, ходит на лекции по философии, а затем будет нам морочить голову Шопенгауером. Ничего он не понимает в Шопенгауере. Да нет, ты только представь…
Помещение для лекций находилось в середине широкого полукруга. Из всех бараков третьего блока к нему по радиусам шли, кто быстро, кто медленно, минотавры разного роста.
– Пройдемся по лагерю? – предложил артиллерист, у которого это зрелище вызывало чувство отвращения.
Недавно немецкий комендант разрешил передвижение между блоками внутри лагеря. Это позволило любителям прогулок подолгу выхаживать вдоль рядов колючей проволоки, окружавшей лагерь. Из неуклюжих деревянных башенок, напоминавших Субейраку картинки осады Алезии в учебнике истории, выглядывали серо-зеленые охранники, вооруженные автоматами. Еще утром было морозно, термометр показывал ниже десяти градусов, но легкий южный ветер смягчал холод. Прозрачный воздух позволял видеть даль полей. На замерзшую равнину, усеянную снежными островками, надвигался чудесный вечер.
Франсуа и Эберлэн были мало знакомы и не симпатизировали друг другу. В артиллеристе чувствовался вечный заговорщик, конспиратор в таинственном плаще, и это раздражало Франсуа. В Субейраке было что-то открытое, располагающее, общительное, и это, в свою очередь, раздражало Эберлэна.
Они подошли к ступенькам, ведущим во II блок. Южный ветер был здесь сильнее, он дул в направлении ближнего леса на пути к морю. Их сапоги ступали по выложенной бревнами песчаной дороге, служившей для обхода часовых. Деревянный настил был необходим: в дождливое время Темпельгоф утопал в грязи.
– Какая хорошая погода, – сказал Эберлэн. – «Последняя дверь выходила на равнину».
Франсуа промолчал.
– Это из Андре Жида, – упрямо продолжал артиллерист. – Единственный из современных писателей, которого я воспринимаю. Потому что он любит свободу.
– Зачем тебе нужны кусачки? – спросил Франсуа, мало расположенный к литературному спору с этим субъектом.
– Нужны.
– Начали уже?
– Нет.
– Так зачем же?
– Они мне нужны для другого. Тебе это мешает?
– Я просто не люблю, когда из барака уносят инструмент неизвестно куда, – вот и все.
– Нет, дело все-таки в другом – это тебе мешает.
– Работа не началась?
– Нет. Все зависит от тебя. Давай постоим здесь.
В этом месте лес мысом заходил в пределы лагеря, ели росли у самой ограды. Бриз, предвестник весны, дувший из Румынии и Болгарии, веял между стволами деревьев. Бараки стояли здесь в самом лесу. При некотором воображении можно было представить, что ты на даче. Прямо перед ними, по ту сторону колючей проволоки, расстилалась бескрайняя равнина Северной Германии. Ничто не оживляло ее, кроме приземистой фермы у пруда, возле которого хлопотала крестьянка в красной юбке, да линии железной дороги, по которой их доставили сюда; вдали виднелись две колокольни – и все.
Это был скорее польский, нежели немецкий пейзаж. К северу темнела полоса леса с белыми пятнами берез на фоне ельника. Сюда, в лес, заключенных посылали за дровами, а за ним простиралась Балтика.
Порой можно было угадать близость моря. С северным ветром прилетали чайки и доносился запах морских водорослей. Тогда Франсуа дышал полной грудью и чувствовал себя гораздо более несчастным. Его томила жестокая тоска по морю. Никогда не видел он такой бескрайней равнины и такого широкого, изменчивого, щедрого неба, как здесь, в Померании.
Сегодня на небе громоздились и росли гигантские движущиеся здания, созданные из облаков, огромные плывущие города и над ними вдали причудливые висячие сады, золоченые купола, Вавилон с минаретами – целый восточный город, словно чудесные росписи Веронезе, освещенные лучами заходящего солнца.
Субейрак, не двигаясь, смотрел на Темпельгоф. Он чувствовал нетерпение своего спутника, но не хотел заговорить первым.
Расположенный на небольшом пригорке между лесом и покрытыми вереском дюнами с одной стороны и ржаным полем с другой, опоясанный высокой оградой из колючей проволоки, Темпельгоф представлял собой почти правильную геометрическую фигуру: два неравных полукруга, соединенные между собой по линии диаметра. В центре, среди грубо сколоченных бараков, возвышалось большое, тщательно отделанное деревянное строение с широкими окнами. Это был лагерный театр, построенный не для военнопленных, а для «гитлеровской молодежи».
В этом здании Франсуа собирался вскоре поставить «Комическую историю». Превосходная сцена использовалась для работы драматических коллективов, а когда не было представлений, в театральном зале собирались пленные офицеры, чтобы почитать, поработать или выпить кружку-другую густого, темного, но некрепкого пива.
Косые солнечные лучи освещали алый флаг с черной свастикой на белом круге. К этому зданию примыкали дома Lagerfuhrung[35]35
Управление лагерем (нем.).
[Закрыть]; полицейский пост, господствовавший над единственной дорогой, которая вела на станцию, почта, амбулатория, ремонтные мастерские, склады. Все это вместе, покрытое инеем, представляло красивую и ясную картину; сверкающая белизна льда придавала ей сходство с фламандскими примитивами.
– Нет, еще не начинали! – продолжил разговор образцовый беглец. – Знаешь, почему?
– Догадываюсь, – сказал Субейрак. – Но я тут ничего не могу поделать.
– Послушай, нет, ты послушай. Вот что было сказано сегодня в докладе, как раз перед тем, как ты вошел. Я запомнил текст: «Франция больше не воюет с Германией. Следовательно, побеги бесполезны. Разве только из-за эгоистического желания свободы, – да, да, именно так и было сказано – „эгоистическое желание“, – разве можно только из-за этого подвергать риску наказания остающихся товарищей, в частности тех, кто не в силах бежать из-за своего возраста или по состоянию здоровья». А? Каково?
– Кто это сочинил?
– Полковник, комендант лагеря. Не бош – француз. Староста. Маршандье, зуав! Какая нелепость, Субейрак! В таком случае я – эгоист! Значит надо отнять возможность бежать у всякого, кто хотел бы удрать к черту из этого лагеря только потому, что это может повредить всей богадельне престарелых капитанов. Он просто спятил, твой друг полковник!
– Я думаю, Эберлэн, ты этого никогда не поймешь… Есть вещи, которые он должен говорить, потому что немцы от него требуют. Это входит в его обязанности. Ведь кто-нибудь должен это делать!
– Никто его не заставляет – он может откланяться, и всё.
– Может. И тогда не будет лекций. Не будет театра. Не будет дополнительного питания. Не будет лавки. Не будет прогулок вне лагеря. Переписка будет сведена к установленному минимуму, пойдут обыски, придирки…
– По-моему, так лучше.
Его рот искривился: образцовый беглец был непримирим. С Эберлэном приходилось обращаться по-особому. Уж если он начинал выходить из себя – лучше всего было дать ему успокоиться.
Франсуа посмотрел в сторону барака, где читались лекции на любые темы – от бухгалтерии до разбора «Могилы Эдгара По», служились мессы и проводились собрания фольклористов или кружка католического действия, в котором мужчины, лишенные женщин, серьезно обсуждали вопрос: «В какой мере мужья выполняют свои обязанности по отношению к женам». В данный момент Альгрэн рассказывал там о печальной участи потомков Магомета и о том, как произносится по-немецки слово «Пуатье».
Южный ветер пригибал к земле и нес в их сторону дым, поднимавшийся из труб. Скоро начнется оттепель.
– Послушай, – сказал наконец Субейрак, – я понимаю, к чему ты клонишь. В сущности, вы бросили это дело только потому, что если вести подкоп из вашего двенадцатого барака, то он будет слишком длинным.
– Ну да. Мы пробовали, это ужасно. Сплошной песок, приходится крепить лесом, особенно если копать весной… Вечно будет не хватать досок. Поэтому приходится вернуться к первому варианту – бежать из… из твоего барака. Постой, постой, послушай меня. Самое разумное, чтобы подкоп шел из того барака, где театр. Из семнадцатого. У нас три возможности. Из комнаты вестовых практически неосуществимо и слишком рискованно. Немцы подсаживают шпиков к солдатам. «Штубе» для репетиций имеет свои преимущества и свои неудобства. Твоя «штубе» – одни преимущества. Сто восемьдесят метров вместо двухсот. Гораздо удобнее в отношении люка, в отношении электричества, вентиляции, выноса земли. Наконец – почва. Нет, самое лучшее – это твоя «штубе». Потому что это самый короткий путь. Потому что время не терпит. Потому что вы свободны. Потому что у вас все под рукой. Потому что у вас в бараке не торчат постоянно сорок восемь ребят – музыкантов, хористов или тулузских певцов, которые все время смотрят, как ты перетаскиваешь землю в консервных банках. Разумеется, ты уходишь с нами.
– Я недостаточно знаю немецкий.
– Немецкого многие не знают. Уйдет столько народу, сколько удастся вывести.
– Чтобы легче было нас переловить?
– Чтобы было больше шансов на успех. Работы ведь много. Нас сто шестьдесят человек.
– Это совершенное безумие. За двадцать два месяца никому еще не удалось бежать через подкоп.
– Потому что были стукачи, и все проваливалось.
– Вот видишь.
– Дело в том, что слишком много людей знало. Подумай, Субейрак.
– Я обо всем подумал. Вы уйдете – пусть даже «мы» уйдем – подкоп останется. Это значит – конец театру.
– Как будто это имеет значение.
– Не только театр, но и все остальное.
– Ты говоришь точь-в-точь как полковник. Браво! Сразу видно, что ты в Петеновском кружке.
– Я в Петеновском кружке, потому что не могу поступить иначе и, кроме того, я не обязан отчитываться перед тобой. Впрочем, у меня нет права решать самому. Нас направил туда полковник. Он старший в лагере. Это единственный представитель нашей военной власти здесь. Я посоветуюсь с ним.
– Запрещаю тебе это.
– Ты ведь все-таки не думаешь, что полковник вас выдаст?
– Я не хочу, чтобы он знал. Он сволочь. И ты тоже.
– Как ты сказал?
– Ты тоже сволочь.
Франсуа схватил его за руку выше локтя и, несмотря на толстую шинель и свитер, сжал ее до боли. Похудевшее смуглое лицо молодого офицера стало жестким. Да, с сентября 1939 года этот лейтенантик, трепетавший перед майором Ватреном, изменился! Он сдержался и лишь сухо спросил:
– Почему ты хочешь бежать?
– Потому что я кадровый офицер.
– Куда ты направишься? В Лондон, Алжир или в Москву?
– В Лондон.
– Ты действительно профессиональный военный, ты все упрощаешь до глупости.
– Послушай, Субейрак, я сказал лишнее, я знаю, ты не предатель. Но я тебя не понимаю. Тебе нравится здесь?
– Идиот! Я считаю бесполезным удирать только для того, чтобы через сто – двести километров или на границе тебя поймали, после того как ты здесь все напортил двум тысячам ни в чем неповинных людей.
– Все это правильно. Я согласен, что бежать в одиночку могут только те, кто хорошо говорит по-немецки. Но у меня есть точный план. И есть средства. У меня есть марки. Когда мы рванем отсюда – в таких случаях всегда бывает неразбериха, – мы с тобой будем держаться друг друга. Остальные сами как-нибудь устроятся. Мы будем вместе, втроем.
– Кто это «мы»?
– Франклин.
– Не знаю его.
– Артиллерист. Его зовут Веньямин. Мы прозвали его Франклином. Он артиллерист, раньше учился в Морской школе, но не окончил ее.
– Ну и что же?
– В Морской! А море близко. От острова Рюген до Фальстербо – это уже Швеция – меньше пятидесяти километров.
– А сколько до острова Рюген?
– Приблизительно столько же. У меня есть человек, который доставит. Рыбак из Лауэнмюнде. Десять километров отсюда.
Лихорадочная жажда деятельности овладевала Эберлэном. Он говорил отчетливо и быстро. Он видел перед собой карту и был уверен в себе. Франсуа почувствовал невольное восхищение.
– У меня есть пятьсот марок, – продолжал артиллерист.
Дух приключений и действия, та же сила, которая однажды вечером, накануне захвата в плен, заставила Субейрака покинуть батальон, стремление вырваться, давнишнее отвращение к принуждению и затаенное озлобление заключенного, мягкая теплота вечернего воздуха – все это побуждало Субейрака дать согласие. А может быть, больше всего был в этом повинен южный ветер, который навевал мысли о розовом варенье, о золотистом табаке и о цветущих лавровых деревьях? Эберлэн не болтал зря: он хорошо продумал свой план. Франсуа представил себе, как он вместе с другими уходит через подкоп. Он представил себе также тех, кто не верил в удачу и поэтому останется. Он подумал о бешенстве немцев и о массовых репрессиях в лагере. Мысленно он видел полковника Маршандье, от которого он скроет свои намерения; полковник скажет: «Субейрак не доверял мне».
И потом Субейрак вспомнил о майоре Ватрене, таком же военнопленном, как и все они. Майор жил, словно волк-одиночка, выходя из комнаты только чтобы пройтись по лагерю. Он никогда не бывал в театре, несмотря на интерес к тому, как живут его офицеры, пожалуй, единственный интерес, сохранившийся в его жизни затворника. Ватрен стал еще более молчаливым, угрюмым, суровым.
Когда недели две назад Эберлэн впервые заговорил с ним о побеге, Субейрак посоветовался с Ватреном. Он часто навещал своего бывшего начальника. Ему всегда хотелось чем-нибудь помочь Ватрену в его одиночестве.
– Так как же? – спросил Эберлэн.
Ватрен, казалось, не пришел в восторг от этого замысла. Конечно, в принципе он относился к побегу положительно. Он просто сказал:
– Голубчик, я вами больше не командую. У вас есть полковник, начальник лагеря.
Нет, этот старый воин, старый кадровый офицер, этот несгибаемый человек не был в восторге. «Надо как следует продумать ваш план», – сказал он. А ведь Ватрен не шел ни на какие уступки и компромиссы с немцами или с Петеновским кружком, а тем более со сторонниками коллаборационизма, которых он открыто презирал. Старик, сам того не зная, в точности следовал словам Сент-Экзюпери: [36]36
Антуан де Сент-Экзюпери (1900–1944) – французский писатель и летчик, погибший во время второй мировой войны.
[Закрыть] «Если ты побежден, будь безмолвен, как семя в земле».
– Так как же, – повторил Эберлэн. – Нельзя терять времени. Весна приближается. У нас двадцать шансов из ста, это очень много. Когда я ушел в первый раз, у меня был один шанс из ста и всё-таки мне чуть-чуть не удалось…
Это было правдой. Артиллерист Эберлэн удрал, имея поддельные бумаги с печатью мэрии одного померанского села. В документах подтверждалось, что предъявитель – глухонемой, нуждается в содействии германских железнодорожных властей. Ему удалось добраться до венгерской границы, и он считал уже, что все сошло благополучно, как вдруг его захватил патруль: линия границы была незадолго перед тем изменена и патруль фрицев оказался на пять километров дальше, чем он предполагал.
– Нет, – сказал Субейрак, – если я решусь бежать, то сделаю это один.
Эберлэн остановил его. Он взял его за пуговицу шинели и посмотрел прямо в глаза.
– Ладно, мы поведем подкоп из другого места. Но в случае провала на тебя ляжет тяжелая ответственность, Субейрак.
– И в том, и в другом случае на меня ложится ответственность. Я выбираю ту, которая меньше.
– Я тебе все-таки скажу то, что думаю. Я начинаю понимать, кто ты. Ты – приспособившийся.
– Как ты говоришь?
– Вот именно – приспособившийся. Ты себя хорошо чувствуешь здесь, ты не плохо устроился. Если бы здесь еще были и женщины, жизнь стала бы вполне сносной. Недаром мы живем в царстве Эрзаца. Это – заразительно. Говорят, будто ты и сам занялся выделкой эрзацев.
Ребром ладони Субейрак ударил Эберлэна по руке, тот вскрикнул от внезапной боли. Они с ненавистью посмотрели друг на друга.
– А ты, я тебе скажу, кто ты! Ты психопат, ты одержим желанием действовать во что бы то ни стало. Беглец… из сумасшедшего дома! Маньяк! Тебе не терпится. Ты лжешь. У тебя нет никакого идеала, ты просто авантюрист. Да что тут говорить – кадровый военный и все! Ты мечтаешь о Лондоне, потому что там тебя скорее повысят в чине! Лондон, Алжир, Москва – ты принимаешь в расчет только свои карьеристские соображения. Интересно, что бы ты ответил, если бы тебе предложили немедленное освобождение с сохранением звания при условии вступления в СС.
Хотя Эберлэн улыбался, руки его задрожали.
– По-моему, мы все сказали друг другу, – проговорил он. – До свидания. Пойду посмотрю на русских.
И он ушел.
Франсуа вздрогнул. Эта страстная устремленность ужасала его. Хуже – она была ему отвратительна. Эберлэн большими шагами направлялся к тому месту, откуда можно было видеть русских.
Франсуа передернуло. Он вернулся в «штубе» самым коротким путем. Минотавры собирались в барак после лекции.
Франсуа молча поужинал. Целый рой мыслей кружился в голове у молодого лейтенанта. Предложение Эберлэна взволновало его. Он вспоминал о том времени, когда его мучил голод. Он был голоден, когда поезд, набитый представителями почти всех европейских стран, увозил его вместе с остатками бравого батальона в Восточную Германию. Он страдал от голода в Борене, в Трире, в пути, когда поезд шел вдоль Мозеля, между Триром и Майнцем. В тот день они с майором Ватреном оказались в пассажирском вагоне. Время от времени поезд замедлял ход. Хотя на крышах, словно куры на насесте, сидели конвоиры, Субейрака тянуло выскочить из поезда и броситься в лес. Были некоторые шансы на успех. Он не воспользовался ими. Почему? А что если Эберлэн прав? Он не воспользовался тогда этой возможностью, потому что был ранен и измучен голодом, жаждой, усталостью; в общем, ему помешала физическая слабость. Но дело было не только в ней. Приходилось признаться, что как раньше он не мог оставить батальон в дни его агонии, так и впоследствии он упустил представившуюся ему возможность из-за таинственной, неослабевающей спаянности бравого батальона, которая даже тогда сохраняла свою власть над ним. До сих пор это объяснение удовлетворяло его. Теперь Эберлэн разбудил в нем глухое беспокойство.
Последняя возможность побега представилась в Майнце.
Он вспомнил Майнц, казармы, построенные во время французской оккупации в 1919 году, алые флаги, развешанные повсюду в честь взятия Парижа; толпу, которая равнодушно смотрела на идущую мимо колонну пленных офицеров и не выражала никаких чувств по поводу превращения вчерашних победителей в побежденных. В Майнце немцы поручили какому-то сенегальцу гигантского роста раздавать пленным офицерам похлебку и сыр неопределенного происхождения. Огромный негр смеялся, отпускал шутки в стиле известной песенки «Как хорошо в Банании». Майор Ватрен сказал, что немцы нарочно выбрали негра для этой работы, чтобы унизить пленных французских офицеров и тем отплатить им за ту, другую оккупацию, во время которой сенегальцы оставили неизгладимые следы в жизни некоторых слишком чувствительных жительниц Рейнской области. Может быть, Ватрен был прав? Иногда ненависть открывает человеку глаза, иногда ослепляет его.
Последняя возможность бежать представилась, когда колонна готовилась к отправке. Негру поручили наблюдать за порядком, и он, солдат, стал командовать офицерами. При подсчете пленных была отчаянная путаница – это повторялось потом ежедневно; немецким унтер-офицерам никогда не удавалось с одного раза сосчитать количество пленных в колонне. Франсуа оказался лишним при подсчете. Пленные офицеры переходили из одного двора в другой через узенькую калитку. Негр подмигнул ему. Стоило только отбежать назад. Франсуа, одуревший от лихорадки, упустил момент. Подошел немец, негр пожал плечами. Когда Субейрак наконец понял в чем дело, было уже слишком поздно.
Лихорадка, конечно. Или, может быть, боязнь действовать? Он не был уверен теперь.
У него промелькнула ужасная мысль – она, наверное, появилась уже давно, и разговор с Эберлэном только сделал ее явственней: «В сущности, я находился в том же положении, что и человек из Вольмеранжа – и я тоже не шевельнулся». Мысль эта, хотя и более чем спорная, была малоутешительна.
Вся их дальнейшая история оказалась не чем иным, как постепенным исчезновением двух миллионов Ион во чреве немецкого кита. Он вспомнил Лейпциг, бесконечные предместья, железобетонные здания, бункеры, металлические сооружения. Французы смотрели на все это через узкую щель, едва приоткрыв двери теплушки, где они задыхались от жары; голодные, измученные лихорадкой и нечистой совестью побежденных, а главным образом, жаждой, которая заставляла их на каждой остановке кидаться к колонкам, водостокам и к станционным водокачкам.
Перед его глазами вновь вставала Германия с ее деревнями, разукрашенными флагами, с полями, где чередовались посевы ржи и картофеля. По мере того как поезд увозил их на восток, казалось гигантские пласты этой Германии все сильнее давят на его грудь, вызывая чувство удушья. Германия… Ее реки текли на север, тогда как французские реки текли на запад; дети здесь были светлоголовые; на перронах толпились люди, одетые в национальный зеленый цвет; на переездах, облокотясь о шлагбаумы, терпеливо ожидали крестьяне; в Одере купались солдаты-отпускники, а в полях работали крестьянки в ярких платьях, словно цветы мака, рассыпанные среди неубранных хлебов. Знамена и вращающаяся свастика – волшебная мельница воскресшего варварства… Серо-зеленый, светло-карий, синий цвет удивленных детских глаз, мир, увиденный сквозь узкую щель глазами, воспаленными от жара. В лагере он, наконец, понял. Он разглядел западню, только когда попал в нее.
Он вновь задался вопросом – достаточно ли вескими являются такие причины, как жар, голод, жажда, усталость, отсутствие приказа и неразрывная связь со своим батальоном? Не почувствовал ли он трусливое облегчение оттого, что ужасы войны остались для него позади? Не сдался ли он снова? В одиночку? Может быть, вечный беглец прав? Может быть, он, Франсуа, и в самом деле приспособившийся?
Тото тихо спросил:
– Так как же этуф-кретьен, Франсуа?
– Мне не хочется есть, Тото, – сказал Франсуа, – ты вот был в охотниках, скажи, что ты думаешь о побеге? Да, о побеге, как таковом? О необходимости побега?
III
Благодаря театру у актеров офицерского лагеря появились какие-то общественные обязанности, напоминавшие «подлинную жизнь», по превосходному выражению Ван-Гога (его «Письма» были «бестселлером» лагерной библиотеки) – у них создавалась иллюзия свободы, которую другие пытались найти в учении, в споре или в молитве. И все же пленные оставались пленными. Однако они не всегда воспринимали свое положение таким, каким оно было в действительности. Франсуа Субейрак, поглощенный постановкой «Комической истории» и принимающий это занятие всерьез, потому что весь деревянный городок принимал его всерьез, ощущал плен в гораздо меньшей степени, нежели какой-нибудь фанатик спелеологии или альпинизма.
Эберлэн, неспособный отдаться какой бы то ни было умственной деятельности, чувствовал плен гораздо острее, его лихорадочное состояние можно было простить. Именно оно оживило в Субейраке сомнения, исчезавшие по мере того, как в нем умирал свободный человек. Он взял записную книжку, в которую беспорядочно заносил свои мысли, цитаты, режиссерские заметки, и стал писать:
«Этого не понять тем, кто не был вместе с нами. Может быть, это лишь случайное ощущение, но первая попытка к бегству явилась для нас неожиданностью. Она произошла полтора года назад. Три офицера бежали вместе. Их вскоре задержали в нескольких десятках километров от лагеря. На них были штаны из мешковины и резиновые плащи, залепленные грязью, потому что они шли по заболоченным ландам. Мы смотрели на них с удивлением и восхищением, смешанным с какой-то жалостью. Их побег удивил нас не меньше, чем немцев. Ни охранники, ни охраняемые не сомневались тогда в невозможности бегства. Европа была захвачена, Швейцария – за тысячу километров, Польша – рядом, но завоевана, от Швеции нас отделяло море и, кроме того, она совершенно изолирована от нашей страны. Россия близка, но таинственна и непонятна. Только не совсем нормальные люди могли вообразить, будто можно сразу вернуть себе свободу и Францию! То обстоятельство, что мы были взяты в плен непосредственно перед перемирием, вселяло до сих пор во многих из нас успокоительные надежды на скорый мир».
Он писал твердым и остро отточенным карандашом очень мелко, чтобы легче было спрятать свои записи во время частых обысков.
«В сущности, – подумал он (но не записал), – мы под наркозом. Обещания продолжаются: завтра, morgen früh. Если Франция станет на путь сотрудничества с Европой… Наркоз! Пожалуй, Эберлэн прав! Да, приспособившийся». Это скромное слово оскорбляло сильнее, чем брань.
Камилл вернулся с прогулки, держа в руках «Поммерше цейтунг». Тома Каватини перелистал газету и заметил:
– Ребята, сегодня их девять!
Он сосчитал траурные объявления о военных, погибших на восточном фронте, – девять маленьких крестов в черных рамках, выделяющихся на белой бумаге.
– Тото, – сказал Камилл, – это отвратительно. Радоваться смерти хотя бы врага – недостойно христианина.
– Пе-пе-пеги… – начал Тома.
Упоминание о Пеги вызвало общий протест. Не потому, что Пеги, о котором без конца упоминалось после Национальной революции[37]37
«Национальной революцией» вишисты называли события, приведшие к образованию правительства Петена.
[Закрыть], всем надоел, а просто потому, что было невыносимо слушать, как Тото заикается: «Б-б-блаженны созревшие з-з-злаки». Отрывистый стих поэта в сочетании с дикцией его поклонника представлял такую же неудобоваримую смесь, как и этуф-кретьен.
Тото нахмурился:
– Я с-с-считаю, так же, как и Симон де Монфор, что господь узнает своих[38]38
Симон де Монфор – полководец XII в. Здесь имеется в виду его ответ на вопрос, как отличить еретиков от верных христиан: «Бейте во славу господа тех и других, господь признает своих».
[Закрыть]. – Он выговорил это на одном дыхании. – И кроме того, им нечего бы-бы-было соваться!
В раздражении он стал, фальшивя, напевать одну из своих любимых песенок:
Ах, телячья голова,
Ах, она кипит в котле,
Ах, кипит, но не для нас.
Эти странные слова говорили о печальном детстве в рабочем поселке на Севере, где даже телячья голова, сваренная в котле, считалась роскошью.
Франсуа сделал усилие, чтобы не слушать. Он записал:
«Ни пленные, ни охрана не верили в возможность побега, хотя мысль о нем не должна была бы покидать ни тех, ни других. Побег стал не более, чем игрой, тщетной попыткой, направленной скорее на то, чтобы нарушить монотонное течение жизни, нежели на то, чтобы обрести свободу».
Он искренне верил в то, что писал. Германия в целом представлялась ему скорее пассивной, чем злобной; опасность, казалось, заключалась в самом факте существования этой огромной аморфной массы, а не в ее враждебности. Это ощущение лишь усилилось от того, что наказания за неудавшийся тройной побег были очень мягкими: кратковременное лишение табака, более строгий контроль во время прогулок и нарядов в лес и один-единственный раз – тщательно произведенный обыск. Конечно, вскоре все это переменилось, особенно после удачного побега сына одного известного генерала и его двух товарищей. Об их успехе стало известно по следующей иносказательной фразе в одном письме: «Лондонский зоопарк обогатился тремя новыми животными – львом, леопардом и броненосцем». «Броненосец» – было прозвище сына генерала. Им удалось бежать через Россию, где их интернировали на несколько месяцев. Но потом все это изменилось. Особенно в июне 1941 года, после начала войны с Россией. Однако вслед за шоком поражения стал действовать наркоз коллаборационизма.
В мастерской послышались шаги. Это вошел помощник Ватрена капитан Гондамини, которого они прозвали в сороковом году «Неземным капитаном». Гондамини еще ни разу не был в театральном бараке. Будучи выпускником военного училища, он презирал все эти штатские развлечения. Он жил вместе с майором Ватреном в одном из бараков, предназначенных для пожилых офицеров. Эти бараки называли «Богадельней престарелых капитанов». Офицеров поселили там по четыре человека в маленьких комнатушках.
При появлении Гондамини Франсуа машинально встал.
– Убит сын майора, – сказал Гондамини. – Майору только что стало это известно из письма.
Все знали, что у Ватрена есть сын, младший лейтенант, служивший в мотомехдивизионе. От него ничего не было с июня 1940 года.
Офицеры, пораженные этим сообщением, наскоро привели себя в порядок, чтобы ставшая обычной небрежность в одежде не слишком нарушала устав. Камилл, Параду и декоратор смущенно переглянулись. У Франсуа сжалось горло. Это было ужасно. Бесконечное ожидание, постоянная озабоченность, аскетический образ жизни этого старого угрюмого офицера… Он даже музыку не желал слушать, говоря: «Я всегда любил только военную музыку. Я вроде полковой лошади».
– Я условился встретиться с другими офицерами батальона возле барака майора, – сказал «Неземной капитан». – Вы застанете меня там, господа.
Господи, какая злая насмешка таилась в том, что этому дипломированному кадровику приходилось утешать человека, потерявшего сына!
В Темпельгофе было шесть офицеров из бравого батальона. Унтер-офицеры и рядовые этого батальона уже давно расстались с ними и содержались в солдатских лагерях. Когда Франсуа вышел из театрального барака, солнце клонилось к закату в той стороне, где находился Берлин и Штеттин. Южный ветер по-прежнему обвевал деревянный городок мягким теплом, идущим из Болгарии, Румынии, Греции. Южный ветер коснулся ледяных узоров на окнах, и его чудесное тепло спугнуло их, также как оно спугнуло диких птиц. В сущности, Эберлэн думал о бегстве, как ласточка думает о перелете!
Они остановились возле барака майора, похожие чем-то на смущенных заговорщиков. Одного человека не хватало: он задержался в первом блоке.
Сын Ватрена погиб в Эльзасе, в десятых числах июня, когда батальон его отца был взят в плен. Обстоятельства его смерти остались неизвестны. «Неземной капитан» читал письмо и уточнил:








