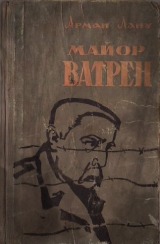
Текст книги "Майор Ватрен"
Автор книги: Арман Лану
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
– Французские солдаты, сдавайсь или вас стреляют.
Субейрак держал палец на гашетке карабина, а Ван взял на изготовку свой ручной пулемет. Оба они повернулись к майору. Ватрен печально положил руку на карабин Субейрака и этим жестом словно сам опустил оружие всего батальона к земле.
Это случилось 11 июня, в двадцать часов тридцать минут. Ничто уже не могло помешать ночи и бушующему валу, хлынувшему с востока, поглотить бравый батальон.

Часть третья
Ночь в Темпельгофе

I
– Вот наши чемоданы! Я голодна, как волк! Жерар уверяет, что здесь поблизости есть превосходный кабачок, который славится утками с лимонным соком. Он нас приглашает всех четверых…"
– Нет, – перебил Франсуа Субейрак. – Нет, нет и нет!
– Что, не так? – спросил Камилл.
– Никуда не годится! Ты безбожно ломаешься, когда произносишь: «Он нас приглашает всех четверых…» Адэ ведь не уличная девка, она гораздо опаснее! Ей нужно вкрасться в доверие, восхитить, очаровать! А ты ведешь себя просто как девка с улицы Шарбоньер. Очень плохо! Единица. Да, и вот еще то, что мы сегодня вечером будем есть баланду, вовсе не означает, что ты должен публично облизываться, когда говоришь об утке с лимонным соком.
– А ты когда-нибудь ел утку с лимонным соком?
– Нет.
– Я тоже. Ничего не могу поделать с собой, Франсуа, меня всего так и разбирает.
Камилл с наглым видом оглядел Франсуа Субейрака. Имя «Камилл» принадлежало не женщине – так звали юного младшего лейтенанта с волосами соломенного цвета и голубыми глазами.
Форменная одежда из грубой шерсти, выданная французской администрацией лагеря взамен элегантного кителя, изношенного до нитки за двадцать два месяца плена, не изменила его женоподобного облика.
Камиллу было двадцать три года, но ему давали не больше восемнадцати. На груди у него красовалась ленточка военного креста с красными полосками – пленные испытывали отвращение к черно-зеленым траурным полосам, введенным правительством Виши. Эта ленточка вызывала такое же недоумение, как знак Почетного легиона на декольтированном лифе актрисы.
– Что поделаешь, – сказал Камилл, – ты сам виноват. Я создан для того, чтобы играть «Дом Телье», а не Ундину или Адэ.
Офицер-актер рассмеялся коротким нагловатым смешком кокотки. Потом он обернулся и крикнул, обращаясь к кому-то в глубине барака, превращенного в мастерскую, где были свалены в кучу старые декорации, картонная мебель, костюмы из мешковины, инструменты, краски:
– Тото, что будет сегодня на ужин?
Дверь в виде арки, изображавшая вход в роскошный салон, приотворилась, обнажив косяк из некрашеного дерева, оклеенного бумагой.
В щель просунулась голова Тото. Это был лейтенант Тома Каватини, полковой товарищ Франсуа Субейрака, бывший вместе с ним в Со-ле-Ретель в дни агонии бравого батальона. Каватини, преждевременно поседевший, с веселой улыбкой на добром, круглом, румяном лице, стал перечислять:
– Баланда из медвежьей требухи и бисквиты Петена.
– Я заявляю, что это преступление, – сказал Камилл. – Тото, сделай нам этуф-кретьен.
– К черту, – сказал Тото. – У меня нет времени. У меня урок немецкого.
Франсуа, руководивший этой необычной труппой, вежливо обратился к старшему офицеру, полковнику зуавов, который сидел в глубоком кресле, столь же роскошном, как и дверь, Это кресло – чудо изобретательности – один из пленных смастерил из дерева, картона и старых рессор, подобранных на свалке.
– Господин полковник, – объяснил Франсуа, – лейтенант Каватини изучает немецкий язык. Наш уважаемый коллега Тома Каватини заметил, что как только он начинает изъясняться на языке Гёте, то перестает заикаться.
– Maul zu! – заорал Тото повелительным тоном. – За-за-заткни глотку, Субей! – перевел он.
– И все-таки, если не будет этуф-кретьена, я не буду репетировать, – по-женски капризно произнес Камилл. – Не воображаете ли вы, что я на пустой желудок стану из кожи лезть, чтобы создать у этих господ иллюзию, будто они находятся в женском обществе?
Этуф-кретьен – был кулинарным шедевром лейтенанта Каватини, который ведал питанием в их бараке и покровительствовал театральному коллективу. Рецепт этого блюда был прост: петеновские бисквиты, – называемые так потому, что их присылало вишистское правительство, – следовало размочить в воде, прибавить сгущенного молока (если оно имелось), сахара и шоколада, а затем все вместе варить на медленном огне.
– Нет, – сказал Тото, по-прежнему стоя в дверях. – У меня кончился сахар. В-в-вот уже десять дней, как не было по-по-посылок, мы так не дотянем до следующего раза. Вы все в-в-в…
– Вдовы, – моментально подсказал Камилл и, грациозно повернувшись на одном каблуке, добавил: – и притом веселые вдовы!..
– В-в-волки ненасытные, вот кто! – поправил Тото.
– Каватини, – сказал полковник, – сделайте одолжение, сходите в контору и попросите лейтенанта Жийуара выдать килограмм сахара из моего личного запаса.
Труппа рассыпалась в благодарностях. Камилл сделал реверанс, подхватив двумя пальцами у колен свои бесформенные грубые штаны.
– Ну вот, – тотчас вскрикнул Франсуа, – ну вот! На сцене у тебя нет ни капли женственности, потому что ты переигрываешь, а вот когда ты просто дурочку валяешь…
– Тогда я вновь обретаю присущее мне очарование, – нежным голосом сказал Камилл. – Вы грубиян, мой миленький режиссер.
Хлопнула дверь – это Тото отправился за сахаром, который предложил полковник. В барак проникла струя свежего воздуха – было все еще морозно, хотя и стоял апрель.
Театральная труппа получила этот барак благодаря полковнику Маршандье, старшине лагеря. Барак был разделен на четыре больших помещения, или как их называли – «штубе»[28]28
Комната (нем.).
[Закрыть]. Одно из них целиком отвели под театральную мастерскую, другое служило для репетиций и собраний, третье и четвертое предназначались для вестовых. Вестовые были предусмотрены женевской конвенцией, но так как один вестовой приходился примерно на тридцать офицеров, то его услугами пользовались лишь теоретически. Театральная труппа, которой руководил Франсуа Субейрак, уже имела свою историю. С первых же дней плена коротким пыльным летом 1940 года в Померании Субейрак стал принимать участие в импровизированных спектаклях. Офицеры, удрученные поражением и пленом, лишенные книг, ничем не занятые, с вечно пустыми желудками, бродили по лагерю, тупея от безделья. Представления под открытым небом положили начало будущему театру.
Конвой, доставив эшелон пленных в лагерь, удалился. Оставшись на рассвете в пустынных дюнах Померании, пленные сами не отдавали себе отчета в том, как велика их оторванность от мира. Почти все общественные связи, соединяющие людей, нарушились. Сохранялась лишь общая для всех военная форма, в такой же мере обесчещенная поражением, в какой она была истрепана войной. Известия о падении Парижа и о перемирии уничтожили последние связи воинского порядка. Оставалось лишь сообщество людей, объединенных недавней совместной боевой жизнью и пленом.
Это отчетливо проявлялось в беседах, которые вели между собой пленные. В продолжение долгих месяцев разговоры бесконечно возвращались к военным воспоминаниям. Четыре тысячи офицеров образовали не менее тысячи маленьких однородных ячеек. Под хриплые звуки громкоговорителя, сообщавшего по-немецки о трагедии Мерс-эль-Кебира, продовольственная комиссия занялась распределением присланных кем-то продуктов, в лектории устраивались лекции, создался хор, библиотека начала сбор книг, появился оркестр.
Наконец, возник и театр, естественно предназначенный для того, чтобы заполнить вынужденный томительный досуг, тянувшийся с рассвета и до того часа, когда выключался свет. Трудно установить, что именно было сделано тем или иным из участников, но уже 14 июля 1940 года, меньше чем через месяц после прибытия в лагерь, первые актеры вышли на самодельную эстраду. За неимением пьес и даже хотя бы одноактных шуток исполнялись под аккомпанемент плохонького рояля куплеты из популярных песен; декорациями служили скрещенные еловые ветки. Ни кулис, ни освещения, ни грима, ни костюмов – театр появился на свет убогим и нищим и этим напоминал своих создателей.
Пятьдесят веков материального прогресса были пройдены ускоренным темпом за полгода, и таким образом удалось почти нагнать современный театр. Бордосские сказы, бретонские песни и народные вальсы уступили место «Рождеству на площади» Анри Геона, «Сверкающей реке» Моргана и «Топазу» Паньоля[29]29
Паньоль, Геон и Морган – современные французские писатели.
[Закрыть]. Оставалось лишь одно препятствие – как поставить спектакль без участия женщин? Зрители и актеры – мужчины, но где же найти инженю и героинь? В первых спектаклях актеры, неуклюже носившие женское платье, вызывали смех, едва только выходили на подмостки. Всякая иллюзия пропадала. Женщины на сцене выступали в качестве неподвижных, безгласных персонажей. Потом мало-помалу режиссеры-самоучки осмелели. При содействии декораторов, бутафоров, костюмеров, которые умудрялись делать довольно сносные парики из мешковины, эти манекены стали оживать.
Вскоре «героини» научились ходить, танцевать и даже произносить несколько слов фальцетом, не вызывая при этом хохота у беспощадных зрителей.
Младшие лейтенанты довольно свободно исполняли женские роли, воскрешая традиции елизаветинского театра. Франсуа замышлял совершить переворот и поставить спектакль с настоящей большой женской ролью, сыгранной естественно, без фальши. Он понимал, что это очень рискованная затея.
Маленькие глазки полковника Маршандье, окруженные морщинками, доброжелательно улыбались, и он, поддерживая игру, ответил на реверанс Камилла, не опасаясь умалить свое достоинство.
– Ваш режиссер кое в чем прав, мой милый, – сказал он. – Вы не очень гибки в роли этой Адэ… Да, я вспомнил! Видите ли, друзья, однажды, в начале войны, я смотрел какую-то пьесу Салакру в Марокко, в пустыне… Ее играла передвижная труппа, которая…
Щедрость полковника по отношению к театру своего блока (лагерь военнопленных состоял из четырех блоков, и в каждом из них имелся свой театр) была очевидна, но рассказы полковника всем надоели. Так как он говорил негромко, Камилл сделал вид, что не слышал последних фраз, и, состроив очаровательную гримасу, показал в оправдание на свой костюм:
– Как будто можно быть женственным вот в этом! А ничего другого у меня нет!
– Завтра будете репетировать в костюмах, – сказал Ванэнакер, выходя из глубины барака, где он что-то писал, не обращая внимания на шум. Ванэнакер тоже был товарищем Франсуа по полку. – Я соорудил тебе бюст и шикарный зад. И, кроме того, моя милая, есть новости…
– Простите, я не помешаю вам? – вежливо спросил, просовывая голову в картонную дверь, офицер с очень смуглым и выразительным скуластым лицом. Остроконечный шлем делал его совсем похожим на татарина. – О, простите, господин полковник…
– Входите, входите, Альгрэн, – сказал полковник.
Вошедший отдал ему честь. Альгрэн, молодой историк, одним из первых стал регулярно читать лекции в барачном университете, в то время, когда театр еще только создавался. Не имея ни книг, ни записей, всегда голодный, он вскоре снискал всеобщее уважение своими знаниями, красноречием. ловкостью, с какой он издевался над немцами, рассказывая, например, о чертах сходства Магомета с Гитлером или анализируя с непритворным восхищением механику прусской политики после Иены, что было небезопасно. Старшие коллеги, недовольные его успехами, так редко выпадающими на долю преподавателей, обвиняли его порой в модернизме, в том, что он заигрывает и слишком приноравливается к своей аудитории, не упоминая при этом о смелости его выступлений, о бесстрашии и справедливости его суждений.
– У меня лекция, но сейчас еще слишком рано, – объяснил Альгрэн. – Я хотел зайти к вам, но боюсь помешать…
– Ничуть, – сказал Франсуа. – Садись, Альгрэн. Я как раз пытаюсь втолковать этой прирожденной девке, Камиллу, что есть разница между женственностью и непристойностью.
– Как это верно! – согласился Альгрэн. – Ну-ка, посмотрим…
– Давай твою реплику, – сказал Франсуа.
Камилл показал ему язык.
Альгрэн с шутливым удивлением раскрыл глаза, словно подсмотрел какой-то секрет, которого нельзя разглашать, и уселся на табурет.
– «Вот наши чемоданы! – начал Камилл. – Я голодна, как волк. Жерар уверяет, что здесь поблизости есть превосходный кабачок, который славится утками с лимонным соком». Так хорошо?
– По-моему, вполне прилично, – заметил Альгрэн.
– Так лучше, – согласился Франсуа. – Если он наденет платье, которое прислала Жанна Ланвен, пожалуй, сойдет.
– Как, – воскликнул Камилл, – есть платье от Жанны Ланвен, а мне ничего не сказали? Покажите его! Где же костюмерша? Костюмерша!
Репетиция приостановилась. Камилл непременно хотел посмотреть красивое платье, присланное из Фобур-сент-Оноре, и Ванэнакер надел его на манекен. Этот храбрый офицер, который вместе с Франсуа до конца отстреливался из автомата и последним из всего бравого батальона сложил оружие, этот могучий неуклюжий человек исполнял теперь обязанности портнихи. Впрочем, его гражданская профессия имела касательство к портняжному ремеслу и к другим мирским занятиям: Ванэнакер был фабрикантом и торговцем церковной утварью и поэтому умел скроить ризу или сутану.
На его огромных квадратных ладонях лежало воздушное женское платье яркой расцветки, напоминавшее рисунки Дюфи. Оно выглядело так изящно, так необычно, что вести дальше игру, которая была им необходима, чтобы продолжать жить, казалось почти невозможным. Это было похоже на то, как если бы карлики стали изображать нормальных людей и сами поверили себе, а потом неожиданно среди них появился человек нормального роста.
Камилл взял из рук Ванэнакера картонный лифчик, которому предстояло изображать прелести легкомысленной Адэ. Он был выпуклый, округлый, но такой жесткий! Камилл постучал по нему согнутым указательным пальцем, послышался глухой звук.
– Ну конечно, – сказал Альгрэн, – надо иметь мужество признать, дорогой Ванэнакер, что есть вещи, которые невозможно воспроизвести. Я, конечно, отнюдь не беру под сомнение искусство «раскладных», но…
«Раскладными» называли Ванэнакера и Параду. Они удивительно подходили друг к другу – один блондин, другой брюнет, оба одинаково рослые, около метра девяносто. У Параду, бывшего студента Центрального технического училища, были удивительно ловкие и умелые руки, он постоянно что-то мастерил из жестяных консервных банок, так же как Ванэнакер – из дерева и картона.
В дверь снова просунулась чья-то голова, и человек с добродушной усатой физиономией, похожий на угольщика, спросил:
– Ван, двух больших гвоздей не найдется?
– Нет, – сердито закричал Ван.
– Мне нужно полку прибить, – спокойно продолжал тот. – Я сделал полку, а она сегодня ночью свалилась мне на башку…
– Нет, хватит, довольно! Лезут ко мне со всех сторон… Нет у меня гвоздей! И инструмент больше никому давать не буду. Недавно какой-то подлец взял у меня стамеску и вернул мне ее зазубренной. Не дам, да и все! – И тут же сразу, без перехода: – Сколько штук тебе надо?
– Четыре, – с грустью сказал вошедший. – И кроме того, мне понадобятся кусачки.
– Кусачки! – вздохнул Ван, задетый за самое больное место. Он поднял руки к небу, как бы призывая его в свидетели, но сказал: – Приходи после ужина!
Камилл снял китель и остался в шерстяном свитере цвета хаки, который облегал его тонкую талию и плечи, слишком широкие если не для мужчины, то для женщины. Он приложил картонный лифчик к груди, поглядел на него, опустив подбородок, и, подражая капризной кинозвезде, закричал:
– Костюмерша! Послушай, Ван, помоги мне, я не могу так… Я буду жаловаться в Союз актеров!
Ван стал прилаживать лифчик. Огромные руки с прямоугольными пальцами работали поразительно ловко.
– Ты меня щекочешь, – сказал Камилл.
– Я тебе уже говорил, прибереги свою кокетливость для сцены, – сказал Франсуа. – Оставь это платье, и будем продолжать репетицию.
Однако у младшего лейтенанта Камилла, как у настоящей женщины или у настоящей кинозвезды, воплощающей самую природу женственности, были свои капризы, и он не успокоился, пока не примерил платье, приложив его к груди. Он смотрелся в большое зеркало, составленное из множества кусков, повернулся, качнул бедрами и легким движением руки выпустил на лоб светлую челку.
– По-моему, от такого зрелища кровь в голову бросается, – сказал Альгрэн. – Не понимаю, как вы можете привыкнуть к этому! Или, если угодно, наоборот – не следует ли опасаться, что вы к этому привыкнете, так же как и актеры елизаветинского театра. Не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь. Что вы думаете об этом, полковник?.
– Я, как вы знаете, старый солдат, – ответил Маршандье. – Гм! В сущности, я хочу сказать, что в 1924 году у нас в Марокко, в пустыне, я навидался театральных представлений…
В глазах у полковника зуавов промелькнула подозрительная искорка. Он покраснел и тяжело задышал.
– Простите, господин полковник, – перебил Альгрэн, – так же, как и у елизаветинцев, они у вас были, наверное, помоложе, я имею в виду актеров…
– Ах, скотина! – сказал Камилл с удивительно правдивой интонацией.
– Вот это самое и требуется, – воскликнул Субейрак. – Эта самая интонация и нужна! Давай твою реплику! И тон, и голос, и жест – как раз то, что нужно. Ну, давай…
Камилл послушно начал:
– «…утка с лимонным соком. А потом, ночью, мы поедем в Париж. Обожаю ночную езду…»
Потому ли, что за последние десять минут стало заметно темнее – с Балтики или из России двигались темные тучи, – потому ли, что до них доносились изысканно-прихотливые звуки чьей-то импровизации на рояле, или благодаря магическому воздействию актерской игры и снисходительности этих мужчин, лишенных женского общества, – как бы то ни было, несколько секунд иллюзия была полной – среди них появилась женщина.
Франсуа ликовал. Может быть, все-таки удастся поставить пьесу Салакру. Он снова начинал верить в успех при виде этого чудесного превращения… Волнуя всех своей искренностью, Камилл продолжал:
– «Прильнуть к человеку, которого любишь, запрокинуть голову к небу…»
– Нет, – тихонько перебил Франсуа. – Дальше не идет. Ты срываешься как раз на словах «запрокинуть голову». Ты смущен. Ты забыл, что ты женщина. Начинай снова. Больше чувственности.
– «Прильнуть к человеку, которого любишь, запрокинуть голову к небу…»
– Нет, это декламация!
Камилл снова повторил. Еще менее удачно.
– Сухо, черт возьми, не идет! Надо увлажнить! – воскликнул Франсуа в отчаянии.
В мастерской раздался взрыв смеха: у Франсуа появилось такое чувство, словно после долгого замедленного падения он, одетый в лагерную форму, очутился в другом мире, неизвестно как и откуда попав в эту странную комнату. Почему они смеются? Он оглядел полутемную мастерскую, и на его лице было написано такое удивление, что все, во главе с полковником Маршандье, захохотали еще громче. Он понял, наконец, двусмысленность своего восклицания. Конечно, товарищи правы, это смешно.
Решив обыграть положение, Камилл направился к своему режиссеру раскачивающейся походкой девки из мюзик-холла.
– Тото, свет! – крикнул Франсуа.
Хлынул поток электрического света. Камилл положил руку на плечо Франсуа и проговорил вполголоса с притворной печалью и подчеркнуто мужественным тоном:
– Я готов сделать для тебя все что угодно, Франсуа, но вот то, что ты у меня просишь, знаешь, старина, этого уж действительно я никак не могу.
Смех возобновился. В дверях показалась еще чья-то голова.
– Нету! – рявкнул Ванэнакер, не зная даже в чем дело.
Но пришедший явился не для того, чтобы выпрашивать клещи, гвозди или молоток. Это был Фредерик, композитор – мужчина лет тридцати, удивительной внешности, с глазами навыкате, скрытыми под стеклами очков, большими черными усами, нарочито неловкой клоунской походкой и привычкой к постоянному шутовству.
Der Komponist[30]30
Композитор (нем.).
[Закрыть] – как его прозвали – работал у рояля в соседней комнате для репетиций и зашел сюда, привлеченный общим смехом. Фредерик был шутником, какие часто встречаются среди музыкантов – общеизвестным примером может служить Эрик Сати[31]31
Эрик Сати (1866–1925) – французский композитор.
[Закрыть]. В армии Фредерик был лейтенантом, в гражданской жизни – судебным приставом; он обожал музыку и страдал оттого, что не может отдаться ей вполне. Эту драму, также как и свои взгляды и свою необычную чувствительность, он скрывал под личиной совсем другого человека, придуманного им от начала до конца. Это была маскировка, которой он защищал себя.
– Г’ебята, – закричал Фредерик, задыхаясь и выговаривая слова на какой-то особый, придуманный им лад. – Услышав, как вы смеетесь, я решил привести к вам душку Леблона, моего сателлита, моего гениального паразита, моего Леблона, мою музу. Леблон, заходи и поклонись господам офицерам.
Леблон был тощим рядовым, серым солдатиком, добрым и доверчивым парнем во всем, за исключением музыки, в отношении которой он проявлял беспредельную самоуверенность деревенского зазнайки. Он был вестовым и отлично играл на трубе.
– Вот пос’ушайте, г’ебята, – продолжал Фредерик, – нет, вы только пос’ушайте! Леблон, обожаемый, давай свою трубу. Вы сейчас ус’ышите, как он играет, г’ебята, я вам серьезно говорю – можно подумать, что это сам боженька вам в ухо мочится.
Это замечание добавляло к облику Фредерика еще одну черточку – антиклерикализм. Из трубы Леблона понеслись звуки бешеной, головокружительной польки. Леблон остановился, тяжело дыша, улыбаясь своими крысиными глазками. Раздались аплодисменты.
– Как я, бывало, ее заиграю у нас на танцульке – голубая полька называется, – что делалось!.. Девчонки, бывало, ко мне так и льнули на этих танцульках. Я и другую знаю, меня господин Фредерик научил.
Он снова заиграл. Полковник, поднявшийся с места, поздравил Фредерика.
– Это ваше сочинение?
– Моя аранжировка, господин полковник.
С высокопоставленными лицами, чье превосходство было бесспорным, Фредерик разговаривал нормальным тоном.
– Это Ave Verum Моцарта, переделанная в польку, – добавил он с серьезным видом судебного пристава. Полковник улыбнулся, засвидетельствовав таким образом, что зуавы не лишены чувства юмора, и вышел, не преминув оставить в кресле пачку сигарет, тут же подхваченную Камиллом.
Кинозвезда повернулась к Франсуа:
– Кто хочет закурить хорошую марокканскую сигареточку, которую мне оставил мой старик? Ну конечно, мой миленький режиссер!
– Ладно, ладно, ладно, – сказал Альгрэн. – Я… я пойду на лекцию.
Он посмотрел на Франсуа, потом на Камилла, изобразил на своем лице негодование и произнес:
– Боюсь, Субейрак, что ты не вполне отдаешь себе отчет в том, что делаешь, поручая женскую роль этому существу, предназначенному, более того – созданному для нее! Камилл, всячески приветствую вас!
– О чем ты сейчас будешь читать?
– О детях Магомета.
– Ты за или против них? – поинтересовался Франсуа.
– Я – против, – ответил Альгрэн, – но, естественно, это зависит от позиции, которая будет занята в отношении рассматриваемого предмета…
– И обратно… – сказал Фредерик.
Альгрэн пожал руку трубачу Леблону.
– Высокая честь! – воскликнул der Komponist, которого Франсуа называл «Трагическим снегирем» за его манеру свистеть, сочиняя свои произведения. – Высокая честь, душка Леблон, для рядового второй очереди, без чинов и званий, для пролетария, которого музыка преображает и возносит в платоновские сферы высшего общества лейтенантов и капитанов! Золотая нашивка почтила сейчас твой скромный грубошерстный рукав, о гений берегов Скарпа и села Жанлен-ле. О! Тебя приветствует один из наших уважаемых членов. Высокая честь, господин член университета, высокая честь, господин член!
– Мне бы лучше во Францию вернуться, – ответил Леблон.
– Как? Ты, великий Леблон, подвержен таким слабостям?
– Загвоздка-то в том, что я все ж таки побаиваюсь, господин Фредерик. Моя подружка, она мне вот чего сказала: «Твои черты навеки врезались в мою память».
– Ну и что же?
– Так вот, я все-таки боюсь, как бы она за другого не вышла, господин Фредерик.
Эта трогательная наивность рассердила Фредерика, на него нашел один из тех приступов словесного неистовства, в которых он весь словно выплескивался наружу. Он снова спрятался за личину чудака, которого он так часто изображал.
– Г’ебята, с’ушайте меня! Я сделал грандиозное открытие, которое потрясет Науку и Искусство. Неверно, будто мы живем на поверхности шара. Это иллюзия! Г’ебята, вы этому верите, потому что вам так говорили. На самом деле мы живем внутри шара… Вот это – правда. Знаю, знаю – вас удивляет, г’ебята, что мы не падаем в воздух? Я так и думал. Ошибка, грубая ошибка! Если земля внутри пустая, то всякая тяжесть должна притягиваться не к ее центру, а к середине той сферы, которая нас окружает. Слушайте внимательно, г’ебята…
Франсуа посмотрел на Фредерика. Что-то чрезмерное было в этом безумном потоке слов, что-то не похожее на его обычное балагурство. Камилл, ставший серьезным, заговорил с Франсуа о своей роли, но тот сделал ему знак замолчать. «Трагический снегирь» безумствовал, подражая какому-то неистовому лектору.
– Г’ебята, если копать достаточно глубоко, то мы через некоторое время выйдем к наружной поверхности земли, настоящей земли. И тогда мы увидели бы настоящее небо, то, которое мы не знаем! Г’ебята, вы понимаете, а? Копать, чтобы увидеть небо.
Он вдруг без перехода изменил тон:
– Послушай, Франсуа, вот ты, я уверен, ты понимаешь…
Фредерик многозначительно подмигнул. Этот жест при всем его шутовстве был полон странного смысла.
– К-как, окунем его в синьку? – спросил Тото.
– Нет, г’ебята, вы этого не сделаете. Это будет не по-д’ужески!
Однако именно это уже не раз случалось с ним!
Беспрерывно балагуря, Фредерик испытывал какую-то странную потребность доводить окружающих до тошноты своими шутками. Однажды, чтобы отплатить ему, ребята из театральной труппы окунули его по колени в синюю краску. Фредерик был счастлив, как никогда.
– Ах нет, – сказал он, – наипрекраснейшая мадемуазель Камилла, такая милочка, прямо телочка, она не разрешит в своем присутствии подобное эротико-мазохистское распутство.
Остальные молча переглядывались.
– Хорошо, хорошо, ребята, я ухожу. Я понял. Леблон – музыку!
Леблон поднес ко рту трубу и заиграл бешеную польку. «Трагический снегирь» вышел с видом избалованного повелителя, приветствуя незримые народные толпы и милостиво отвечая на восторженные крики.
– Все-таки с-с-следовало бы его окунуть, – заметил Тото Каватини. – Ты не сообразил, Франсуа.
– Паяц! – сказал Ванэнакер среди общего молчания. – У меня от этого пономаря под ложечкой засосало. Я хочу есть.
– Обжора, – машинально ответил Франсуа, как говорил когда-то в батальонной столовой.
Молодой офицер был озабочен. Трудно разобраться в этом Фредерике. Эта настойчивость, с которой он повторял «копать землю»… Знает ли он? «Штубе» для репетиций была смежной с их комнатой…
Христианнейший Тото, помешивая кипящий этуф-кретьен[32]32
Игра слов. Этуф-кретьен в буквальном переводе означает – «душитель христиан» (франц.).
[Закрыть], напевал:
Звезда эстрадная была
Голым-гола, голым-гола.
Амур-шалун тому и рад,
Звезде он дует в голый…
Камилл развалился в кресле, где до него сидел полковник. Он зевал, потягивался, гримасничал.
– Ах, – сказал он, – если бы можно было раздвоиться, я бы пригласил самого себя прокатиться по Булонскому лесу!
И тут же без перехода, повысив голос, обратился к Каватини:
– Тото, ты лицемер, лжесвидетель и иезуит, ты никогда не договариваешь до конца свою мысль!
– Ч-ч-чего не договариваю?
– Слов песни!.. А как твой этуф-кретьен?
– Он в-в-варится. Когда перестанете валять дурака, можно будет есть.
Субейрак задумчиво курил сигарету полковника, вернее пускал дым маленькими аккуратными облачками.
– Ван, кто этот парень, который приходил за кусачками? – спросил он наконец. – Я стоял спиной к нему. Судя по голосу, это был Эберлэн?
– Да, Эберлэн, – подтвердил Ван. – Эберлэн из двенадцатого барака, тот, что бежал.
– Образцовый беглец, – уточнил Камилл.
Артиллерист Эберлэн дважды бежал из лагеря и дважды был пойман и доставлен назад. В то время у немцев сохранялось еще более или менее спортивное отношение к побегам. Не говоря об этом вслух, они признавали, что пленным свойственно думать о побеге, а им следует сторожить их. Поэтому образцовый беглец Эберлэн отделывался каждый раз пятнадцатью сутками ареста за побег. Теперь эти мягкосердечные нравы стали меняться.
Франсуа спокойно заметил:
– Будьте осторожны с Эберлэном. Он отчаянный. Во-первых, его рожа сразу выдаст его. Ему достаточно показаться на глаза, чтобы самый тупой Posten[33]33
Часовой (нем.).
[Закрыть] из Померании сказал себе: «Вот парень, который задумал бежать». Мне это не нравится.
– Значит, – спросил Ван, – не давать ему кусачки?
– Нет, – ответил Франсуа. – Давай ему все, что он попросит. Я тебе потом объясню.
II
Начальник четвертой «штубе» двенадцатого барака делал очередное сообщение за истекший день, 7 апреля 1942 года, когда в комнату вошел Субейрак. Он искал Эберлэна.
На мгновение он ощутил эгоистическое удовлетворение при мысли о том, что ему удалось избежать общей участи военнопленных и что он не живет в общем бараке, среди этой скученной, обезличенной людской массы. Стандартный жилой барак, вроде того барака, где помещался театр, делился на четыре комнаты – «штубе». Деревянные стены были окрашены в угрюмый зеленый цвет, напоминавший вагон. Над койками мрачной черной краской выведены номера. Вход в «штубе» вел через двойную деревянную дверь. Комната была заставлена дощатыми койками, возвышавшимися одна над другой в три этажа, – внизу, у пола, на уровне груди и наверху. В каждой «штубе» помещалось сорок восемь таких коек, число живущих в «штубе» колебалось от сорока до сорока восьми. Во время утреннего подъема, умывания и еды эти трущобы военного образца кишели людьми, которые толкались и мешали друг другу.
Пришлось ждать, пока начальник «штубе» закончит чтение немецких приказов и указаний начальника лагерного блока, сообщений о продуктах, которые можно получить в КО – коллективной продовольственной лавочке с громким названием «Комиссия ординарцев», о последних сальто правительства Виши. Однако все слушали внимательно. Каждый раз повторялась та же картина: все, что приходило из Свободной Франции, вызывало настороженное внимание, глаза прищуривались, люди пытались разгадать предполагаемый скрытый смысл слов для того, чтобы потом снова, с тем же разочарованием, вернуться к печальной лагерной действительности. В лагерях все еще называли Виши Свободной Францией, тогда как в самой Франции говорили просто «неоккупированная зона» или «ноно»[34]34
«Zone non occupée» (франц.) – в беглой речи звучит как ноно.
[Закрыть].
Начальник «штубе» – кавалерист, сохранивший выправку и даже некоторую надменность в осанке, заканчивал свое сообщение:
– И наконец, господа, полковник, старшина лагеря, напоминает вам, что по гигиеническим соображениям использование кухонной посуды в качестве ночных горшков запрещается.






