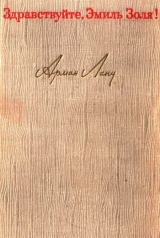
Текст книги "Здравствуйте, Эмиль Золя!"
Автор книги: Арман Лану
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц)
Золя – торговец книгами, использовал свой опыт и поставил его на службу Золя-автору. Об этом много говорили. Были пущены в ход такие слова: «гнусный реализм»! Но распродажа второй книги шла слабо. Золя откровенно писал Валабрегу:
«Вы спрашиваете, какой доход я получил от своей книжки. Сущие пустяки. Книга никогда не прокормит автора. Я заключил с Лакруа договор, который предоставляет мне 10 процентов… Значит, я получаю 30 сантимов за отпечатанный экземпляр. Всего отпечатано полторы тысячи экземпляров. Посчитайте сами…»
Золя размышляет над этими цифрами и приходит к выводам, последствия которых сильно скажутся на структуре его творений:
«Заметьте, мой договор очень выгоден. Он дает право публикации романа в газете. Любое произведение, чтобы прокормить автора, должно сначала пройти через газету, которая платит по справедливости, от 15 до 20 сантимов за строку».
Со времени выхода в свет «Исповеди Клода» Золя обуяло страстное желание расширить круг читателей и получить побольше денег. Он пойдет по тому же пути, по которому шли почти все романисты XIX века, – по пути романа-фельетона. Это очень важное обстоятельство: роман пишут иначе, имея в виду, что он будет печататься в газете с продолжением.
В это же время в квартире Золя на бульваре Монпарнас, 142 (опять новый адрес!), и в издательстве Ашетта производят обыск. Полицейские власти не преминули заметить, что он когда-то публиковал стихи в еженедельнике Клемансо «Травай». Золя чувствует, как над его головой сгущаются тучи. Он уже давно подумывает распрощаться со службой у Ашетта и заняться только литературой. Со смертью Луи Ашетта его протеже потерял доверие фирмы. Авангардистская деятельность Золя пришлась не по душе правлению фирмы. И он подает в отставку. Он намеревается заменить службу в издательстве «редактированием некоторых книг, заказанных у Ашетта». И уход из издательства – своего рода джентльменское соглашение.
Он сам подчеркивает свою скаредность:
«Я буду выколачивать деньги, и чем больше – тем лучше».
Как же изменился этот человек! Человека, переписывавшегося с Валабрегом, и автора сентиментальных писем Сезанну отделяет пропасть.
Таковы изменения, происшедшие в результате публикации «Исповеди Клода». Мы уже видели, каким превосходным критиком оказался генеральный прокурор. Этого проницательного чиновника мог побить только сам Золя:
«Некоторые главы написаны бледно, в них много наивного. Иногда не хватает порыва, на смену наблюдателю приходит поэт, тот поэт, у которого еще на губах молоко не обсохло. Произведение еще не зрелое, оно написано ребенком, который плачет и возмущается».
Сегодня мы ничего не можем добавить к этим двум мнениям: мнению цензора и мнению писателя.
Глава втораяГазета за одно су. – Наглая откровенность в рубрике «Спрос и предложение». – «Хам» Ипполит де Вильмессан.
– Золя – рецензент по вопросам литературы в «Эвенеман». – 31 января 1866 года.
– Разговор в Английском кафе. – Центральный рынок. – «Слепой» критик.
Двадцать пять лет назад Эмиль де Жирарден основал дешевую газету «Пресс» и этим мероприятием чисто экономического порядка совершил полный переворот в журналистике. Газеты, полтора века бывшие проводниками довольно грубых, но тем не менее оригинальных, сыгравших свою роль в революции 1789 года идей, благодаря его инициативе превратились в могучее средство воздействия на массы.
Когда Золя, этот скромно одетый Растиньяк, занялся журналистикой, первый переворот в газетном деле, вызванный таким революционным мероприятием, как снижение стоимости газеты до одного су, уже совершился. Второй переворот затронул полиграфическое производство: через два года после прихода Золя в редакцию Мариони приобретает для «Пти журналь» ротационные машины и печатает газеты по тридцать шесть тысяч экземпляров в час.
Пресса основательно изменила нравы и политику и, несмотря на препятствия, чинимые императором, становилась безответственной (что мы ощущаем и сегодня). Словом, она угождала и ловкачам, льстящим публике, и самой публике, жаждущей, чтобы ей льстили. Конкуренция заставляла газеты все больше и больше подлаживаться под вкусы наиболее многочисленных, Но менее Культурных подписчиков.
Между тем с увеличением тиражей росло политическое влияние газеты; концентрация капитала вела к объединению газет в тресты, что облегчало управление. Так создавалась газетная монополия.
Великим знатоком газетного дела был Ипполит де Вильмессан. Это ему принадлежала идея: за четыреста франков в месяц предоставлять в своей газете подвал для рекламы. Вильмессан первым поставил рекламу на широкую ногу.
Вильмессан, «которому типографская краска кружила голову», был настоящим гигантом. Коротко подстриженные волосы, широкие ноздри, мясистая нижняя губа, двойной подбородок – вот портрет этого чувственного и вульгарного человека. «Огромная голова тюремного надзирателя, сидящая на плечах грузчика»[21]21
Слова Анри Рошфора.
[Закрыть]. Казалось, он сошел со страниц романа Бальзака. Вильмессан был когда-то хористом, браконьером, страховым агентом, актером.
Как-то его осенила мысль: а не поэксплуатировать ли женское тщеславие, создав какой-либо журнал – «Сильфиду» или «Фемину» (подобные нынешнему журналу «Вог»), В 1840 году ему удалось осуществить свою идею. Этот плут умел разговаривать с женщинами. Но этого показалось ему мало, он начал выпускать газетенку «Лампион», в которой с целью вымогательства шантажировал влиятельных лиц. Но состояния на этом ему сколотить не удалось. Однако путь был правильным: один из его учеников Рошфор пойдет по нему, издавая свой «Лантерн».
Только в 1854 году, основав газету «Фигаро», Вильмессан добился успеха. Его газета, выражая интересы легитимистской реакции, консерваторов, высшего общества, а также поборников «добропорядочной жизни» и таких же нравов, ополчилась против Империи. Бертран де Жувенель дал «Фигаро» великолепное определение: «кропильница, полная купороса». Эта оппозиция, главным образом светская, пугала сторонников Империи – этих второразрядных выскочек, своего рода незаконнорожденных детей имперских завоеваний начала века. Морни, единоутробный братец Наполеона III, ироничный, элегантный и надменный Морни, покровительствовал Вильмессану.
В 1865 году Золя написал Альфонсу Дюшену, сотруднику Вильмессана, следующее письмо, которое можно было бы поместить в «Парфэ секретэр» как образчик наглой откровенности под рубрикой «Спрос и предложение».
«Я хочу… побыстрее добиться успеха. И я вспомнил о вашей газете, которая может скорее всех составить мне имя. Итак, буду с вами откровенен. Я посылаю вам несколько страниц прозы и спрашиваю напрямик: это вам подходит?.. Я молод и, признаться, верю в свои силы. Как мне известно, вы любите пробовать людей, открывать новых редакторов. Испытайте меня, откройте меня. Во всяком случае, вам будет принадлежать пальма первенства».
Только такой откровенностью Золя мог привлечь внимание патрона! Вильмессан только что основал «Эвенеман». Итак, Золя входит в редакцию на улице Россини. Под саркастические взгляды редакторов он бросает портье:
– Мне назначена встреча господином Вильмессаном.
Какой-то худосочный субъект в люстриновых нарукавниках ставит перед ним песочные часы и невозмутимо роняет:
– Две минуты. Обычная норма! Как для варки яиц!
Все давятся от смеха.
Вскоре молодого человека ввели в директорский кабинет. Гигант был в ярости:
– Послушайте-ка эту белиберду, Шолль!
И он читает:
«– А! Это вы!
– Я.
– Я вас ждал.
– Вот и я.
– Вам повезло.
– Да, повезло.
– Правда?
– Правда.
– Ну и как?
– Все в порядке.
– Ну-с, побеседуем!
– Побеседуем!»
Вильмессан рычит:
– Скажите старику Дюма, я заплачу ему не больше, чем по половинной ставке за каждую неполную строку!
– Литература тут ни при чем, речь идет о договоре! – заметил Шолль, этот изнеженный Орельен с моноклем.
Вильмессан улыбнулся.
– Отличный договор, Шолль!
И, повернувшись к посетителю:
– Значит, вы служите у Ашетта?
Директор изучающим взглядом окидывает этого молодого человека с темными волосами, с глубокими черными глазами и некрасивым лицом.
– Видите ли, сударь, – начал Золя, – речь пойдет о библиографической хронике. Этого еще никогда не делалось!
– Хм… Я только что выставил за дверь одного типа, который мне предложил то, чего никогда не делалось. Словом: он хотел по дешевке пристроить свои объявления о погребении. Итак, слушаю вас.
– Я вам буду поставлять короткие, на двадцать-тридцать строк, рецензии на новые книги. Кроме того, если в печати появится сообщение о какой-нибудь значительной вещи, я обязуюсь раздобыть самый интересный отрывок из нее, который можно опубликовать в «Эвенеман»…
– Я слушаю, милый мой, продолжай, продолжай…
– О, я знаю, что вас тревожит, сударь. Вы боитесь, что библиографическая хроника вытеснит платную рекламу? Верно? Но четырехгодичный опыт позволяет мне утверждать: чем больше газета говорит об издательствах, тем больше издательства печатают объявлений о новых книгах в газете…
– Любопытно!
– Фирма Ашетт, например…
– Например, – передразнил он Золя. – Неплохая штука!
И разразился звонким хохотом.

Сезанн в 1859 году.

Золя в 1865 году.

Золя в 1872 году.

Александрина Меле.
Вильмессан любит пошутить. Однажды он опубликовал небольшое объявление: «Мадемуазель Генриетта де… очень богатая, благородная и красивая девушка, ищет мужа: примерно двадцати – тридцати лет, поэта, музыканта, художника или скульптора, не имеющего никакого состояния». Целый месяц он развлекался, читая ответы. Хочешь, не хочешь, превратишься в хама.
«Хам» направился к креслу, на краешке которого примостился Золя.
– Это идея! Парень не глуп, но он продает мне молочко, а сливки снимает сам! Ну да! Он продает мне материалы, которые принесут известность его издателям. И он уже приступил к практическому осуществлению плана, разработанного с Ашеттом. Когда же я скажу ему «да», он будет ходить к Ашетту, Лакруа, Этцелю и к другим, напоминать им: «Ведь именно я обеспечиваю успех ваших книг через „Эвенеман“. Надеюсь, вы меня понимаете!
– О сударь!
– Э, брось! Я называю такую рекламу с двойным боем! Например: я пишу статью о некой даме. Она платит. Это раз. Я вскользь упоминаю в статье что-нибудь про ее обойщика или портниху. Естественно, опять платят. Это два. Двойной бой! Неплохая штука! Первая статья – послезавтра. Копию – до шести часов.
Выйдя из кабинета, Золя не обратил никакого внимания на собратьев по перу и направился к Бульварам, счастливый и смущенный».
31 января молодой журналист покупает «Эвенеман». Его фамилия красуется на первой странице в статье, написанной самим Вильмессаном:
«К нашим читателям!
Газете „Эвенеман“ не хватает раздела литературной критики, чтобы отвечать всем требованиям, которые предъявляются к ней. Раздел книжных обозрений пользуется – справедливо или нет – репутацией скучного раздела [sic!], который сковывает льдом душу читателя… называя имя г-на Эмиля Золя, мы не открываем нового автора. Молодой писатель, прекрасно осведомленный во всех деталях книжного дела…»
Золя кажется, что он слышит сочный смех патрона.
«…человек остроумный, с воображением… то немногое, что им написано, и написано превосходно, произвело сенсацию в прессе…»
Если бы Вильмессан говорил, а не писал, Золя мог бы подумать: «Да он насмехается надо мной!» Но ведь так было напечатано в газете!
«…Своевременно и даже раньше, если представляется возможность [еще бы!] подкараулить выходящую книгу [учтите!], беспристрастно и кратко оценить ее, отметить любопытные страницы, абзацы… Если мой новый тенор преуспеет, тем лучше. Если же он провалится – ничего страшного. Он сам объявляет, что в этом случае он расторгает ангажемент, и я вычеркну его из моего репертуара. Я кончил.
И. де Вильмессан».
– Вот ловкач! – шепчет «новый тенор», изумленный, восхищенный и польщенный.
Первый обзор в «Эвенеман» Золя посвятил работе Тэна «Путешествие по Италии». Журналист рассказывал о взглядах своего мэтра на «литературу и политику Франции завтрашнего дня». Это была заслуженная дань уважения тому, кто столько сделал, чтобы склонить Золя к реализму.
Кроме того, Тэн ведь печатался у Ашетта!
В течение тридцати дней Золя пишет, не зная еще, что готовит ему судьба. Тем временем 7 февраля в «Эвенеман» поступил новый сотрудник – Жюль Валлес. С уст патрона не сходит его имя. Он положил ему полторы тысячи франков в месяц – огромная сумма! Золя частенько видится с Шоллем [это тоже персона – тысяча двести франков!]. Они потягивали пиво в кафе «Риш», в кафе «Мюлуз» или в кафе «Мадрид». Этот старик с моноклем, на семь лет старше Золя, совсем не был так зол, как его язык, и его откровенные рассказы о Париже не прошли бесследно для молодого журналиста. Бродя по Бульварам, кого только они не встречали! Бодлера с подкрашенными волосами зеленого оттенка, Гамбетту с вечно разинутым ртом, Рошфора, своего рода единственного мушкетера, Вилье де Лиль-Адана, с осанкой викинга, Сент-Бёва, рыжеватого толстячка с поросячьими глазками.
Там же Золя встречал белокурого красавца с ласковым взглядом, который только что напечатал свои стихи «Возлюбленные». Это был провансалец из Нима, ровесник Золя. Бывший житель Экса написал комедию «Уродка» и драму «Мадлена»[22]22
Позднее вы увидите романтическую версию «Мадлены Фера».
[Закрыть]. Выходец же из Нима готовил к изданию сборник сентиментальных рассказов о Провансе. Он собирался назвать его «Письма с моей мельницы». «Вроде моих „Сказок Нинон“», – заключает Золя.
Несмотря на мечтательный вид, Альфонс Доде был ловким человеком. И по самой простой причине пользовался большим влиянием у Вильмессана: Доде был секретарем герцога де Морни. Именно он поддержал дух Золя, обеспокоенного судьбой своих статей, о которых никто не обмолвился ни словом:
– Загляните-ка к крокодилу.
Крокодилом оказался кассир. Золя зашел к нему. И вот этот крокодил выложил ему 500 франков! Золя побледнел, когда почувствовал на своих плечах чьи-то могучие руки. Это был «хам», не перестававший подшучивать над радостью «малыша».
– Что поделываешь сегодня вечером?
– Да… я… ничего, сударь.
– Приходи ко мне в полночь.
Около полуночи Вильмессан потащил с собой Золя, который несколько часов назад спрашивал себя: интересно, появится ли завтра его хроника? Патрон вошел в Английское кафе – «где самые лучшие обеды». Самоуверенный ловкач шел вперед по залу с бесчисленными зеркалами, ступая по красным мягким коврам с золотыми иероглифами. Среди ослепительной роскоши сновали холеные молодые люди с нафабренными бакенбардами, напоминающими плавники рыб… дамы полусвета – эти орхидеи из плоти и крови, таящие яд в своем сердце.
Золя был одет вполне прилично, если не считать его промокших ботинок. Он решил на первый же гонорар приобрести пару лаковых туфель и никогда впредь не попадать в такое дурацкое положение.
Разговор перескакивал с одной темы на другую.
– У Мериме была любовница испанка! Мне рассказал об этом Вьей-Кастель.
– Конечно, Баденге истерик! Это он унаследовал от маменьки.
– Шолль, в один прекрасный день вам придется переспать в Мазасе[23]23
Мазас – тюрьма для одиночного заключения в Париже. – Прим. ред.
[Закрыть].
– Ну как, Кора Перл по-прежнему доступна?
– После конкурса бюстов – еще больше!
– Конкурса бюстов? – спросил Золя.
– Да, был такой конкурс для принца Уэльского. В нем участвовали Маргерита Белланже, Адель Куртуа, эта очаровательная дурочка, Анна Делион, известная идиотка, которая треплет языком, как торговка рыбой с Центрального рынка.
– И Баруччи, которая считает себя первой распутницей на свете!
– Не будем никого разочаровывать.
– Кора Перл все-таки одержала верх.
– И без всякого труда!
– Принц объявил: «Я несказанно доволен тем, что именно одна из моих соотечественниц оказалась победительницей, ибо часто говорят, что у нас в Англии нет таких женщин».
– А Кастильон? Неужели о ней забыли?
– Гортензия Шнейдер заставила себя уговаривать выступить в «Прекрасной Елене». С тех пор она полонила сердца монархов всего мира.
– Она стала слабостью принцев!
– А Паива отгрохала себе особняк!
– «Ки-пэ-и-ва!»[24]24
Игра слов. «Qui-paie-y-va» по-французски означает «Получает тот, кто платит». – Прим. перев.
[Закрыть] – алчная особа! Чувствуется, что в молодости ей многого не хватало.
– Чего не хватало?
– Вы знакомы с Гэфом? Как-то он поспорил, что Паива будет принадлежать ему даром. «За полчаса десять тысяч франков», – заявила она. И он пришел к ней с пачкой банковских билетов и бросил ее на кровать.
– Конечно, не Паиву, а пачку.
– Да помолчите же, Шолль, дайте закончить! «Сначала посчитайте», – говорит Гэф Паиве. «О, сейчас нет. А во время… это меня займет». Черта с два! Гэф красивый малый, и она считала медленно! «Но здесь же двенадцать тысяч, Гэф!» – говорит она. «Какая разница? Они же фальшивые!» Она здорово облаяла его, выплеснув на свет божий все портовые ругательства. Тогда он пробормотал: «Я восхищен, маркиза, что помог вам воскресить в памяти прекрасные воспоминания о днях вашей молодости!» Он собрал билеты, которые она бросила ему в лицо, и назавтра постарался довести до ее сведения, что… билеты были настоящие. Да… Золя, вот история, о которой вам стоило бы написать.
Ноги у Золя окоченели. Чертовы ботинки!
– Не беспокойтесь, сударь, – ответил Золя, – я ничего не забываю.
Огромный, раскрасневшийся Вильмессан казался довольным и всемогущим. Кафе кишело шпиками мсье Клода, и Вильмессан знал, что все его слова будут точно переданы префекту. При встрече это так позабавит обоих: «Позвольте, позвольте, – будет протестовать Вильмессан, – я никогда не говорил, что Наполеон был узурпатором, я мог назвать его авантюристом. А обозвать жуликом добряка Фулда! Как можно! В худшем случае канальей».
Директор газеты и полицейский, готовые при малейшем промахе перегрызть друг другу глотку, понимающе переглянутся.
Ну что ж, тогда и можно будет поразвлечься. А здесь такая же скучища, как в Компьене.
О нет! Для Золя этот вечер не пропал даром. Со всеми этими наглыми красотками, торгующими своими прелестями, танцующими шайю, с этими великолепными шлюхами, выставляющими напоказ свои пороки, приперчивающими свое опасное очарование самым едким цинизмом, бросающими вызов пуританскому обществу, которое их ни во что не ставит, со всеми этими дамами ордена дьявола Золя сведет счеты на страницах своих романов.
Новый павильон Бальтара сверкал огнями. Хорошо одетые мужчины в блестящих цилиндрах проходили мимо, вынуждая сторониться тех, кто вносил свежую рыбу, овощи, фрукты и мясо. Золя глотал слюну. Дразнили запахи. Ноздри его раздувались. Надо будет написать что-нибудь об этом ночном урчании в чреве Парижа. Да, да, написать обо всем этом! А почему бы и нет? Создать монументальный роман, показать всех этих людей, от могучих в огромных шапках блузников, похожих на тени, вырвавшиеся из старинного Дворца чудес[25]25
Пристанище нищих и бродяг в средневековом Париже. – Прим. ред.
[Закрыть], до прекрасной еврейки, вытащенной из варшавского гетто и спавшей с императором!
В мясной павильон принесли двенадцать выпотрошенных кабаньих туш, покрытых серой щетиной, которая еще больше подчеркивала жемчужную белизну сала. Какая-то девица замерла от восхищения, увидев такую гору мяса. Рядом с ней стоял мясник с выпуклым лбом, раздувающимися ноздрями, в длинном фартуке, покрытом красными, желтыми, розовыми пятнами. Он сжимал в руках тесак.
– Мясо, мясо, мясо, – выдохнул Золя.
Сладковатый запах преследовал его. Он пробормотал:
– Вот что следовало бы изобразить!
– Изобразить?
– Я хочу сказать… Разве это уже не готовая картина, которая была бы более человечна, чем все их чахлые картины?.. И новое, да, новое…
– Вы любите новое! – воскликнул Вильмессан. – Я тоже. Вы разбираетесь в новой живописи?
– Я знаком со всеми известными молодыми художниками.
– Мне рассказывали о Мане. Шут… Забавно было бы видеть в Салоне полотна, отобранные вами…
– Мои друзья смеются над Салоном. О господин Вильмессан, доверьте мне Салон! Никто не знает, что происходит и…
– Все знают, и все молчат. Впрочем, это стоящая мысль, мой милый.
И с присущим ему фальстафовским остроумием бросил:
– Да знаете ли вы, несчастные тупицы, что вскоре сделает с Салоном этот малый, похожий на школьного надзирателя, выгнанного за распутство… Вы думаете, что он слеп как крот! Так вот! Этот слепой вам утрет нос! Я ему доверяю Салон. Сомневаетесь? А я вот хочу платить слепому критику живописи! Да!
Побагровев, он с силой хлопнул себя по ляжке:
– Идем отметим это событие в кабачке «Роше-де-Канкаль». Остзейские устрицы там бесподобны.
И, повернувшись к девице, которую одолевали горькие думы, бросил:
– Идем с нами, замарашка. Хватит с меня светских баб!
Глава третьяБатиньоль в 1866 году. – Кабачок «Папаша Латюиль» и кафе «Гербуа». – Г-н Мане.
– «Прощай, критика искусства!» – «Ненавидеть – значит любить». – «Мой Салон» и «Что я ненавижу».
– Сена у Беннекура. – У матушки Жигу.
Золя вышел из омнибуса на площади Клиши и зашагал по «главной улице» Батиньоля, направляясь к развилке. Справа виднелся Монмартр со своими мельницами, где еще не было и в помине Сакре-Кёр, слева тянулся Батиньоль, сады, фермы. Присоединенный к городу каких-нибудь шесть лет назад, этот район все еще имел вид предместья, расположенного за городской стеной.
Парижские виноградники все еще давали сухое вино зеленого цвета, которое было, пожалуй, позабористей, чем белое крепкое, словом, не вино, а настоящий «вырви глаз». Это вино пили в кабачке «Папаша Латюиль», названного так в память владельца кабачка, свершившего героический поступок в 1814 году (кстати, кабачок этот писали в свое время импрессионисты); пили это вино и в кафе «Гербуа»[26]26
Теперь ресторан на авеню Клиши, дом 9.
[Закрыть], где были и сад, и беседка, и тенистые запущенные аллеи. Туда нередко заглядывал и Золя.
Золя вошел в общий зал. Публика отборная – кругом бородачи при черных галстуках. Большинство в бархатных куртках. На столах пивные кружки рядом со стаканами золотисто-зеленого, фиолетово-красного вина. Белокурый, с благородной осанкой, худощавый мужчина с холеной раздвоенной бородкой, с насмешливым ртом и светло-серыми живыми глазами, болтал в окружении группы людей.
– А! Золя! Присоединяйтесь же! – бросил он почти небрежно.
Кивнув всем присутствующим, молодой писатель пробрался к столу. Проходя мимо, он заметил Фонтен-Латура, Ренуара и добряка Дюранти, который подмигнул ему, попыхивая трубкой. Тот, кто приглашал Золя, пожал ему руку, усадил между собой и красивой натурщицей и заметил:
– А ведь у вас, Золя, скоро будет врагов не меньше, чем у меня!
Между тем вокруг них комментировали «Эвенеман». Какой-то рослый мужчина с лицом архангела читал вслух, выговаривая слова с сильным южным акцентом:
«Г-ну Мане уже обеспечено место в Лувре, как и Курбе…»
Это был красавец Фредерик Базиль (Золя хотел бы походить на него), один из самых одаренных художников этого поколения.
– Золя, тебе следовало бы потрясти в гардеробе Мейссонье!
– Салон – это Пер-Лашез живописи!
Довольный Золя сидел рядом с Эдуардом Мане – изысканно одетым, в перчатках, с тросточкой в руке, с цилиндром, небрежно брошенным рядом.
О! Его статьи не остались незамеченными! Первая требовала новой выставки для «отверженных», вторая рассказывала о «сборище посредственностей» в Салоне, третья посвящалась Мане. Просвещенный Сезанном и другими художниками – Писсарро, Франциско Оллером, Гийме, которому он тайно отдавал предпочтение, Золя с присущей ему страстностью обрушился на верховных жрецов искусства:
«Я решительно утверждаю, что жюри в этом году не было беспристрастным в своих суждениях… Я открыто признаюсь, что восхищаюсь г-ном Мане; я заявляю, что меня мало интересует вся эта рисовая пудра Кабанеля…»
В этих статьях, хотя еще слабо, но уже чувствовались и тон и стиль Золя-памфлетиста.
– Знаешь, Золя, был такой художник, его считали учеником Курбе. И этот парень всего боялся! Он дважды посылал свои картины, и оба раза под разными фамилиями! Холсты, подписанные его собственным именем, были отвергнуты, другие же – приняты!
– Несчастный, из-за того, что его отвергли, покончить с собой!
– Почему он подписывался: «Клод»?
– А «Исповедь Клода» разве ничего не говорит!
Разгоряченный Золя, сидя за столом Мане, продолжал разглагольствовать:
– А Фулд, дружище! Ахилл Фулд, министр финансов, биржевой игрок и член Академии изящных искусств! Я раскопал его речь, посвященную награжденным художникам. Это было в 1857 году. «Искусству грозит гибель, если оно отходит от подлинной красоты, от традиционной манеры великих мастеров и следует по пути новой школы реализма».
– Фулда – вон, на биржу!
– Понятно, почему эти господа предпочитают вашим полотнам засахаренные деревья и домики из запеченного паштета, пряничных добряков и миленьких дамочек из ванильного крема…
Уж если журналист попросил у Вильмессана Салон, значит, он чувствовал необходимость борьбы. Желание принять участие в этой борьбе зародилось еще в те вечера, когда по четвергам Золя, его мать, а потом и Габриэлла радушно принимали Сезанна, Байля, Нуму Коста, Камилла Писсарро, Солари… Золя разделял их гнев. Да, тяжела рука их судей! Они отвергли целую группу реалистов: Сезанна, Гийме, Ренуара, даже Мане… Только Курбе допустили в Салон! Академики по-настоящему трепетали от ужаса перед импрессионистами!
Золя оказался в центре разгоревшейся борьбы. Сезанн направил директору департамента изящных искусств, графу Ньюверкерке, письмо, которое, возможно, было подсказано Золя, а может, и отредактировано и, не исключено, написано Эмилем:
«19 апреля 1866 г., Париж.Милостивый государь,
я имел честь обратиться к вам по поводу двух моих картин, недавно отклоненных жюри.
…Я не могу согласиться с несправедливым суждением моих коллег, коих я не уполномочивал давать оценку моим работам.
Я пишу вам, чтобы настоять на своем требовании. Я хочу обратиться к мнению публики и показать ей свои картины, несмотря На то, что они были отвергнуты. Желание мое не кажется мне слишком непомерным, и если бы вы спросили художников, находящихся в моем положении, они бы единодушно ответили, что не признают жюри и желают тем или иным образом принять участие в выставке, ибо она должна быть доступна для каждого серьезно работающего художника.
Пусть же будет восстановлен „Салон отверженных“. Даже если я буду выставлен там один; я страстно желаю, чтобы публика по крайней мере узнала, что мне не хочется иметь дело с г-ми из жюри, так же как они не желают иметь дело со мной…»
Время изменило Сезанна! Некогда колеблющийся и неуверенный, спрашивающий себя, не лучше ли уступить настояниям отца, Сезанн находит свою дорогу. В отличие от Золя выход он видит в изменении техники письма. Этот юный буржуа, католик-провинциал и консерватор, был новатором формы, но не сюжета. Автопортрет, портрет сестры Марии и отца, читающего «Эвенеман», писаны еще в манере Домье и Курбе. В двадцать семь лет Сезанн не был тем новатором, который отказался от прежней свето-теневой манеры и пользовался контрапунктом цвета, противопоставлением холодных и теплых тонов. Он продолжал работать и над валером, но утверждал свое «я» резкостью рисунка и вулканической фактурой.
Департамент изящных искусств решил не открывать «Салон отверженных» «по причинам общественного порядка». Золя молниеносно атакует «тех, кто кромсает искусство и предлагает публике лишь изуродованный труп». Интуитивно он чувствует:
«Мне предстоит нелегкая работа, у многих я вызову недовольство, решившись открыто высказать истинную и горькую правду, но при этом я испытаю подлинное наслаждение, избавившись от переполнявшего меня чувства возмущения».
В душе этого честолюбивого честного человека, которого возмущали преступления и каверзы Империи и которому опротивела безграничная диктатура публичных девок, происходило какое-то странное брожение, заставлявшее его стремиться к некоему внутреннему единству.
Разумеется, Золя чувствовал себя в Батиньоле намного лучше, чем на Бульварах. Однако его неотступно преследовала мысль, что он скоро умрет. Вот выйдет из дому и умрет. Прямо на улице. У дверей кафе «Гербуа». Если Базиль, стучавший рядом с ним костяшками домино, поставит шестерочный дупель, Золя умрет… Страх – его частый гость. Обычно он испытывал его тогда, когда вокруг было слишком много народу.
– Вы чем-то удручены? – спросил Мане.
– Да, немного, дружище… Я… Что-то не по себе…
– Отправляйтесь-ка домой! Приходите ко мне вместе с женой. Я был бы счастлив написать ваш портрет.
У него уже был портрет, сделанный Сезанном (и Солари тоже), но… но Золя считал, что он делал им тогда одолжение, согласившись позировать. На сей раз положение было иное… Кстати, что поделывает Сезанн?
– Гийме, ты не видел Сезанна?
– Вчера он закатил у нас скандал. Он всем пожал руку, а потом перед Мане церемонно снял шляпу и проговорил в нос: «Не подаю вам руки, господин Мане. Я уже восемь дней не умывался». Затем затянул ремень, похожий на пояс землекопа, и ушел.
– Эх!.. – вздохнул Золя.
В статьях в «Эвенеман» Золя не упомянул имени Сезанна. Сезанн слишком уж углубился в свои изыскания! Неужели он должен был компрометировать общее дело из-за пристрастной дружбы? Вероятно, именно это молчание выводило из себя Поля. Золя встал и незаметно вышел. Главная улица Батиньоля была плохо освещена; в тени ворот смутно вырисовывались силуэты влюбленных. Молча, не останавливаясь, Золя все шел и шел… Тоска угнетала его, но сердце ликовало…
А между тем в газету Вильмессана все сыпались и сыпались письма протеста. Поначалу он забавлялся этим, пока граф Ньюверкерке не дал ему понять, что в Тюильри начинают коситься на эту шутку. Некий художник, подписавшийся инициалами, высказал пожелание «хоть немного улучшить отдел критики, передав его в чистые руки». Жюль Бретон, «великий мэтр Французской школы», разыскивал номера газет, содержавших «шутовскую критику смехотворного г-на Клода». Вильмессан держался с достоинством. Однако когда торговцы картинами перестали давать платные объявления, он вызвал критика к себе:
– Милый мой, все, что вы делаете, – забавно, но я не могу продолжать вашу затею. Кроме того, ваш Мане какой-то фанатик, а вы сами превращаетесь в Бланки от литературы. Я должен сделать вид, что уступаю стаду подписчиков. Вы будете продолжать защищать ваших друзей… Погодите! Рядом с вами будет какой-нибудь другой критик, который заступится за других. Я остановился на Теодоре Пеллоке…
– Как, как?..
– Теодор Пеллоке. Три статьи для вас, три – для него, и будем продолжать.
Золя поклонился. Он давно собирался – и кстати, совершенно беспристрастно – тепло отозваться, хоть и с некоторыми оговорками, о недавних работах реалистов, в частности о Курбе, Милле и Руссо. Он написал о них в пятой и шестой статьях. Многим это пришлось не по вкусу. Стало ясно, что критика бьет отбой. Тогда Золя пишет последнюю статью: «Прощай, критика искусства!».
Эта статья имеет принципиальное значение, ибо она ясно показывает основную разницу между позицией Золя, защищающего художников, и той позицией, которую он из тактических соображений займет тридцать лет спустя:







