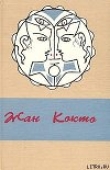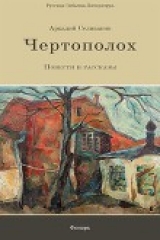
Текст книги "Чертополох"
Автор книги: Аркадий Селиванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
V
Любит старец Виталий тихие ночи летние, особенно, когда месяц серебряный встанет над соснами. Бродит он в такие ночи по сонному лесу, или стоит подолгу недвижный, словно слушает что-то: быть может, шорохи ночные, вздохи теплого ветра, или душевные думы свои, безмолвные молитвы…
Добрый ласковый друг эта ночь для таких, как Виталий. Всю свою нежную тихую красоту открывает перед ними природа и, если есть на земле радость чистая, то пьет ее человек этой ночью, в гармоничном слиянии душевного мира с тишиной и покоем природы.
Но один ли старец молчальник сегодня во власти красоты ночной, во власти чар ее знойных, пуще вина опьяняющих?
Кто идет там лесною тропинкой, весь залитый лунным светом? Не вдова ли молодая Серафима Филиппьевна?
Невдалеке от стоявшего тихо Виталия прошла она и узнали ее глаза его старые, но зоркие. Знакома она была старцу. Не раз и не два он беседовал с ней, пока еще не было запрета на его устах. Знал старец и мужа ее покойного… Но сегодня должно быть забыла о муже Серафима Филиппьевна. Не одна она бродит по сонному лесу. Рядом с ней идет новый друг ее ласковый. Обнял он плечи ее молодые, шепчет в ухо ее и целует на ходу жаркую щеку вдовы. Впервые видит его старец. Высокий и стройный, с черной бородкой на белом лице. Серая шляпа с большими полями… Много нынче всякого люда в обители. Много греха…
Не видать уже Серафимы Филиппьевны. Прошла она с другом своим. Скрылись они за деревьями и шаги их смолкли.
Вышел на полянку старец. Присел, на мшистый бугорок и опустил на руки старую голову.
Словно крадучись, неслышно подошло к нему из далекого прошлого давно забытое, давно схороненное… Восстали из прошлого бледные призраки, тени любимых пришли и стучатся в старую грудь Виталия. Немного их. Недолгой и неяркой была его жизнь в миру. Мало было в ней радости, мало солнца и смеха. В полутемном амбаре отцовском прошло его детство. В ссорах с женой нелюбимой, в торговых обманах, обвесах, да в диких попойках прошла его молодость. А потом разорился отец его, обанкротился и умер, оставив сыну долги свои неоплатные. Пуще прежнего запил Виталий, точно мстил он кому-то, последние крохи свои разбрасывая по грязным, зловонным трактирам. И бросила его в то время жена, ушла от него с годовалым ребенком.
Недлинный, но страшный и темный путь прошел Виталий, пока не укрыли его стены монастырские. В какой-нибудь год один изведал он всю бездну нищеты и падения человеческого. Но кроткой и выносливой была душа Виталия. Не мог бы и жить человек с этой памятью темной, но дано ему Богом забвенье. Очистилась душа его и сошло с нее прошлое, словно струпья проказы после купели Силоамской. Простое, беззлобное сердце его, бессознательно жаждавшее тихой любви, утолило теперь свою жажду.
Но и в жизни Виталия, в сумерках вечных, был один солнечный луч, мгновенно блеснувший, но греющий вечно.
Была у него сестра Степанида, вечно больная, хромая, убогая… Обидел ее Бог красотой и здоровьем. Не нашла она мужа себе и, схоронив отца, ушла в дальний монастырь. В целом свете только одна она и любила своего бесталанного брата Виталия.
Седьмой десяток идет уже старцу Виталию, но крепок еще он телом, закалил себя воздержанием долгим и в тихой жизни монастырской не чает еще близкого конца своего. Но если бы еще и вторую жизнь прожил старец и тогда не забыл бы он встречи одной.
Сидел он на пристани у дверей трактира, грязный, опухший от вина, оборванный… Жмурился от яркого солнца, думал думы свои полупьяные. Жадным взглядом встречал всех, входивших в трактир: нет ли между ними приятеля, не угостит ли кто-нибудь с похмелья… И есть уже хотелось и затянуться табаком до одури… И вдруг, женский голос, негромкий и робкий и что-то родное в нем, страшно знакомое…
Поднял Виталий голову, – стоит перед ним монашенка, маленькая, худенькая, вся закуталась в черный платок, одни глаза видны карие, близорукие… Молча с минуту глядел в них Виталий, встал машинально, скривил в улыбку пересохшие губы:
– Здравствуй, сестра!..
Протянул ей руку и застыдился…
А Степанида опустила глаза, тронула его за плечо и тихонько сказала:
– Пойдем отсюда.
И пошли они. Впереди монашенка хромая, убогая… Сзади Виталий, громоздкий и страшный, растерянный и послушный, как ребенок.
Гудели пароходные свистки. Грохотали подводы ломовые. Крутилась пыль на мостовой и слепила глаза. Кричали что-то во след им лабазники и хохотали жирным смехом. Свистали мальчишки… Торопилась Степанида. Ковыляла она молча, нескладно махая левой рукой. Кончилась улица. Выглянуло из-за последнего дома зеленое поле. Оглянулась вокруг Степанида, свернула в траву и остановилась. Уронила книжку свою с позументным крестом на черной клеенке, вскинула худые руки и повисла на шее Виталия.
– Братец!.. Родимый… Несчастный мой!..
Долго сидели они на желтой, спаленной солнцем, траве. Плакали оба. Затихала жизнь на пристани. Над рекой подымался туман. Потянуло холодом ночным. Вздрогнул Виталий, запахнул свои лохмотья, съежился… Встала Степанида, отвернулась в сторонку, достала на груди у себя сверточек бумажный и протянула брату:
– Возьми. Тут двадцать рублей… Справь себе одежу чистую, в баньку сходи…
Поднялся и Виталий с травы. Взял деньги, потупился…
– Прощай, братец! Спаси тебя Господь!
Поцеловала его, вытянулась на здоровой ноге и перекрестила.
– Об одном тебя прошу: брось вино. Грех я взяла на душу: не мои это деньги, обительские… Именем Христовым собраны. На спасенье твое даю их, а если пропьешь… Ох, Господи!.. Братец… И мне не будет прощенья…
Подняла свою книжку, оправила платок на голове. Долгим, печальным и ласковым взором заглянула в опущенные глаза Виталия. Еще раз, как в детстве, прижалась к широкой груди его и ушла, качаясь на больных ногах, утонула в сумерках вечерних.
Все это вспомнилось старцу в тихую ночь. Долго сидел он, недвижный, согбенный… Закутался в облачко месяц и стало темнее под соснами. Предутренний ветер тихонько качнул их вершины. И показалось старцу, что неподалеку простонал кто-то жалобно и тихо, не то ребенок, не то филин пучеглазый… И снова уснули кусты и деревья.
VI
Господь в эту ночь посетил своим гневом тихую обитель. Случилось небывалое, пришло нежданное.
Первый колокол утренний прогудел тихонько и замер. Встрепенулся отец-гостинник, сотворил крестное знамение и стал обходить своих постояльцев. Подойдет к каждой двери и стукнет трижды негромко. Проснутся богомольцы и откликнутся отцу гостиннику. Но тщетно стучался он в дверь Серафимы Филиппьевны. Не отозвалась ему молодая вдова. Толкнулся покрепче отец Никодим. Подалась дверца под рукой его, распахнулась. Никого нет в маленькой комнатке, пуста она и кровать стоит несмятая. Удивился отец-гостинник. Знал он, что любила поспать Серафима Филиппьевна, иной раз так и не выйдет к ранней обедне.
Не было и в храме Серафимы Филиппьевны, не пришла она и в трапезную. А лошадка ее стоит в монастырской конюшне и кучер Сенька при ней.
Приступили к нему: не видел ли?
– Нет, – говорит. – Со вчерашнего обеда не видал я хозяйки. Ничего не знаю…
Доложили отцу-игумену.
Обеспокоился он очень. Призвал к себе отца Никодима и Сеньку, расспрашивал… Даже отдыхать не лег сегодня. Ходил по келье своей, разводил руками недоуменно и повелел, чтобы иноки, после вечерни, обошли всю рощу монастырскую. Снарядил послушника в город, чтобы узнать, не вернулась ли домой Серафима Филиппьевна. Но и сам знал, что не могло того быть. Не ушла бы она, не простившись с ним, да и зачем бы ей идти пешком, когда своя же лошадка дожидается.
Любит жизнь загадывать загадки мудреные. Умница был отец игумен, а и тот, как ребенок, запутался.
А не успели еще и отзвонить к вечерне, прибежал к отцу игумену послушник Василий. Бледный, дрожащий, едва отдышался… И поведал он страшное: видел он Серафиму Филиппьевну, лежит она в лесу под кустиком, неподалеку от Старцевых келий. Посинела с лица и, кажись, бездыханная…
Не дослушал и до конца отец-игумен, всплеснул руками горестно и в лице изменился… Но совладал с собою, сотворил крестное знамение и послал тотчас же в город известить властей. А сам поспешил в рощу. Пошли за ним иноки старцы и юные. Потянулись богомольцы любопытные. И докатилися волны житейские до старцевых келий.
Не ошибся послушник Василий. Под кустом орешника лежит Серафима Филиппьевна, разметавши руки белые. Не вздымается грудь молодая высокая и не видят глаза ее солнышка. Посинело и распухло лицо ее и растрепаны русые косы.
Перекрестил покойницу отец-игумен, понурил львиную голову и пошел обратно, согбенный и словно смертельно усталый.
А вскоре и власти приехали. Начались допросы, протоколы… Обшарили всю рощу монастырскую, оглядели елку каждую, заглянули под каждый кустик. Ничего и никого не нашли. Одно только ясно для всех: задушена прошлой ночью вдова купеческая Серафима Филиппьевна. Задушена и ограблена: сняты с рук ее драгоценные перстни и браслеты, подарки покойного мужа.
Долго в тот вечер сидел у отца-игумена гость нежданный, полковник Власенко, затянулась беседа их до полуночи.
А ранехонько утром пришла в монастырь старуха Митревна, кухарка покойницы Серафимы Филиппьевны. Как узнала всю правду, так и пала на землю, заплакала старая, завыла.
А потом поднялась, да и говорит:
– Ведите меня к генералу. Знаю я, кто порешил покойницу. Сенька-душегубец!.. Попался он недавно на краже овса и решила хозяйка прогнать его… Нового кучера подыскивала. А он, злодей, при всех на кухче обзывал ее словами нехорошими и грозился, что попомнит его Серафима Филиппьевна…
Допросили снова Сеньку кучера, обыскали его, все сено перерыли в конюшне обительской, – ничего не нашли. Сенька божится, что и в уме не держал такого… И спал всю ночь около лошади…
На всякий случай связали Сеньку и увезли в город. Порешили, что зарыл он где-нибудь награбленное… Лес-то велик, под любым деревом можно схоронить до времени.
А за Сенькой увезли и покойницу. Уехали власти, разошлись богомольцы… Но замутилась уже чистая река монастырской жизни. Не скоро вернулась прежняя тишина душевная. Долго еще по вечерам шептались иноки и косились пугливо на темную рощу и жарко молился отец-игумен, поминая рабу Серафиму.
VII
Все видел, все слышал старец Виталий. Долго глядел он в лицо покойницы и видел Сенькины слезы невинные. Один в целом мире знал он, с кем провела молодая вдова свою ночку последнюю. Хотел бы навеки забыть эту встречу старец Виталий. Много раз темной ночью стоял он на месте проклятом, плакал слезами жгучими, выливал в них смятенную душу свою. С вопросом тягостным смотрел он на звезды безмолвные, без числа вопрошал он Господа своего: «Скажи мне, Господи, путь, в он же пойду»… Начал старец поститься сугубо. По суткам не вкушал он пищи, позабыл о ложе своем и долгие ночи стоял на молитве. Заболел уже старец Виталий. Дрожали и подгибались старые ноги, колотилось в груди усталое сердце. Но за болью душевной не слышал он недугов своих. Изможденной, дрожащей рукой перелистывал он книги священные, все искал в них слова тайные врачующие. Но и на сей раз не отверзлись уста его безгласные. По-прежнему молчал старец. Победил искушение великое, и по слову Давидову: «бых, яко человек не слышай и не имый во устех своих обличения».
VIII
Надвинулась осень недобрая. Ясное небо закрыло свинцовыми тучами. Угнала за теплое море певуний лесных и привела с собой ветры холодные. Злые и беспощадные накинулись они на рощу печальную и сорвали уборы ее золотистые. И заплакало небо слезами унылыми, каждодневными. Застонали по ночам, закряхтели сосны-старухи древние и казалось, что никогда уже не вернется в монастырскую рощу весна молодая, прекрасная… Как не вернется и в душу старца Виталия прежняя радость тихая…
Словно осень, печальный, бродил он по темному жуткому лесу. Тихо плакало небо над ним и ветер трепал его белые волоса. И в ночь непогодную простудился жестоко старец и не мог уже встать поутру с убогого ложа своего. Лежал бессильный и кашлял негромка и глухо.
Днем навестил его сосед по келье старец Пафнутий. Посидел в ногах Виталия, послушал кашель его. Как добрая старая нянька укрыл его ветхим подрясником ватным, напоил липовым чаем. Вспыхнуло жаром старое тело Виталия и забылся он к вечеру.
Услышал игумен о болезни старца и пришел в его келью. Отпустил на отдых отца Пафнутия и остался один при больном.
Душно в маленькой келье Виталия, пахнет сушеными травами и липовым цветом. Мигает огонек лампадки перед старым темным образом. За окном злится ветер осенний и стучат по стеклу бесконечные капли дождя.
Тянется ночь безрассветная. Вздыхает тяжко старец недужный. Полымем пышет лицо его. Мечется он, словно хочет стряхнуть с себя сны тяжелые. Шевелятся уста его, молчавшие так долго, и роняют едва слышные слова. Бредит старец Виталий. Обнажает он душевные раны. Шепчет вопросы свои безответные. Слушает бред его отец игумен. Сидит неподвижный и скорбно глядит в ночную тьму…
К утру уснул старец. Долетел издалека первый звон, робкий и тихий, затерянный в шуме лесном. Встал игумен, укрыл больного, благословил его и вышел.
IX
В эту ночь был перелом болезни Виталия. Господь не призвал еще к себе старца-молчальника. Отгорело старое тело и словно сожгло свою муку душевную. Успокоился духом Виталий. Слабый, разбитый, лежал он в своей келье, дремал, или думал о чем-то. Но час за часом, день за днем, возвращались к нему силы. Угасавшая жизнь разгоралась.
Стал уже бродить по келье старец. Начал снова читать свои книги священные. А когда выпал первый снег, повис на елках рыхлыми пушистыми шапками и мягким белым ковром устлал кочковатые полянки, вышел из кельи старец Виталий, вздохнул полной грудью и тихо побрел к монастырскому храму.
Не было уже прежней рощи с трепетом листьев, с улыбкой солнечной, со всей ее глубокой, неугомонной жизнью. И не было уже прежнего старца Виталия. Ушла с лица его тихая улыбка и нет уже во взоре его ласки сердечной. Снова бьется ровно старое сердце и вновь тишина в душе Виталия; только это уже тишина зимнего поля под снегом холодным… Душевные муки и бури осенние не проходят бесследно и ждать нужно солнца весеннего, чтобы сбросили реки свои ледяные оковы, чтобы души усталые нашли свою радость.
И тянулись короткие зимние дни, бесконечные зимние ночи…
Но на первой неделе великого поста выпал ясный солнечный день и пришла в обитель радость нежданная.
Приехал поутру Володя Кирьюшин, отстоял обедню и, когда пошли иноки со сбором обычным, Володя вынул из кармана и положил на блюдо лепту свою, бумажку желтенькую, сложенную вчетверо. Постоял еще недолго, потом вышел из храма, сел в свои санки американские и уехал. Даже и к отцу игумену не зашел.
А когда развернули бумажку Кирьюшинскую, то и увидели, что это банковский чек на двенадцать тысяч.
Возрадовался отец игумен и захлопотал с того дня. Начал к постройке готовиться. Засыпалась келья его чертежами, прейскурантами разными!.. Толпились в ней архитектора и подрядчики. И нежданно ожила и проснулась монастырская роща. Пришла из города артель дровосеков, рассыпалась по сонному бору и застучали с утра до вечера острые топоры. Застонали столетние сосны и повалились в глубокие сугробы.
Невелика была порубка, берег рощу отец игумен, взял из нее только необходимое для нового храма, но все же много деревьев упало, много добрых приятелей старца Виталия. С грустью смотрел он на свежие пни. Для него ведь и роща, и поле, и луг были храмом прекрасным, вечным домом Творца вездесущего…
Побывал в лесу отец игумен, поглядел на порубку и зашел к старцу Виталию. Недолго отдохнул он в его келье. Рассказал про свои хлопоты, про заботы хозяйские, порадовался выздоровлению старца и заторопился уходить. Но на пороге, приоткрыв уже дверцу, задержался на минутку и сказал, не глядя на Виталия:
– А Семена-то, кучера покойницы Серафимы Филиппьевны, вчера судили в городе. Никаких улик не оказалось. Оправдали его начисто…
Сказал и вышел и дверь прикрыл за собой. И давно уже смолкли шаги его по хрустящему снегу. Но все еще стоит недвижно старец Виталий, словно слушает еще песню райскую, словно боится прогнать нежданную гостью свою, радость светлую, необъятную…
X
Пасха была поздняя. На вербной раскрылись почки, прилетели грачи хлопотуны домовитые. Заторопилась весна, хозяйничала в роще, сгоняла снег в овраги, устилала полянки зеленым ковром. Подсушила дороги окрестные и потянулись в монастырь богомольцы-говельщики.
Долог стал уже день весенний, но и его не хватало отцу игумену. Торопил он всех, подгонял с работами; хотелось ему еще на Святой сделать закладку нового храма. Но пришла Страстная и уступило земное. Прикончились работы в обители. Потянулись исповедники длинной вереницей, понесли грехи свои. Загорелись в храме свечи тоненькие, бесчисленные огоньки покаяния. Зазвучали напевы печальные.
Вместе с матерью, бедной бабой Аксиньей, пришел в монастырь Егорка. В валеных сапожонках своих прошагал он путину немалую, верст пятнадцать, а то и побольше. Много раз по дороге принимался он хныкать, каждый раз получал подзатыльник и под конец уже не протестовал, молча сопел носом и тянулся за юбкой Аксиньи. Да и отдыхи примиряли его с тяжестями пути. Садились под дерево на молодую травку и закусывали. Егорка стягивал с головы отцовскую шапку, зажмурившись крестился на солнце и принимался за хлеб. Хлеба дорогой не жалели, запивали его квасом из бутылки и снова шагали.
Егорке с заговен пошел шестой год, и это его первое путешествие. Но по дороге не было ничего интересного, шли мужики и бабы, ехали деревенские телеги. Было скучно. Попалась, правда, навстречу собачонка пестренькая, понюхала Егоркины валенки и побежала рядышком, но и ту прогнала Аксинья.
Но зато, когда к вечеру добрались до монастыря, протискались в церковь, побывали в трапезной и улеглись спать в гостинице, Егорка и о сне забыл. Лежал рядом с матерью и думал о бесчисленных, диковинных вещах. Закрывал глаза и все видел золотые иконы и громадные подсвечники, нарядную барыню в широченной шляпе и карету с фонарями, отца игумена в длинной мантии и офицера в красных штанах и с длинной, звякающей саблей… Не скоро заснул Егорка, но и снилось ему тоже небывалое и невиданное.
XI
Истомила Аксинью дорога вчерашняя. С трудом отстояла она в храме долгую службу, но, когда ударили к вечерне, застыдилась баба остаться в гостинице, взяла Егорку и поплелась вослед за богомольцами. Но не удалось уже ей пробраться в храм, постояла в притворе, помолилась недолго и надумала грешное: пойти в рощу, в сторонку от глаз людских, выбрать место тенистое и прилечь там подремать с часок.
Идет Егорка с матерью, маленький такой, в гости к соснам великанам. Знает их Егорка и не боится ни капельки. В таком же лесу дремучем стоит их деревня и целыми днями пропадают в нем ребята. То по грибы, то по ягоды. Бродят под деревьями словно овцы пестрые, пока не проголодаются.
Далеко зашла Аксинья, чуть видна колокольня монастырская. Прилегла под елкой тенистой, вытянула ноги усталые, зевнула и наказала Егорке:
– Поиграй тут… Вишь, цветики белые, нарви их покуда. Да не ходи далеко… Волки.
Постоял Егорка с минутку, подумал о чем-то, поглядел на мать, на цветы… Чуть не каждый день пугают волком, а до сих пор еще видать его не приходилось. В волка из ружья стреляют… Можно тоже и саблей зарубить, вот если такой, как у вчерашнего офицера.
На лужайку спрыгнула кокетливая трясогузка, покачала длинным хвостом и снова улетела.
Егорка стал собирать цветы. Обошел всю лужайку, нарвал уже порядочный пучок, но поглядел на них и бросил. Что в них хорошего? Все, как один, белые… Егорке больше нравится, когда цветы пестрые, красные, желтые, вот, как у них на горке. Хорошо тоже, когда одуванчики пушистые стоят, как турки. Хватишь его с размаху палкой и голова долой, точно саблей срубил. Снова вспомнилась вчерашняя сабля, длинная, блестит…
А с сабли Егоркины мысли перескочили на посох отца игумена. Тоже – штука!.. Ну, посох-то он и сам добудет, если захочет. Стоит только поискать в лесу, мало ли всяких палок?
Егорка поправил шапку на голове и пошел на поиски.
XII
Стемнело в келье у старца Виталия. Не видны уже слова священные и сливаются буквы. Закрыл он книгу и вышел из кельи.
Весенняя ночка лампады свои зажигала. Бежал гонцом ее прохладный ветерок, шептался с елками кудрявыми, встретил старца Виталия и поиграл его седыми волосами. К звездам далеким тянулись вершины деревьев и старцевы думы беспечальные и в ответ улыбались им звезды молчаливые.
Бредет тихонько по темному лесу старец Виталий и вдруг слышит: плачет кто-то негромко и жалобно, хнычет в кустах. Перекрестился Виталий, раздвинул кусты и вгляделся в сумрак старыми глазами. Стоит под елкой мальчуган в большой шапке и трет кулаками глаза. Метнулся было в сторону, как заяц испуганный, но увидел старца и уставился на него.
Улыбнулся Виталий кротко и ласково и поманил его рукой. Малыш шагнул навстречу и снова захныкал.
Подошел к нему старец, погладил по мокрой от слез щеке, молча заглянул в карие глазенки. Вот, такой же был и его Ванюшка, когда ушла жена Виталия. Где он теперь? Если и жив еще, то должно быть, тоже старик уже… Ничего не известно Виталию. Семнадцатый год пошел, как умерла сестра Степанида. От нее только и слыхивал изредка старец о семье своей.
Молча глядят друг на друга Егорка и старец Виталий. Повстречались под старыми соснами утро и вечер, закат человеческой жизни с восходом. И тянутся нити незримые, крепкие вечные нити от старого сердца усталого к чистому сердцу ребенка.
Егорка отер слезы, забыл все свои недавние страхи и взял за руку старца Виталия.
– Дедушка, пойдем к мамке.
И тихо ответил Виталий:
– Пойдем.
И пошли они рядом по узкой тропинке лесной.
Крепко держался за руку старца заблудившийся Егорка и все заглядывал из-под шапки на звезды высокие и на дедушкино лицо, освещенное тихой улыбкой.
Так и во двор монастырский вошли они вместе, рука с рукой. Лишь у храма разлучила их Аксинья. Кинулась она с плачем к Егорке и спряталась на ее груди русая Егоркина голова.
А старец Виталий понес к отцу игумену грех свой… А после, за три долгие года впервые, поднялся на клирос церковный и долго в ту ночь читал он страсти Христовы, голосом тихим и в начале слегка хриповатым. Но, с каждым словом о муках последних страдавшей Любви, крепчал его голос и прежняя кроткая ласка звучала в нем, красота умиленного сердца.
И снова, как прежде, проникал он в людские печальные души, трогал в них струны забытые, согревал упованием новым. Умилением сладким вздымались сермяжные груди и крестили их мозолистая руки.
И плакала тихо Аксинья в углу, прижимая к себе Егорку. Слезами радости, легкими, светлыми… Слезами, роднящими с небом далеким… Собирают их ангелы в урны алмазные и к престолу Творца несут эти слезы, как самый бесценный и чистый дар печальной земли. Ибо не часто горит для людей солнце радости. Ибо редкая гостья она и так мало ее на темной земле.
1913 г.