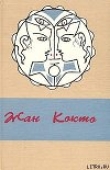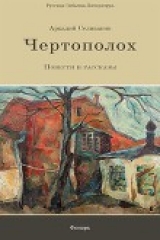
Текст книги "Чертополох"
Автор книги: Аркадий Селиванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
В пять утра
I
Надежда Леонтьевна молчала, бледная, с закрытыми глазами.
– Вы безумная мотовка! Разве можно так, без оглядки, тратить свои силы? Играть каждый вечер!.. Что с вами будет к концу сезона?
Вместо ответа Надежда Леонтьевна молча пожала худенькими плечами, закутанными в мех голубой лисицы.
Директор театра сердито повернулся к окну, стал смотреть в широкое стекло автомобиля.
– Я одного не понимаю, – не вытерпел он через минуту. – За что я плачу сумасшедшие деньги этой восковой кукле Волжиной? За весь месяц она выступала один раз и то лишь потому, что вы застряли в поезде. Помните?
– Помню, – улыбнулась Надежда Леонтьевна. – Еще бы я забыла! Я храню вырезки. Помню и восторги этого из «Отголосков»… Как же! «Вчера был дебют новой жемчужины труппы… Поздравляем дирекцию!.. Налицо все задатки крупного дарования, очаровательная внешность»… Ха!.. Помню!
– О-хо-хо!.. – вздохнул директор. – Подумаешь, рецензент из «Отголосков»!.. Кто их читает? Только мы, несчастные.
Он нагнулся и взглянул на маленькие часики, вделанные в стенку автомобиля.
– Так… Второго половина. А завтра репетиция.
– Вам-то что? Спите до вечера.
– Гм… Может быть мне и в контору не заглядывать? Передать вам и кассу, и контракты, и все? Оно бы кстати. И так уже в вашем распоряжении и труппа, и репертуар…
– Репертуар! Второй месяц ни одной новинки.
– А кто же тому причиной? Вы бракуете все пьесы… Да еще и читаете их по неделям. Авторы ходят, ходят… Смотреть жалко! Взять к примеру, хотя бы, эту… Как она? «Крылья Икара». Чем не драма? И рольки есть отличные и вообще, на мой взгляд, пьеска – хоть куда! С настроением и все такое… Кто ее знает? А вдруг – боевик? А вы ее забраковать изволили… Вчера автор был, молодой такой, веселый. Я ему возвращаю пьеску, а он смеется: «Ничего, – говорит. – Я терпеливый, лет через десять куда-нибудь пристрою»… Ха-ха-ха!..
– Ах, эти авторы!.. – морщится Надежда Леонтьевна. – О чем они думают, когда пишут свои пьесы? Хотят удивить мир! Гениальные головы и в каждой по дюжине откровений! Небо у них поет, волны – грустят. Герой не говорит, а вещает, как Заратустра, героиня непременно под семью покрывалами и, вместо монолога, должна плясать под звуки «marche funebre» и притом еще ее спина выражает «всю скорбь одинокой души»… Бр!.. Чего только нет в их несчастных тетрадках? И Бог, и Антихрист, и космос!.. А сцены не знает ни один из них. Судите сами. Вчера еще я видела такую ремарку: «Елена сидит с ногами в углу на розовой кушетке и играет своими косами. На ней – бледно-голубой дорожный костюм»… Каково? Боже мой! Откуда они? Где они живут, эти сочинители?
Автомобиль замедляет ход и сидящий за рулем огромный мохнатый медведь яростно нажимает на грушу сирены.
Надежда Леонтьевна хватается за виски.
– Что там еще? И так уже сегодня мы еле ползем…
– Туман! – успокаивает директор. – Эх, а как же в старину-то? Знаменитую актрису Лекуврер в портшезе носили…
– Положим, что этого не было. Путаете, как всегда.
Автомобиль останавливается у подъезда громадного пятиэтажного дома.
– Приехали! – говорит директор. – Подождите, я еще, за ужином, поспорю с вами…
– Не придется, – обрывает Надежда Леонтьевна. – Я ужинать не буду. Так устала… Прямо в постель.
– Вот-те на!.. А я, признаться, думал…
– Напрасно! И не выходите. Я одна поднимусь. Каждый раз, как я с вами в лифте, – у меня сердце неспокойно… Bonne nuit!
II
Надежда Леонтьевна, как всегда, заснула сразу, глубоким сном без сновидений. У нее здоровые нервы. Знатоки театра говорят, что это – минус артистки. Но Надежда Леонтьевна и сама избегает сильно драматические роли; ее амплуа – «гранд-кокет».
В белой спальне темно и тихо. Погашена даже маленькая лампочка под желтым шелковым абажуром. Надежда Леонтьевна дает ночью полный отдых своим глазам, вечно утомленным огнями рампы. На ее постели, на голубом одеяле, спит, свернувшись в пушистый и мягкий комочек, белая ангорская кошка «Муська».
В столовой бьют стенные часы и в белую спальню доносятся пять негромких мелодичных ударов. Из-за низенькой японской ширмочки поднимается чья-то смутная тень и чуть слышный шорох долетает до слуха «Муськи». Она поднимает голову и смотрит в угол. И на постели Надежды Леонтьевны вспыхивают два земных фосфорических огонька.
Чья-то темная рука тянется к стене и скользит по обоям. «Муська» приготовилась к прыжку, прижала уши и замерла и только нервно вздрагивает ее длинный пушистый хвост. Темная рука на стене скользит все ближе и ближе и неожиданно встречает препятствие. Высокий столик на трех ножках качнулся два раза и упал, увлекая за собой хрустальную вазочку и тяжелую бронзовую пепельницу. «Муська» фыркнула и спряталась под кровать…
Надежда Леонтьевна проснулась.
– Кто здесь? – спросила она, поднимая голову и вглядываясь в темноту.
Никто не ответил. В белой спальне по-прежнему темно и тихо и только «Муська», услышав голос хозяйки, мяукнула протяжно и жалобно.
Надежда Леонтьевна приподнялась на подушках, послушала с минуту глухие и тяжелые удары своего сердца и привычным движением руки повернула выключатель. Под потолком вспыхнули матовые лампочки.
Надежда Леонтьевна оглянулась и, вскрикнув, откинулась на подушки. Дыхание остановилось в ее груди и красивые, темно-серые глаза актрисы, с безмолвным ужасом уставились на высокого человека, неподвижно стоявшего в трех шагах от постели.
– Тсс… ни звука! – предупредил он и вытянул правую руку, вооруженную револьвером. – И не вздумайте звонить! Как видите, я достаточно вооружен, чтобы заодно с вами убить и вашу служанку.
Ночной гость оглянулся вокруг и спрятал револьвер в карман пальто.
– Поверьте, я не собирался вас будить… – сказал он с неожиданной улыбкой. – Я только искал выключатель и впотьмах зацепил за эту финтифлюшку… Спокойствие, madame! Вашей жизни и вашему здоровью ничто не угрожает, если, повторяю, вы будете благоразумны. А пока будьте добры указать мне: где ваши ключи от этого бюро, да заодно и от шкафа?
– Там… В сумочке… – пролепетала Надежда Леонтьевна, едва шевеля пересохшими губами и указывая взором на кресло.
– Меrci! – сказал вор, вынул ключи и подошел к бюро. – Я, конечно, предпочитаю наличные… I’argent comptant – это мечта каждого из нас, но, знаете? И в бриллиантах есть своя красота. Так вы уже разрешите мне захватить с собой и то, и другое…
Он отпер бюро и стал рыться в ящиках.
– Я боюсь напрасно задержать вас… Может быть, вы согласитесь помочь мне? Быть моим гидом в поисках золотого руна? Скажите, в котором ящике деньги?
«Господи! Он еще издевается…» – подумала Надежда Леонтьевна, но покорным и дрожащим голосом ответила:
– В верхнем, с левой стороны.
– Так… Благодарю вас! – сказал вор, пряча в карман изящный, темно-синий портфельчик с золотыми монограммами.
– А бриллианты и прочее?
– В среднем ящике… Черная шкатулка.
– Гм… Так. Ого! – воскликнул он. – Да вы, если не королева, то принцесса бриллиантов! Раз, два, три… Какой солитер!..
Он повернулся и поднял к свету руку с крупным камнем.
– Вот, что называется: талант артистки в кристаллизованном виде! Взгляните: он ослепляет, в нем все лучи, он играет так же… как вы на сцене!
Сердце Надежды Леонтьевны сдавила мучительная жалость к дорогим, любимым вещам, красивые глаза наполнились слезами, но бледные губы «гранд-кокет» улыбнулись, и она спросила:
– А вы меня видели?
– О!.. Много раз! Еще на днях я до боли отхлопал ладоши, испортил свой баритон, вызывая вас, и бросил к вашим ногам прелестную розу, купленную за последние тридцать копеек…
Вор снова нагнулся над шкатулкой.
– Гм… Браслеты и кольца… медальон, а в нем, конечно, портрет? Ну, я его вынимаю, вот!.. Для вас он – реликвия сердца, а для меня – только лишняя улика… Гм… Я очень жалею, что не могу захватить с собой и эту великолепную шкатулку. Я так люблю старинные вещи, но она не войдет ни в один из моих карманов. С вашего разрешения, я возьму этот платок и завяжу в него всю эту роскошь и красоту, так же, как старушка богомолка завязывает свои медяки. Вот, готово!
Пока он болтал, завязывая украденные вещи, Надежда Леонтьевна, повернув тихонько голову, рассматривала своего ночного гостя.
«Какой худой и желтый… Должно быть, только что убежал из тюрьмы, – решила она. – Господи! Хотя бы уже уходил скорей… Надо запомнить все: нос с горбинкой, глаза?.. Кажется, серые… Шатен, высокий, черное пальто с барашком, серые брюки… Боже мой! Если бы можно было сейчас же… по телефону, в полицию»…
Точно угадав ее мысли, вор обернулся с веселой улыбкой:
– Вы, конечно, находите, что мой ночной визит затянулся и только любезность хозяйки мешает вам указать на двери.
Он вынул из кармана черные часы.
– К сожалению, – вздохнул он, – я еще должен воспользоваться вашим гостеприимством. Мне еще рано. Я вижу на вашем столике папиросы, вы разрешите мне?
– Пожалуйста! – сказала Надежда Леонтьевна и невольно улыбнулась. Очень уже комичным и диким показался ей весь этот разговор с бродягой-вором, ночью, лежа в постели.
Вор закурил папиросу и, задумчиво опустив голову, прошелся два раза мимо кровати, бесшумно ступая по мягкому, серебристо-серому ковру.
– О!.. – воскликнул он, останавливаясь и смотря в угол. – Какая у вас кошка! Очаровательная, белая и пушистая, точно снежный комочек… Киска!
Вор подошел к «Муське» и взял ее на руки.
– Славная киска! Хочешь к хозяйке, в теплую постельку? Гоп! – он положил кошку на одеяло. – Спи здесь. Вот!.. Она уже мурлычет. Как это мило, что у вас только эта киска… С собаками у нас обыкновенно испорчены отношения.
– В прошлом году у меня был сенбернар, – вздохнула Надежда Леонтьевна.
– Я очень рад, что его уже нет, – засмеялся вор.
– Ну, – сказал он, садясь в кресло рядом с кроватью. – О чем бы нам побеседовать на прощанье? Представьте: меня ждут мои сообщники… с минуты на минуту сюда могут войти ваша горничная, или, может быть, даже у вас есть лакей, наконец, мало ли кто? И тогда мне придется пустить в ход свои игрушки: револьвер и нож и… Да, оставаясь здесь, я рискую свободой, быть может, – жизнью, но… Мне не хочется уходить отсюда. У вас здесь так хорошо, уютно. Так много вкуса вложено в каждый уголок этой комнаты… Вы не жалели ни денег, ни забот и как я вас понимаю! Будуар артистки – это студия художника. Здесь она, наедине со своим зеркалом, творит образы, изучает каждый жесть своих рук, каждую линию тела. Сотни раз повторяет одно и то же слово, добиваясь нужной интонации. Часами смотрит на свое лицо, на игру глаз, на секрет своей улыбки, то нежной, то страстной, то полной иронии… Вот, как ваша в эту минуту.
Он умолк и, нагнувшись к «Муське», пощекотал ее за ушами.
– Да, – продолжал он, задумчиво улыбаясь, – здесь женщина ведет счет своим первым морщинкам, первым седым волосам, здесь она плачет тихонько над уходящим летом жизни и здесь же постигает искусство борьбы со своим страшным врагом – временем, забывая, что и осень бывает по-новому красива, что и у нее есть свои чары… Да, только после долгой работы здесь в этой студии, можно бесстрашно подставить себя под огни рампы и с иллюзией правды повторить на сцене ложь искусственных модуляций и рассчитанных жестов, всю ложь, сфабрикованную в этой комнате.
Вор закурил папиросу и покачал головой.
– А все-таки мне придется уйти отсюда и я унесу с собой ваши деньги и драгоценности, и воспоминание об этой ночи, и, пожалуй, кусочек счастья… Ах, не смейтесь над этим словом! Вы знаете, что в театре жизни счастлив только тот, кто уходящему часу хотел бы крикнуть: «bis!»
Он замолчал и, опустив голову, смотрел на рисунок ковра.
– Кто вы?.. – спросила Надежда Леонтьевна и сама улыбнулась наивности вопроса. Он поднял голову.
– Кто я? Разве вы еще не догадались? Я – ночной вор грабитель… К сожалению, в нашем кругу не принято иметь при себе визитные карточки.
– Могу я вас просить? – сказала Надежда Леонтьевна. – Дайте мне воды.
Вор встал и, налив воду из графина, подал актрисе.
– Меrci! – сказала Надежда Леонтьевна и, высвободив из-под одеяла руку, взяла стакан.
Пока она пила, вор молча любовался ее рукой тонкой и белой, такой красивой на голубом атласе одеяла.
– Как это все необыкновенно, – произнес он, снова опускаясь в кресло. – Сегодня, этой ночью, вы всецело в моей власти и она безгранична. Я не ошибусь, предполагая, что еще никогда ни один мужчина не обладал такой властью над вами. Один призрак опасности, мимолетный каприз, или игра слишком натянутых нервов и – я вас убиваю. И заметьте, в моем распоряжении несколько вариантов драмы: я могу выстрелить в вашу золотистую головку, вот сюда, повыше уха… Могу заколоть вас кинжалом, одним ударом в сердце, в маленькое испуганное сердце и, наконец, могу вас задушить, стиснув вот этими руками вашу тонкую белую шею. И завтра утром найдут вас здесь бездыханную, безмолвную и правдивую, как Дездемона, убитая рукой Отелло. И все станут подозревать романическую историю… Ха-ха! И только пропавшие деньги и бриллианты откроют им, что ваш благородный мавр был также и вором. А между тем, – продолжал он, улыбаясь, – я готов вернуть вам ваш браслет, вот этот с сапфирами, прелестный браслет, лишь за то, чтобы вы позволили мне застегнуть его на вашей руке и поцеловать ваши пальцы. Можно?
В голове Надежды Леонтьевны мелькнула новая страшная догадка: «Сумасшедший!..» – и снова сердце и горло ее сдавил холодный ужас. «Господи, что же мне делать?..» – взмолилась она и, незаметно, под одеялом, перекрестив грудь, испуганно заглянула в глаза вора, но не прочла в них ничего, кроме веселого вопроса.
– Можно… – ответила она, протягивая руку.
Вор встал на одно колено, застегнул браслет и склонился к ее руке с коротким, почтительным поцелуем.
Затем он снова занял свое место и полузакрыл глаза.
– Гм… – произнес он тихо. – Признайтесь, вас очень удивляет мое поведение? Вы тщетно стараетесь понять: отчего я не ухожу?
– Да, – ответила Надежда Леонтьевна.
– Гм… Всему виной – ваш швейцар, аккуратный и богомольный старикашка. Ровно в семь он отпирает парадную дверь и принимается за уборку лестницы. Начинает, конечно, сверху, с пятого этажа. Я могу выйти отсюда только в этот момент. Понимаете? Когда дверь уже отперта, а ваш верный страж еще наверху… Не могу же я компрометировать даму!..
Он засмеялся и встал.
– Теперь уже недолго… – утешил он, взглянув на часы. – Скажите, – спросил он, хлопнув себя по боковому карману. – Сколько здесь, в вашем портфеле?
– Больше тысячи!.. – вздохнула Надежда Леонтьевна.
– Ого! Вместе с бриллиантами это составит кругленькую сумму. Н-да… Завтра я уже буду далеко отсюда и – кто знает? Может быть, с вашими деньгами я захочу… Как это говорится: «встать на путь долга и начать жизнь честного труженика»… Ха-ха!..
Вор подошел к зеркалу, оправил галстук, смахнул пыль с рукава пальто и повернулся к Надежде Леонтьевне.
– А, все-таки, сознайтесь, – сказал он, – вы не очень скучали? В моем визите была для вас и доза романтики, и жуткие миги, и красота ночной баллады… Словом, все!..
Надежда Леонтьевна снова почувствовала прилив храбрости.
– И даже мораль? – спросила она с великолепной интонацией иронии.
– Ах! – поморщился он. – Мораль вообще – досадный прыщик на божественно чистом лице красоты… А в нашей басенке – мораль одна: спальню каждой принцессы бриллиантов должен охранять или апаш, или сенбернар. Addio, signora!
Поклонившись и застегивая на ходу пальто, вор пошел к двери, но, проходя мимо постели актрисы, он неожиданно остановился.
– У меня есть одна просьба, – произнес он тихо и нерешительно. – Если бы вы согласились исполнить ее, то… я готов вернуть вам все, и ваши деньги, и бриллианты, и уйти отсюда таким же бедным, каким я вошел…
– Говорите! – вспыхнула Надежда Леонтьевна. – Все, что я в силах… Боже мой! Да я клянусь вам всем, что есть святого…
– Тсс!.. – остановил он, поднимая руку. – Клятвы женщины… Что может быть искренней? Их произносит само сердце с тем, чтобы на завтра выбросить из памяти. Нет, пусть это будет только вашим капризом. Вот, я отдаю вам все…
Вор расстегнул пальто и, вынув из кармана портфель и узелок с вещами, положил их на постель Надежды Леонтьевны.
– Я должен покаяться, – сказал он. – Я – самозванец. Я присвоил себе бесправно чужое имя, гордое имя вора. Увы! Я – только автор, бедный автор без имени, без друзей – и вот моя пьеса…
Он снова полез в карман и, вынув толстую тетрадку, положил ее рядом с портфелем и узелком.
– Да!.. – сказал он, отвечая улыбкой на безмолвный вопрос темно-серых глаз актрисы. – «Крылья Икара», в четырех актах… Судьба пьесы в ваших руках… Возьмите ее! Зажгите для нее огни вашего театра и вдохните жизнь в мою героиню!..
Он опустил голову в почтительном поклоне, повернулся и вышел, быстро и бесшумно исчез за дверью белой спальни.
1916 г.
Девушка, потерявшая сердце
I
В пятницу утром молодой, уже известный, но еще талантливый автор «Необыкновенных рассказов» Чарльз Тикстон, как всегда, работал в своем кабинете.
Только что выбритый, пахнущий мылом и одеколоном, одетый в неизменный черный жакет, Тикстон стоял перед высокой конторкой, положив на нее локти и слегка кекуокируя ногами. Такова была его обычная манера «творить».
Когда Чарльз садился в черное кожаное кресло, за огромный письменный стол, – это всегда отражалось на его рассказах: юмор таял, как сливочное мороженое в июле, на дне души появлялась сладковатая грусть и мысли двигались тяжело и нудно. В такие минуты взор Тикстона становился даже печальным, и бедный автор кончал тем, что бросал перо, с грохотом отодвигал свое мягкое, уютное кресло и торопился на улицу. Чарльз Тикстон более всего на свете боялся двух вещей: мистики и меланхолии.
Итак, в пятницу утром перед дверью загородного домика Тикстона остановился шоколадный автомобиль. Шофер-негр с лицом и руками того же, темно-шоколадного, цвета раздвинул в широкую улыбку пурпурные губы и заглянул сквозь стекло вовнутрь автомобиля.
Дремавший на эластичных шоколадных подушках мистер Картинг, один из восьми секретарей сахарного короля Томаса Гудля, открыл сначала глаза, потом дверцу автомобиля и, высунув голову, спросил:
– Здесь?
– Да, сэр, – ответил шофер и, снова улыбнувшись, показал два ряда крупных жемчужин.
Картинг вышел из автомобиля, поднялся на крыльцо маленького домика, и указательный палец его, в коричневой лайке перчатки, крепко придавил белую кнопку звонка.
II
Секретарь мистера Гудля сидел на диване Тикстона, поставив рядом с собой сверкающий цилиндр, и молча смотрел на писателя.
Тикстон, по-прежнему стоявший у своей конторки, аккуратно взрезал запечатанный конверт и вынул из него письмо сахарного короля. Письмо было кратким и сухим, настоящее письмо человека, которого считают в полумиллиарде долларов:
«Томас Гудль просит мистера Тикстона немедленно приехать к нему для беседы по важному делу».
Первым движением Тикстона была радостная улыбка, но губы его остались неподвижны. Затем, в правой ноге писателя появилось мучительное желание сделать необыкновенное «па» еще никем невиданного танца, но Тикстон справился и с этим. Вот, с мыслями, завертевшимися под безукоризненным пробором, было труднее: «Его зовет сам Гудль!.. Мистер Гудль не привык ждать… Важное дело… Гм… В Америке нет дела без гонорара. Скорей! Живо в дорогу! Гоп!..»
Но Чарльз Тикстон не мог бы считаться спортсменом, если бы не владел также и тормозом. Через две секунды он был уже спокоен. Сложил письмо сахарного короля, подвинул к себе листик почтовой бумаги и не спеша вывел на нем своим четким, слегка кривым почерком: «Прошу извинить. Меня задерживает дело первостепенной важности: неоконченная страница рассказа: „Фиолетовая корова“. Чарльз Тикстон».
Заклеив конверт, Тикстон подал его Картингу.
– Вот, – сказал он, – мой ответ мистеру Гудлю.
Личный секретарь сахарного короля встал и, взяв в одну руку письмо Тикстона, а в другую свой цилиндр, внимательно заглянул в темно-серые глаза писателя:
– Если я не ошибаюсь, мистер Гудль ждет вас?
– Вы не ошибаетесь, – ответил Тикстон и, весело кивнув Картингу, склонился над рукописью «Фиолетовой коровы».
Картинг вышел. Шоколадный шофер стиснул гуттаперчевую грушу и в тихой зеленой уличке раздался рев тигра – сирены, изготовленной по особому заказу мистера Гудля.
III
Неоконченная страница рассказа так и осталась неоконченной.
Тикстон выкурил две сигары, бродил в течение часа по своему садику, по узеньким, кривым дорожкам, таким же желтым, как усеявшие их осенние листья, и думал обо всем на свете, только не о своей работе.
Да, Чарльз Тикстон – уже известность. Две книжки его рассказов, в которых неумеренная фантазия автора вечно воюет с веселой иронией, лежат на окнах нью-йоркских магазинов, и растрепанные, замусоленные страницы их ежедневно переворачиваются в бесплатных читальнях, Тикстона знают уже и по ту сторону океана. Переводы «Необыкновенных рассказов» изданы в Лондоне, Москве и еще где-то в Японии.
Но Тикстон не сыт, ох, далеко не сыт от своей «литературы». Не будь у Чарльза отцовского домика на клочке земли за городской чертой, ему пришлось бы вспорхнуть к небесам, в тесную конурку на двадцатом этаже какого-нибудь небоскреба-муравейника.
Мог ли Тикстон сегодня утром позволить себе такую юношескую выходку? Конечно, он знает, что всегда полезно «попридержать товар», но… Дело Томаса Гудля – верней всего – только тысяча первая прихоть скучающего миллиардера, о которой он уже забыл раньше, чем маленький бедняк Тикстон успел так «гордо отказать»… Ха! Красивый жест! Кто видел его? Чьи ладони наградят его аплодисментами? Что же? – лет через пятнадцать-двадцать, когда Тикстон распродаст в розницу, за гроши, весь скромный запас своего таланта, своей выдумки и энергии и когда катар желудка в компании с малокровием уложат Чарльза на дно могилы пятнадцатого разряда, а критики туземные и с того берега установят точную биржевую котировку «безвременно угасшего таланта», – тогда с королем сахара Томасом Гудлем баловница судьба сыграет еще один необыкновенный случай: мистер Гудль окажется владельцем автографа знаменитости, удивительного, небывалого, единственного из всей громадной коллекции, – автографа, который достался миллиардеру совершенно даром!
А между тем… Забавно было бы взглянуть поближе на одного из этих королей. Подышать воздухом палаццо на пятом авеню…
Чарльзу вспомнились рассказы его няньки старухи индианки о чудесной жизни в этих домах. По ее словам, там все, сплошь, было из золота: столы, кровати, даже стены… Полы там моют шампанским, лошадей кормят спаржей и ананасами… Ух!..
Тикстон весело рассмеялся и пошел обедать. Под ногами писателя шуршали листья… Тишину осеннего вечера, полную тонкой красивой грусти, неожиданно прорвал знакомый уже Чарльзу бешеный рев тигра. Писатель быстро обернулся и на темной дороге увидел два нестерпимо ярких оранжевых глаза.
Через минуту огромный, длинный, как вагон, шоколадный, казавшийся теперь в сумерках черным, автомобиль Томаса Гудля во второй раз остановился перед домом Тикстона. Писатель негромко, но весело свистнул и отпер дверь.
IV
«Так вот он какой…» – думал Тикстон, рассматривая мистера Гудля, сидевшего на диване, на том же месте, где утром сидел его секретарь.
Вероятно, это же самое думал и Томас Гудль, поглядывая на писателя. Оба молчали. Картинг был тут же, на этот раз скромно поместившись сбоку, на стуле у дверей.
Сахарный король еще не казался стариком. Черный и длинный, как его сигара, сухой и тонкий, как спичка, и совсем не похож на свои портреты, помещенные в нью-йоркских журналах.
Из троих молчаливых джентльменов, сидевших в кабинете автора «Необыкновенных рассказов», – сахарный король был первым, кому наскучило безмолвие. Он шевельнул большим пальцем левой руки в сторону своего секретаря и сказал:
– Объясните!
Картинг облизнул сухи я губы и повернулся к писателю.
– Дело мистера Гудля, – начал он, – следующее: во вторник будущей недели мистер Гудль дает свой обычный осенний вечер. Между другими номерами программы концерта уже получено согласие от певца Карузо, королевы танго и пианиста Падеревского, но мистер Гудль на этот раз желал бы предложить своим гостям что-нибудь новое, иначе говоря, еще никому неизвестное…
Тикстон слушал внимательно, переводя взгляд с миллиардера на его секретаря и обратно. Он уже угадал, в чем заключалось «важное дело» мистера Гудля, и решил «не продешевить».
«Что же? – думал он, внутренне посмеиваясь над собой. – Читал же Вольтер у прусского короля Фридриха. Это уже не его, Тикстона, вина, что в Америке нет других королей, кроме сахарных, медных и керосиновых»…
– Так вот, – продолжал Картинг, – мистеру Гудлю пришла мысль пригласить вас… выступить на его вечере…
– Гм… – произнес Тикстон.
Большой палец мистера Гудля шевельнулся вторично, и Картинг привстал со стула.
– Я еще не кончил, – поспешно сказал он, – мистер Гудль, конечно, предлагает вам самому назначить цену… размер вашего гонорара, но со своей стороны ставит следующие условия: вы прочтете свой новый небольшой рассказ, сюжет которого неизвестен никому, кроме вас, автора, и кроме того даете письменное обязательство уничтожить все черновики рассказа, а единственный экземпляр рукописи, после концерта, передать мистеру Гудлю для хранения в его доме в несгораемом шкафу в течение двадцати лет, считая со дня концерта.
– Гм… А потом? – спросил Тикстон.
– Потом, по истечении этого срока, рукопись возвращается автору, или его наследникам, и они могут ее печатать, вообще поступить по своему усмотрению.
Картинг умолк. В маленьком кабинетике писателя снова наступила тишина, но на этот раз первым нарушил ее Тикстон.
– Я согласен, – сказал он.
– Ваша цена? – спросил Картинг.
– Десять тысяч долларов.
Секретарь молча взглянул на своего патрона. Гладковыбритый, острый подбородок Томаса Гудля качнулся сверху вниз.
Картинг встал и вынул из кармана бумагу.
– Это договор, – сказал он, кладя бумагу на конторку Тикстона рядом с рукописью «Фиолетовой коровы».
Тикстон подписал. Томас Гудль кивнул ему головой и длинные тонкие ноги аиста шагнули к дверям.
– Одну минуту… – остановил его Тикстон и с веселой, откровенной улыбкой заглянул в глаза сахарного короля. – Если не секрет, зачем это? – и рукой, все еще вооруженной пером, Чарльз указал на договор, который Картинг, тщательно сложив, прятал в карман.
Несколько секунд Томас Гудль молча смотрел в смеющиеся глаза писателя, и тонкие губы его чуть тронула легкая улыбка.
Миллиардер повернулся к Картингу.
– Когда я должен быть в посольстве?
– Ровно в восемь, – ответил секретарь, вынимая часы.
– У нас есть еще восемнадцать минут, – сказал Гудль и снова сел на диван.
– Видите ли, мистер Тикстон, – произнес он скрипучим голосом, показывая два передних золотых зуба, – вы, писатели, любите говорить о заветах, идеалах, о вашем вдохновении, о служении народу, но еще больше любите гонорар. Гонорар – деньги. Ваши писанья, стихи, рассказы – товар. И, значит, ваше занятие тоже – дело. А я уже давно заметил, что в вашем деле не все в порядке. Вдохновение должно быть самым дорогим товаром на свете. Искусство должно быть самой дорогой игрушкой. Это – истина, и я должен признать, что живописцы и музыканты начинают уже ее усваивать. Но вы, литераторы…
Мистер Гудль сделал краткую паузу, чтобы выпустить изо рта серое облако дыма.
– Ваш шофер…
– У меня его нет, – сказал Тикстон.
– Все равно, – мой шофер никогда в жизни не повесит у себя моего Ван-Дика, моего Мейссонье и он должен истратить свой недельный доход, чтобы послушать Карузо, но любой поденщик может за один доллар купить и прочесть вашу книгу. Да и вашу ли только?.. Если не ошибаюсь, томик Шекспира стоит еще дешевле. Скажите, какое же удовольствие мне и моим гостям слушать рассказы хотя бы самого мистера Твена, если завтра же они станут известны всем? Понимаете? Всем, у кого хватит денег на газету… Я ваших книг не покупаю, мои друзья – тоже, но после моего вечера они могут сказать, что слышали рассказ Чарльза Тикстона, – такой рассказ, который, кроме них, никто не услышит и не прочтет. Это – монополия, и я за нее плачу. Понятно?
– Вполне, – сказал Тикстон.
Когда автомобиль Томаса Гудля скрылся за поворотом дороги, Тикстон запер дверь и в тихом раздумье вернулся в кабинет. Распахнул окно, чтобы выпустить дым, поглядел в темный сад и, словно обращаясь к кому-то невидимому, громко произнес:
– Десять тысяч… Гм… Хотел бы я знать: почему я не спросил пятнадцать?
V
У Чарльза Тикстона был один неисправимый порок: он не был чистокровным янки. Мать Чарльза была полька и в его жилах текло пятьдесят процентов славянской крови. Это – иногда приносило пользу поэту, но чаще вредило гражданину Северо-Американских Штатов.
От своей матери, которую Чарльз потерял еще десятилетним школьником, он унаследовал, казалось, немного: только серые глаза мечтателя, да еще истрепанную тетрадку шопеновских ноктюрнов. Но тихие ночи, проведенные им с пером в руке, могли бы рассказать о сожженных страницах стихов и о грустной лирике рассказов, никогда не бывавших в руках наборщика.
Соглашаясь на предложение мистера Гудля, Тикстон тогда же вспомнил о своих «залежах» на дне старого чемодана. Конечно, он и не подумает писать новый рассказ, ломать голову над сюжетом, понукать свою фантазию, для того лишь, чтобы пощекотать уши полусонных гостей сахарного короля. Достаточно сделать маленькую раскопку и извлечь на свет божий одну из желтых тетрадок, когда-то казавшихся такими драгоценными.
На следующее утро после визита миллиардера, Тикстон проснулся в великолепном настроении человека, которому улыбнулась судьба, и, наскоро позавтракав, вытащил на середину кабинета свой старый чемодан. На этот раз Чарльзу пригодился его огромный стол. Одна за другой ложились на него забытые рукописи, толстые и потоньше, запыленные и пожелтевшие, как осенние листья.
Вот поэма о тайне мирозданья в тысячу с лишним стихов… Вот толстый роман в жанре Диккенса с добрыми старичками и трудолюбивыми юношами… Стихи, посвященные «ей» – воображаемой богине жадного сердца… Стихи, посвященные «ему», борцу за свободу – Аврааму Линкольну… Пьеска в стихах из эпохи Борджиа… А вот, наконец, и то, что он ищет: коротенькая сказочка о девушке, потерявшей сердце.
Бедная сказочка, наивная, юная простушка, как долго ты была в пыли, забытой, никому ненужной!.. Решено: Чарльз займется ею. Причешет ее непослушные кудри, вплетет в ее темные косы яркие блестки остроумия, оденет ее в тонкое воздушное платьице из символики и минутных настроений и познакомит с королями и королевами на вечере мистера Гудля.
VI
– Здравствуй, Мод! Садись и помолчи минут двадцать, максимум – полчаса.