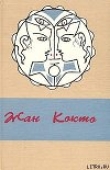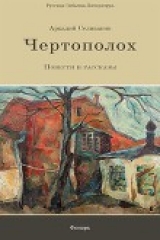
Текст книги "Чертополох"
Автор книги: Аркадий Селиванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
X
– Подожди, старина, что-нибудь придумаем!..
Вовочка Маурин закуривает папироску и разваливается в мягкой качалке.
В большом номере гостиницы светло, тепло и тихо, лишь порой откуда-то снизу долетают звуки музыки, да изредка трещит в коридоре звонок телефона.
Утонувший в глубоком кресле Ардальон Егорович молча любуется на задранные кверху Вовочкины ноги в лаковых туфельках и шелковых оранжевых носках. Потом его глазки останавливаются на крупной жемчужной булавке, небрежно воткнутой в пышнейший темно-синий галстук.
«Должно быть фальшивая – соображает суфлер. – Очень уж крупна. А впрочем… кто его знает? Мальчик талантливый… Какая-нибудь таганрогская купчиха в бенефис…»
А талантливый мальчик, дрыгнув ногами, вскакивает с качалки и бархатным баритончиком выкрикивает:
– Эврика!
– Эврика! – повторяет он потише, задумчиво шагая по зеленому ковру мимо Ардальона Егоровича.
«Молод еще, – думает суфлер. – Подождать бы надо, голуба! До Кречинского-то еще потанцуем…»
– Слушай, старина, – говорит Маурин. – Ангажемент нынче – фантасмагория. В театрах теперь лошади стоят. Даже в импера… то бишь, в государственных, вместо Островского играют в конвенты… Понял? Оставь надежду! Я сам через неделю уезжаю в Москву, буду для экрана выступать в раздирающей драме: «Как хороши, как свежи были розы»… А тебе советую до зимы сидеть у своего цирульника, а чтобы не выгнали тебя на дождичек, есть у меня одна комбинация. Слушай меня в оба уха!
Вовочка бросил потухшую папиросу, повернулся перед зеркальным шкапом и сел против суфлера.
– Ох! – жалобно вздохнул Ардальон Егорович. – Супротив этой ехидны, бабушки Семеновны, никакая комбинация…
– А ты слушай! Денег у меня у самого теперь – не густо. Полсотни я тебе вонзил, столько же еще дам перед отъездом. Но это все. Остальное уже твоя собственная игра ума. Понял?
– Ничего я, Вовочка, не понял, – радостно улыбнулся суфлер. – Но за деньги я тебе по гроб жизни…
– Ладно. Повторяю: остальное от тебя зависит. Сумей так повести дело, чтобы эти твои родственники в тебе американского дядюшку видели. Во-первых… – Маурин загнул мизинец с сапфировым колечком. – Купи себе немедленно сундучок, ящик, все равно какой, лишь бы у него был прочнейший секретный замок, и ключ носи на груди, у сердца. Во-вторых, все свои капиталы держи в этом сундуке, изредка выдавай старухе или зятю рубль-два, вообще гроши, но каждый раз доставай их из сундука. Понял? В-третьих, держи себя барином, а то в последнее время от тебя резинкой пахнет.
– Почему резинкой? – удивился Ардальон Егорович.
– Так… Осел ты очень. Старая рваная калоша. Courage, mon vieux! Езди на извозчиках. Нанимай за углом его за полтинник и подкатывай к дому. Часы я тебе дам, старенькие, накладного золота, почисти их зубным порошком и носи, вынимай почаще, но в руки не давай. Рассказывай о делах, банках, комиссиях… Нынче каждая селедочница спекулирует. А я еще письма тебе – из Москвы настрочу: так и так, мол, устроил тебе ангажемент, да мало дают, всего четыреста, а я, мол, требую вдвое. Понимаешь?
– Начинаю. Эх! Любуюсь я на вас, нынешних…
– Любуйся! В-четвертых, девицу твою надо пристроить. В билетерши пойдет?
– Побежит! Да только… – Ардальон Егорович грустно вздохнул. – Возьмут ли? Очень уж она у меня… На лице – панихида.
– Ничего. Я записку дам к знакомому, в кинематошку… А дочку твою я понимаю: с таким папашей невесело… Ну?
Вовочка Маурин встал и вынул часики из кармана.
– Пойдем вниз. Небось, проголодался? Эх, старина, сумей держать фасон и… Семеновна тебе сапожки будет чистить, а парикмахер твой наследства ждать от богатого тестя… Ха-ха!..
Маурин открыл кожаный несессер, попрыскал на себя одеколоном, поправил булавку в галстуке и, открывая дверь в коридор, изящным жестом пригласил гостя.
– Маркиз, прошу вас следовать за мной!
«Маркиз» потер ручки и засеменил по ковру коротенькими ножками.
XI
Каждый новый день рождал новые темные, сумбурные слухи. Человеческая накипь, загнанная войной в огромный город и взболтанная революцией, теперь всплывала на поверхность. Опустевшие уголовные тюрьмы тщетно ждали своих habitues. Темные руки грелись у костров восстания. Преступление щеголяло в новенькой маске и, под плащом анархизма, прятались рядом кинжал Брута и фомка взломщика. Одинокие беззубые старушонки платили по счетам свергнутой власти, и зарезанные ребятишки попадали в синодик свободы.
Бабушка Семеновна, возвращаясь по утрам с базара, приносила увлекательные рассказы о событиях минувшей ночи.
– В соседней улице, в пятом номере, дворника зарезали. Всех порешили! Младенец годовалый в люльке спал, так и того ножом проткнули. Кровищи сколько!.. Сказывают, что дезертиры, а только никого не поймали. И денег нету, а у дворника-то тыща рублев была накоплена, в сундуке под кроватью лежала. А на углу, у мясника, вчерась ледник сломали – всю телятину уволокли. Поделом ему, рыжему хапуге, по три с полтиной драл…
– Поделом! – соглашался парикмахер. – Всех бы их, толстопузых, на одну веревку…
– Нынче дома никаких денег держать нельзя – продолжала Семеновна, поглядывая на суфлера. – У соседской швейцарихи пальто новое, по весне справлено, семьдесят без мала заплатила… Встретила ее давеча, бежит с узлом в ломбард. «Боюсь, говорит, среди белого дня воруют, заложить от греха».
– Так-то оно так… – задумчиво покачивал головой Ардальон Егорович. – Только и дома опасно и в банках не слаще. В случае чего, первым делом они на банки налетят.
– Там, небось, охрана. Буржуи стерегут, – саркастически улыбнулся Гришин.
– Стерегут? Был я недавно, видел. Два инвалида с ружьишками на лестнице сидят. Только и всего. Подумаешь, охрана! Нет не доверяю я банкам. Да и вообще… – суфлер бросил небрежный взгляд в угол на свой дубовый сундучок. – Деньги – тлен. Кто их видывал достаточно… Была бы голова на плечах, а деньги новые будут.
– Легко вам, папаша, рассуждать… – вмешалась Ольга Ардальоновна. – Не у всякого ваше счастье… А вот у нас опять не слава Богу! Володька вчера три рубля потерял, говорит, что не иначе, как в трамвае обронил, когда с газетами на подножке висел… Я вихры ему надрала… Думаю: врет, паршивец, на халве проел, либо на лимонаде пропил… Да что уж? Денег все равно нету.
– Есть о чем горевать, – махнул ручкой суфлер. – Спросил бы у меня, пострел-газетчик… Хе-хе-хе!.. Дедушка добрый, да и сумма-то – тьфу! Только вот, разменять надо.
Ардальон Егорович, не спеша, подошел к своему сундучку, присел на корточки, спиной к Семеновне, и пощелкал секретным замком.
– Вот, – сказал он, выпрямляясь и потирая спину. – Четвертушечка. Вы, бабушка, дойдите до лавочки, разменяйте, да заодно уж и пяток огурчиков купите, нежинских. Что-то меня на соленое потянуло… Да заодно уж и папирос прихватите. Что их жалеть, деньги-то, бумага… Скоро нашими кредитками стены начнут оклеивать. Падает курс-то… Вот она, ваша революция, – повернулся он к зятю.
– Вот она, ваша война – ответил парикмахер. – Проливы вам требуются, Царьград подавай! Капиталистам рынки нужны, а мы в могилу полезай…
– О, хо-хо! – вздохнул Ардальон Егорович, укладываясь на диванчик. – Поумней нас люди думали. Толстейшие книги написали. А покуда свет стоит, без драки не проживут.
– Проживут. Дайте срок! Только вот силушку бы нам, всем бы заодно. Все бревна с пути раскидаем, весь чертополох выполем… Буржуев этих европейских, что на драку науськивают для своих карманов. Свет-то еще постоит и наше еще возьмет. Рабочему человеку война не нужна. Всемирный пролетариат понимает…
– Ну вот, давно не кашлял? – рассердилась Ольга Ардальоновна. – Дери глотку-то, опять кровью захлебнешься… И как это вам не надоест? С утра раннего политику эту окаянную… Господи, до чего все это очертело!.. Вчера Володьку ругаю, говорю, чтобы к хозяину своему пошел, к газетчику, признался бы, в трешке-то… А он, стервец, туда же, не пойду, говорит, к этому буржую, нешто он поймет? Он, говорит, кажинное утро «Новое Время» читает…
– Хе-хе! – зажмурился суфлер. – Микроб. Эпидемия! Ни старых, ни малых не милует. Чем-то все это кончится? Сдается мне, что – Бонапартишкой…
XII
Все темнее становились вечера, все пасмурней утра. Утихли ветры, расползлись в разные стороны грязно-серые тучи, и снова выглянуло солнце, но это уже было августовское, грустно-холодное, спешившее на ночлег, в теплую стариковскую постель, торопливо нырявшее там, где взморье братается с небом вечерним.
Но зеленая улочка еще не сдавалась. Только единственная липа в офросимовском палисаднике роняла по утрам свои золотисто-темные листья, да с каждым днем краснели кисти рябины, оттягивая к земле тонкие, полуобнаженные ветви.
Терентий Иванович, постукивая по мосткам суковатой палочкой, шел из церкви. В кармане теплого ватного пиджака-пальто лежала завернутая в носовой платок половинка просфоры; другую половинку он съел еще в церкви, держа ковшиком ладони и медленно жуя беззубыми деснами черствое, безвкусное тесто. Просфора была о здравии воина Константина и много их было таких же, поданных старушонками и унылыми бабами за несчитанных воинов.
Но в церкви было малолюдно. Шушукались у выручки две монахини, да шмыгала валенками по каменному полу старуха-богаделка, бродя под киотами и собирая догорающие свечки. И свечей горело мало, да и те все больше тоненькие, пятикопеечные, лепты вдовиц. Мужчин в церкви почти совсем не было. Кроме Терентия Ивановича, только двое русых парней в новеньких шуршащих ситцевых рубахах, да еще один старенький отставной полковник. Он глядел на икону, помаргивая слезящимися глазками, кивал головой и крестился, небрежно пошевеливая пальцами под ложечкой.
«Щепотник… – косился на него Терентий Иванович. – Ишь пуговицы чистит!.. А, небось, тоже приплелся, ваше благородие… Поди, и у тебя сыновья-то в окопах».
Лениво и негромко гудел диакон на амвоне, грустно и словно нехотя мурлыкали певчие. И казалось, что строже, чем всегда, хмурились лики угодников на старых почерневших иконах. Тускло поблескивали золоченые ризы Богородицы, одинокой, с каждым днем все больше забываемой молитвенницы.
– Прощайтесь с Матушкой-то!.. – сказал Терентию Ивановичу знакомый староста. – Увезем скоро. Приказ был. Эвакуация. Напирает враг-то…
– Напирает… – согласился Терентий Иванович, оглядывая полутемную, почти пустую церковь. – Со всех концов… Замутился народ. На митинги валом валит; а в храме божьем хоть шаром покати. Но еще придут. Еще придут православные!.. Далеко не ускачешь! Вспомнят еще Царицу Небесную… Польют еще пол-то слезами… Ужо!.. А куда повезут-то? – спросил он помолчав.
– Да неизвестно еще доподлинно. Сказывал отец Николай, что в Вятку, либо на Волгу куда…
– В наши места? Чего лучше? Пусть погостит. По крайности там в почете будет. У нас народ-то еще не порченый…
– Да и в целости, – поддакнул староста. – А то у нас на прошлой неделе чуть беды не вышло. В алтаре, в окошке, ночью решетку сломали. Да видно помешал им кто-нибудь… Ушли.
– Стеречь надо, – нахмурился Терентий Иванович.
Староста махнул рукой и звякнул ключами.
– Кому стеречь-то? Четверо сторожей у нас было, а нынче всего один, да и тот пьяница, ханжу глушит. А и прогнать нельзя: грозит, я, говорит, всю вашу лавочку сожгу, довольно… Поторговали Богом-то!..
– Ужли ж никакой управы?
Староста хмыкнул носом и, послюнив пальцы, стал считать жирные разбухшие марки.
На углу встретил хозяина «Жук», весело взвизгнул и с размаху ткнулся в живот Терентия Ивановича. А в калитке стоял Антон и ухмылялся.
– Приехали! – сказал он.
– Кто? – спросил Терентий Иванович, замахиваясь палкой на «Жука».
– Константин Терентьич, и в полном здравии… Только загоревши очень.
Офросимов молча поглядел на дворника и, сняв с головы плюшевую серую шляпу, не спеша перекрестился, по-староверски, двумя перстами.
– Ну? – спросил он, входя в столовую и видя только согнутую спину сына, возившегося с чемоданом. – Отпустили? Забраковали значит?
Костя Офросимов, черный от загара, улыбаясь, сверкнул зубами и, подойдя к отцу, поцеловал его сначала в руку, потом в желтую щеку.
– Нет, папаша. Я дней на пять, самое большее на недельку. Я прислан на съезд, делегатом.
– Делегатом? Это тебя-то? – прищурился Терентий Иванович. – Что ж они там сдурели все, в земле-то сидючи?
– Не смейтесь, папаша! – отвернулся Костя. – Меня еще в прошлом месяце хотели в председатели ротного комитета, да я отказался…
– Так… Пей-ка лучше чай-то, грейся! – сказал Офросимов, снимая пиджак, и крикнул в кухню: – Степанида, тащи пирог! Словно знали, – добавил он улыбаясь, – с грибами и капустой загнули. Удалось муки достать, с полпуда, да уж больно цена-то кусается… А как у вас там? Насчет еды-то?
– Ничего. Пока сыты. На нашем фронте благодать! Теплынь, сливы растут, яблоки – пятачок пара.
– А в сражениях был?
– Нет еще, – улыбнулся Костя. – Да надо полагать, и не придется… О мире шибко толкуют. Тоже и немцам надоело. А у нас весело. Командиров сменили, новых повыбирали, нашим батальоном подпоручик командует и за всем в комитет бежит. Умора!
– Так… ешь пирог-то, остынет… Делегат! Выходит, что и там такая же канитель… Ну, значит, пиши пропало! Съедят нас немцы.
– Подавятся! – успокоил сын. – Аннексий не дадим.
После обеда Костю разморило.
– Двое суток не спал – сказал он, зевая, – одиннадцать верст на крыше ехал.
– А ты приляг с дороги-то! – посоветовал Терентий Иванович. – К самовару разбудим.
Костя послушался. Снял сапоги, отчего по всей квартире запахло кожей, и, укрывшись шинелью, моментально заснул.
А Терентий Иванович походил по своей спаленке, послушал, как в соседней комнате храпит делегат, и пошел к жильцу Курнатовичу.
Мывшая посуду Степанида от великого изумления, выронила из рук тарелку и долго, соображая что-то, трясла седой головой.
Войдя в квартирку Дементия Петровича, Офросимов поискал глазами икону и сел против хозяина около маленького письменного столика.
– Извините, – сказал он, кланяясь вошедшей Марусе. – Маленькая просьбица у меня. – Вот… – он расстегнул пиджак и вынул из кармана сложенный вчетверо лист бумаги.
– Завещаньице домашнее составил я на днях. На всякий случай. Все под Богом… Очень прошу вас подписаться свидетелем. Две подписи есть, третьей не хватает. Не откажите!
Курнатович подписал.
– На войну что ли собираетесь? – пошутил он.
– Война нынче повсюду, – сказал Терентий Иванович, пряча бумагу. – А смерть, она – тихоня, упреждать не станет.
XIII
– Бедная ты моя, фиалочка южная!.. Завяла ты здесь совсем. Бледненькая, сидит нахохлившись и песенки свои забыла.
Курнатович подошел к жене и ласково погладил каштановую, наспех и небрежно заколотую, косу Маруси.
– Нет еще, – улыбнулась она, беря руку мужа, и тихонько пропела тоненьким голоском: «Я увядаю с каждым днем, но не виню тебя ни в чем»…
– Да, а все-таки это моя вина: я помню, ты не хотела ехать сюда, звала в Харьков. Меня соблазнили письма Воронкова. И правда, зарабатываю-то я много, но все уходит в эту бочку Данаид. Этот месяц у нас опять нехватка. А скоро зима. У тебя нет шубки… И дров нужно запасти, а то замерзнем. Домишка-то этот гнилой, сквозь стены продувает. Поискать бы другую квартирку?
– Не стоит. Я уже привыкла.
– Хуже всего, что весь день ты одна… – сказал Дементий Петрович. – Соседи наши… Бог с ними! От хозяина постным маслом пахнет, от парикмахера – аптекой несет. Старухи еще какие-то… Не с кем слова сказать.
– И не нужно. Я не скучаю, – вздохнула Маруся. – Есть книги, газеты… Заведу себе котенка… Куплю вот завтра шерсти и начну вязать тебе шарф, потом напульсники… Потом Алеше… Потом…
– А потом, в один печальный вечер, я найду мою Маруську на веревочке, на гвоздике, а вот тут на столе – записку: «в смерти моей никого не винить»…
– Никого, – грустно улыбнулась Маруся. – Никого, кроме войны и революции.
Курнатович закурил папиросу и потолкался по кабинетику.
– Знаешь что? Пойдем сегодня в кинематограф!
Маруся поморщилась.
– Не люблю я.
– Ну, все-таки, люди там, музыка, Глупышкины… Здесь недалеко есть приличный театрик… Пойдем?
– Уговорил!
Маруся потянулась, взглянула в окно на быстро темнеющее небо и ушла в соседнюю комнатку одеваться.
А Дементий Петрович в ожидании присел к столу и задумчиво пощипал бородку.
«Нет уж, – решил он. – Никакого рая в шалаше не будет. Сейчас она скучает, потом она станет злющей и…»
– Маруся! – крикнул он. – Хочешь, вместо кинемо, поедем к нашему студиозусу?
– Нет, – ответила она и, хлопая дверцей шкапа, снова замурлыкала вполголоса надоевший романс: «Я увядаю с каждым днем»…
– Знаешь, – сказала Маруся, выйдя на улицу и похлопав перчаткой по черной добродушной морде Жука. – Я сегодня в одной газетке прочла забавную и грустную историю. В каком-то городке, в Сибири, пришел в редакцию газеты солдат и принес письмо… Трогательное такое воззвание к «братьям и сестрам», бросьте, мол, смуту, тушите огонь, спасайте Рассею… По-моему, даже неглупое письмо. Но, конечно, оно не подошло, и солдатику вернули его… Знаешь, что он сделал? Схватил топор и отрубил себе правую руку… Пропадай, говорит, если не сумела написать, как следует.
– Гм… Похоже на анекдот, – улыбнулся Курнатович. – Ну? Это ты к чему?
– Когда я прочла, мне вспомнился Алеша. Он словно бы уже авансом, заранее отрубил себе обе руки…
– Фу!.. – рассмеялся Дементий Петрович. – Твой Алеша просто лентяй. И к тому еще нытик. Пойдем скорей! Я не люблю никуда опаздывать. А этот солдатик – молодчина! И пример многим: сколько рук сейчас не умеют, а пишут…
При виде Маруси, вошедшей в фойе театрика, на постном личике Лизы появилось что-то вроде улыбки.
– Здравствуйте! – сказала она, отрывая билетики.
– Вы здесь? Давно? – спросила Маруся.
– Нет, вторую неделю… Войдите, сейчас первая картина.
И, освещая путь электрическим фонариком, Лиза вошла в темный, наполовину еще пустой, зал.
– Кто это? Знакомая? – спросил Курнатович.
– Да. Наша соседка. Дочь старого актера.
– Видишь? И она пристроилась. Не чета нашему Алексею, человеку Божию…
Маруся промолчала.
На экране была Венеция, милая, солнечная и скучная, давно знакомая всем и каждому. Палаццо дожей, площадь Марка и, конечно, голуби, и, конечно, гондолы…
Маруся тихонько зевнула и стала слушать музыку. Играли трио. Виолончель пыталась зарыдать, но только хрипела, мяукала дешевенькая скрипка и четко, машинально барабанили по клавишам пианино руки невидимого тапера. И Марусе казалось, что этот человек сидит там внизу, полузакрыв глаза, и что у него болит поясница, и он думает о политике и мечтает записаться в кооператив.
После Венеции потянулась драма из великосветской жизни, в семи частях. Красавица итальянка купалась в Средиземном море, играла в теннис и в каждой картине меняла по два туалета. Изящные маркизы и знаменитые скульпторы играли в карты, ездили в автомобилях и, закатывая подведенные глаза и портя свои прически, изображали муки ревности…
«Глупо все это и пошло, а… красиво, – думала Маруся. – Есть же где-то иная жизнь. Флирт, искусство… Красивые слова, счастливые лица… Живут же люди без красных флагов, без наших дрязг»…
И, словно угадывая мысли жены, Дементий Петрович склонился к ее уху и шепнул:
– Вот они, настоящие-то буржуи… А за них теперь у нас каждый учителишка географишки отдувается.
Маруся улыбнулась.
– А как тебе понравилась эта Франческа в купальном костюме.
– Гм… Ты, наверно, лучше.
Маруся умолкла. «Что из того? – подумалось ей. – Ее судьба вперед известна: тесная кухня, обед на спиртовке, дежурство в хлебном хвосте, штопанье чулок… Быть может – ребенок, тогда еще и пеленки… Быть может, какая-нибудь маленькая удача, значит – новая квартира и те же гости, преферанс, споры о большевизме, оборончестве, о гидрах контрреволюции… Письма Алеши-Поповича, никудышного российского молодца, влюбленного в чужую жену и в собственную хандру… А там и старость, желтые щеки, руки, черные от картошки, коса, облезлая от зеленой скуки… И в прошлом ничего… И в „заветной“ шкатулке пусто. Разве – счет от прачки. А там и смерть, глазетовый гроб, и в гробу махровая дура – примерная жена, честная подруга банковского клерка Курнатовича, „гитариста и покорителя“ провинциальных девиц»…
Антракт. Под потолком театрика, одна за другой вспыхивают электрические лампочки. Музыка умолкает. Лиза отдергивает бурую полинявшую портьеру, и густая толпа новых зрителей разливается по театрику.
Маруся сидит прямая и неподвижная. Слегка закушена нижняя губа, и чуть сдвинуты тонкие брови.
Дементий Петрович заглядывает сначала в программу, потом в глаза жены:
– Что ты? Устала? – спрашивает он. – Голова болит?
– Немножко, – отвечает Маруся и глядит, не мигая, на курчавый затылок сидящего перед ней прапорщика.
Потом на экране «любимец публики Макс», знакомый до тошноты, проделывает в сотый раз одни и те же незамысловатые трюки, но Маруся неожиданно улыбается, встряхивает головой и, отыскав в темноте руку мужа, ласково сжимает его пальцы в фильдекосовой перчатке.
Подведя Марусю к калитке, Курнатович выпускает ее руку и подает ключ от квартиры.
– Ступай, ложись, моя детка, а я еще посижу здесь. Чудесный вечер, жалко уходить с улицы.
Он подходит к скамейке у ворот и садится рядом с Антоном.
– Покурим, дядя? – говорит он, доставая портсигар.
Антон берет кривыми пальцами тоненькую папироску и косится на темные окна хозяйской квартиры.
– Благодарим! Не любит сам-то…
– Да он, поди, уже спит, – успокаивает Дементий Петрович.
– Нет. Не спится ему нынче. Сын-то позавчера опять на позицию уехал… Да и грабителей опасается. По ночам все духовное читает… Того и гляди на двор выйдет, для проверки…
– Должно быть у него денег много?
– При капитале, – кивнул Антон. – Раньше-то трактиры держал, четыре заведения, а как война – прикрыл.
– Так… – Курнатович бросает в канаву окурок и, сдвинув на затылок шляпу, смотрит на вечернее небо. Из-за крыши соседнего дома медленно выползает розовый месяц.
– А что, барин, слышно насчет замиренья? – спрашивает Антон.
– Да ничего нового… Ждать надо.
Антон ухмыляется.
– До кой поры ждать-то? – и, понизив голос, сообщает по секрету: – Буржуи не хотят. Нам это известно. Они с немцем заодно.
– Ерунду порешь, дядя… чушь! – говорит Дементий Петрович.
– Не, барин, ты послушай: летом был я в деревне, дома значит… У нас барыня по соседству, Дугина помещица, богатейшая, а коров у нее не доят. Постановили, значит, чтобы никто. По рублю давала, только без последствий. Она и осерчай: «Ладно, – кричит, – вот придут ерманцы, покажут вам, согнут спины-то»… Это, барин, ты как понимаешь?
– Дура она, барыня ваша. Только и всего.
– Ого! Нет… А значит стакнулись они…
Антон помолчал и, почесав бороду, подвинулся к Дементию Петровичу.
– Я, конешно, человек неученый… Мое дело дрова да помои таскать… Ну, скажем еще, ханжу пить… А только промеж господ и я разговоры слыхивал. Малость смекаю…
И, снова помолчав, он тяжело нагнулся к самому уху Курнатовича и добавил шепотом:
– Господа хотят на прежнее поворотить. Чтобы, значит, опять крепостные права…
Курнатович весело рассмеялся.
– Ну, ну! – сказал он. – Чудак ты, дядя! Да разве же это возможно? Ты подумай, ведь у нас теперь республика.
Антон ничего не ответил. Встал со скамейки и, выйдя на середину улицы, поглядел на окна дома.
– Должно, в самделе, спит, – решил он, возвращаясь к калитке. – Окромя лампадки, никакого свету… О-хо-хо!.. – зевнул он. – Была у меня книга, барин, – сам-то я неграмотный, а парнишка читал… – вот какая книга…
Антон показал руками.
– Все в ней прописано, и про Москву, и про татар… И про Новгород тоже, что было там, значит, такое же настроение… И промеж себя склока. Брат на брата… Головы рубили, с моста в воду скидали… Да. Я так полагаю, что теперь таких книг уже нету… И колокол у них был, на площади. Как зазвонят в него, все и знают… Да, а только я боюсь… Меня еще о прошлый пост, в марте месяце, таскали… Сказывай, говорят, в котором номере у вас городовой живет? Штыки наставили, веди, требуют, к нему на квартиру. А городовой-то у нас, в третьем номере жил, действительно, да уж недель пять, как съехал. Говорю им, не верят. Укрываешь! – кричат. Разволновали меня… Я к хозяину, за расчетом, да на утро, чуть свет, собрал мешок да и на машину. Ну их к дьяволу, боюсь я… У меня в деревне четверо ребят…
– Ну, пойду спать, – сказал Дементий Петрович вставая. – Прощай, дядя! На, возьми папирос-то, покуривай, а то заснешь.
– Вот, спасибо! – ухмыльнулся Антон и свободной рукой подержался за свою рыжую ватную шапчонку.