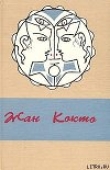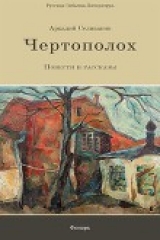
Текст книги "Чертополох"
Автор книги: Аркадий Селиванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
II
Шурочка проснулась поздно, с тяжелой головой, и долго валялась в постели. Старалась вспомнить свой сон, и ее маленький, слегка вздернутый, носик, смешно морщился.
Снилась ей сначала дорога, длинная, длинная и совсем без конца, потом чья-то черная кошка с зелеными круглыми глазами, а под конец, белобрысенькая Олечка Вурст, вся в веснушках.
Шурочка улыбнулась и пожалела, что нет здесь тети Липы. Знаменитая отгадчица снов была тетушка, самому фараону угодила бы.
А бывшую подругу и вспомнить неприятно: ласкалась, как котенок, умница была, над своей кроватью развесила портретную галерею великих социалистов, а на прощанье оказалась воровкой.
Уехала неожиданно, не предупредив Шурочки и, без ее разрешения взяла из комода восемьдесят три рубля с мелочью… Это бы еще ничего, но пропали и все документы Шурочки: и паспорт, и метрика, и квитанция с курсов, и даже билет в оперу.
Шурочке пришлось хлопотать около месяца, публиковать о пропаже документов на имя Александры Павловны Зверковой, бегать по участкам, телеграфировать тетке… А Олечка эта точно в Америку сбежала. Никаких следов.
После этой «науки» Шурочка решила жить одна. Вдвое дороже обходится и скучней, но зато уже спокойней. Научилась запирать комоды и носить с собой ключи.
А теперь, после объяснения с Дмитрием, Шурочка очень довольна своим одиночеством. Никто не мешает. Ничей любопытно-сочувствующий нос не суется в ее маленькую тайну.
Вот можно и сейчас, на свободе, подумать о нем и обо всем, «что ждет впереди». Ну, хорошо. С тетей Липой она справится, а своих стариков можно пока и не посвящать в эту «тайну». Осенью будет свадьба. Гм… То есть, свадьбы-то, фаты, цветов, подруг, «Исаия ликуй…» и прочего не будет. Снимут комнату побольше, или маленькую квартирку, где-нибудь на острове, и… И начнется всяческая проза. Дима будет бегать по урокам, а она варить обед на керосинке. А Шурочка ничего не умеет… Прощайте, значит, книжки, и музыка, и портрет, милый портрет лорда в Эрмитаже, к которому Шурочка ходит каждую неделю, и шелковые чулки, вот эти, что сейчас так ласково обнимают ее ногу. Да, а все-таки Шурочка влюблена. И все это пустяки. И нет такой жертвы, которую бы она не принесла за одну его улыбку, добрую и в то же время ироническую. За ласковый взгляд его серых, слегка близоруких глаз…
И, вот, сегодня уже пропал весь день. Шурочка встанет, напьется кофе и будет долго-долго возиться с прической. Мягкие, послушные локоны лягут так, как она захочет, но, ведь, сегодня придет Дмитрий и, значит, возня с прической будет бесконечной, и в зеркало будут глядеть сердитые, ничем недовольные глаза Шурочки. Потом она начнет перебирать свои блузки. Бледно-желтая ей к лицу, но у нее слишком глубокий вырез… и Шурочка еще побаивается иронической улыбки. Белая – подарок тети Липы и слишком нарядна, на воротничке настоящий «брюссель». Возможно, что он и не разберет, но довольно с нее уже и тех разговоров о собольей муфте.
Когда же со всем этим будет покончено, тогда начнется самое страшное: потянутся пустые часы ожидания. Маленькая стрелка на золотых часиках остановится совсем. В мыслях будет милая и противная путаница, в книгах – только слова без смысла. И вся эта болезнь называется любовью. Ох! Уехать разве? Поискать лекарства под крылышком у тети Липы?
Шурочке грустно. Опустив руки, она ходит по комнате от коврика у кровати к окну и обратно, вынимает из-за пояса часики и ловит себя на смешном вздохе.
III
Черняев приходит поздно. В руках у него небольшой пакет в желтой бумаге и пучок ландышей, почти еще зеленых, полураспустившихся.
– Однако! – встречает его Шурочка. Голос ее суховат, но в глазах уже улыбка.
– Прости! – говорит Черняев, целуя тонкие, холодные пальцы Шурочки. – Сегодня опять остановились трамваи. Я всюду пешком и всюду с опозданием. Устал страшно!
Он бледен и кажется больным.
Шурочка заглядывает в его глаза. Из-под слегка припухших, обветренных век на нее поднимается чей-то незнакомый, хмурый взор.
– Ты болен, Дима? Простудился?
– Нет, только устал. Я принес вина, – говорит он, указывая глазами на свой пакет. – Вот выпью стакан и оживу. И дай мне чаю, горячего.
Шурочка хлопочет у стола, а гость сидит молча, не поднимая головы.
В руке Шурочки звякает блюдце.
– Нет, ты должен сказать, что с тобой? Что случилось?
Знакомая, милая улыбка трогает его губы.
– Не обращай внимания… Просто нервы… весна…
Шурочка молча и тихо целует его лоб и прядку смятых фуражкой волос.
– Бежать, скорей бежать отсюда, – шепчет она. – Здесь и весна – мученье… И любовь – пытка.
– Пытка! – повторяет новый, незнакомый голос.
– Дима!
– Эх!.. – Черняев встает и подходит к столу. – Выпьем-ка лучше за эту, нашу… пытку. Повторяю, милый зверенышек, не обращай на меня внимания. Я сегодня был на… одних похоронах. Товарища одного хоронил… Славный был парень… но умер и в землю зарыт. Ну, бери же стакан и до дна!
– Кто умер?
– Все равно… Уже не встанет.
Шурочка молчит. Медленно пьет вино и смотрит, смотрит, не отрываясь, на бледное осунувшееся лицо, на лихорадочно горящие глаза своего любимого. В ее груди уже тревога. Черная когтистая лапа сжимает сердце… И Шурочка ничего не может понять. «Экзамены… Переутомился…» – пробует она объяснить и снова заглядываете в чужие, пугающие глаза.
А Черняев курит, не переставая, и молча улыбается своим думам.
Шурочка не выдерживает больше.
– Дмитрий, – говорит она и в ее голосе тоже нет ласки. – Уходи! Я не понимаю тебя сегодня… хуже – я боюсь тебя, такого. Тебе необходимо лечь, выспаться. Завтра я приду к тебе. Завтра ты скажешь мне все… А теперь уйди! Я ждала тебя. Я считала минуты… Одно из двух: или сейчас же все, на чистоту, всю душу… или – прощай!
– Не гони меня, – говорит он и медленно подходит к Шурочке. Берет ее голову в обе руки и целует свою невесту неожиданно горячим, полубезумным поцелуем.
– Прости меня!.. Я не должен был сегодня приходить к тебе. Налей мне вина еще… и себе. И расскажи мне что-нибудь о своей тете Липе… О том, какой у нее рай земной и как мы, взявшись за руки, будем бродить «под кущами райских садов».
Черняев отходит к окну и закуривает папиросу.
Шурочка молчит. Смотрит на свои руки, внимательно, не отрываясь.
– Мы не годимся для рая… – говорит она.
– Гм… Ну, что же? Яблоки растут везде. И каждая Ева умней своего Адама.
– Да? Мне скучно, – отвечает Шурочка и медленно допивает вино.
– А мне уже весело! Ты подумай только, какая это чудесная стальная броня – твои глаза, глаза любимой, зеркало ее души. Вот, я смотрю в них… Ясное небо, хрусталь…
– Продолжай, ты увидишь и слезы.
– Нет, такие, как ты, не плачут. И вообще слезы эти – ваши женские, пора кончить… Вы уже во всем сравнялись с нами, и в труде, и в лени, и в доблести, и… в подлости. Не сердись, детка, есть и такие… Осталось вам только одному научиться: нашему уменью глотать слезы.
– И тогда?
– Тогда начнется великая битва, и мы победим. Ну, расскажи мне, что ты делала сегодня? Читала газеты? Да?
Черняев близко заглядывает в глаза Шурочки, в самые зрачки.
– Нет, я даже не выходила из дому.
– Жаль, сегодня есть кое-что интересное… Впрочем, уходя, я оставлю тебе свою газету. Прежде, чем заснуть – просмотри!
– Чтобы заснуть?
– Нет, чтобы… проснуться, как я.
Шурочка сдвигает брови.
– Дай сейчас! – говорить она.
– После, успеешь – улыбается Черняев. – Сначала дай мне твои руки… И губы… И глаза твои, ясные… И ничего нет. Ты слышишь? Ничего, кроме моей любви к тебе… Ты моя сегодня!..
IV
Рано встает весеннее солнце, но еще раньше уходит Черняев. Тихонько выливает в стакан остатки вина, пьет и долго, задумчиво смотрит на спящую Шурочку. Потом вынимает из кармана смятую газету, медленно, стараясь не шуршать, развертывает ее и кладет на стол, покрывая газетным листом пустые стаканы, корзиночку с хлебом и вазочку с вареньем. С любимым Шурочкиным вареньем из морошки.
Еще один, долгий взгляд на бледное лицо, на опущенный ресницы… и, чуть скрипнув дверью, Черняев выходит.
Шурочка спит. Золотисто-розовые любопытные лучи апрельского солнца обшаривают всю комнатку. Их все интересует: и мягкая соболья муфточка, брошенная на стул у двери, и разорванный кружевной воротничок на Шурочкиной блузке. Они перебирают каждый волосок в расплетенной косе и тихонько целуют розовую руку с ямочкой у локтя…
Нескромные весенние лучи уже проникли в маленькую тайну минувшей коротенькой ночи и теперь они торопливо дочитывают в газете черные строчки, обведенные красным карандашом. Подслеповатые строчки под заголовком: «Девятый список провокаторов». Много их тут… Много слабеньких, свихнувшихся, дешевеньких искариотиков… А в красной рамке – Шурочка, бледная, спящая царевна, тетушкино божество. Полностью она обозначена: «Александра Павловна Зверкова, курсистка, на службе с 1913 г., полезная осведомительница, жалованье 125 руб.»
Бегают по строчкам розовые зайчики, перешептываются и смеются, но не слышит их Шурочка. Крепок сон после ночи весенней. И ровно дышит грудь ее, обожженная первой лаской, первым и прощальным поцелуем любимого.
1917 г.
В белой тишине
I
На длинной белой руке с голубыми жилками тускло поблескивает тяжелое обручальное кольцо. Клавдия Викторовна задумчиво вертит его вокруг пальца, потом захлопывает шкатулочку с принадлежностями manicure и лениво потягивается.
«Глупо все это… – думает она. – Назад не повернешь. Да могло быть и хуже. Каждый жених – кот в мешке. Каждый брак – аллегри. Стива еще лучше многих. Суховат, увяз по уши в делах, в искусстве – профан, но… директор фабрики и владелец каменной стильной дачи на островах, может же позволить себе роскошь любить пейзажи Клевера и стихи Апухтина… К тому же он еще не стар и под руководством такой жены… Гм…»
Клавдия Викторовна досадливо пожимает узенькими плечами.
«Нет, – решает она. – Из этого ничего не выйдет. Красоту нужно чувствовать, эстетами родятся. Степан Егорович так и умрет, не понимая, почему люди сидят истуканами над гравюрами Дюрера…» Уже ясно: дороги у них разные, и друзья, и знакомые и все – отдельное. Она – поэтесса, он – коммерсант. Он встает в восемь утра, она ложится в три. Он по утрам ест холодный ростбиф и читает передовицы, она – пьет шоколад и перелистывает книжки «центофуга». Стива почти не интересуется ее творчеством, она же никогда не спрашивает его о курсах на акции. А все-таки… Жить можно. И у них бывают минуты, даже часы, когда жрец Меркурия вкусно, очень вкусно целует жрицу Аполлона и она, в свою очередь, горячо прижимается к его бритой щеке, чуть-чуть колючей, чуть-чуть пахнущей одеколоном «Фарина».
А все же, два года тому назад, Клавочка мечтала не об этом. Он, ее будущий, казался ей другим. Непременно художник, артист. Тонкие женственные руки, грустный взор. Вокруг них – богема, милая, шумная… Быть может, мансарда, это ничего. Но в углу камин. И сумерки долгих вечеров, и тихие речи, и незримые вечные нити между двумя душами, открывающимися, как ночные цветы… Аромат поэзии, борьба, ступени достижений и, наконец, – слава.
Клавдия Викторовна улыбается, встает с диванчика и через большую, утонувшую в зимних сумерках гостиную, идет к мужу.
– Скучаешь? – спрашивает Степан Егорович, заглядывая в ее глаза. – Я, значит, спутал. Мне казалось, что сегодня ты в опере… А у меня столько дел. Придется даже уехать дня на два…
– Куда?
– За границу, – улыбается он. – В Гельсингфорс, к чухнам. Нужно лично сговориться, им сколько не пиши…
Клавдия Викторовна молча ходит за спиной мужа. Подойдет к окну, взглянет в серое, уже темнеющее февральское небо и снова возвращается к двери кабинета. Высокие, острые каблучки ее туфель бесшумно вязнут в мягком ковре.
– А послать кого-нибудь?
– Некого, – разводит он руками. – Управляющий в Москве, раньше вторника не вернется… Нет, нужно самому. Ты уж поскучай, Клавочка. За это я тебе что-нибудь привезу оттуда.
– Например?
– Ну… – Степан Егорович замялся, и пощелкал пальцами.
– Шведский пунш, – подсказала она, улыбаясь. – Шведскую куртку, шведские сигары…
– Ты права! – рассмеялся он. – Я совсем не знаю, что там у них свое, кроме сметаны… Скучная сторонка!
Клавочка утонула в глубочайшем кожаном кресле-качалке, свернулась клубочком и спросила:
– Когда же ты едешь?
– Да нужно скоренько. Сегодня же, с вечерним поездом.
– Знаешь что? Возьми меня. Я не помешаю?
– Нет, нисколько, – слегка замялся он. – Но, там же и вообще тоска, и тебе придется сидеть одной в гостинице.
– Ничего, – улыбнулась она, закрыла на минуту глаза, дважды качнулась, и, по милому капризу женского сердца, вспомнила почему-то Ибсена… северные богатыри… фиорды…
– Нет, решено! – сказала она, вскочив с кресла. – Я еду с тобой. Сейчас же буду укладываться… В один чемодан… Дня на два? Не больше?
– Понравится, так хоть неделю… Только ты завтра же потянешь меня назад. Я уж знаю.
– Увидим! – ответила она и, шурша коротенькой шелковой юбочкой, торопливо вышла из кабинета.
Степан Егорович задумчиво поглядел вслед, закурил сигару и стал писать письма. Порылся в большом черном портфеле, встал и быстрыми шагами пошел к двери. На пороге круто повернулся, махнул рукой, и, с досадой, поскреб в затылке, испортив свой безукоризненный английский пробор.
II
Клавдия Викторовна открыла глаза, приподнялась на локте и заглянула в окно. Уже светало. Поезд бежал в широком коридоре, с черными, слегка занесенными снегом, стенами. На черном граните ухитрились приклеиться молодые невысокие сосенки. Кусты можжевельника сбегали вниз, к самым рельсам…
– Проснулась? – спросил Степан Егорович. – Что, невесело? – кивнул он на окно. – Природа дикая… А я уже давно не сплю и все думал, будить тебя или не стоит? Через полчаса мы будем в… Хювицке. Ох! Чуть язык не сломал… Под Гельсинки… Есть такая станция, что-то вроде курорта для белых медведей. Если хочешь, выйдем, позавтракаем на вокзале, покатаемся на санках, влезем на горку… Все равно еще рано… А со следующим поездом и дальше… Хочешь?
Клавочка потянулась, зевнула и снова приподняла уголок синей занавески.
– А кофе там есть? – спросила она.
– Великолепнейший и булочки с необыкновенным маслом.
– Ну, хорошо. А ты откуда знаешь? Ты разве бывал здесь?
– Я? Гм…
Степан Егорович нагнулся и поискал под диванчиком теплые ботики жены.
– Где я только не бывал? – сказал он с улыбкой на порозовевшем лице. – Одевайся, Клавочка, сейчас приедем.
– Нет, когда же ты был здесь? С кем?
– Ах, в прошлом году. Здесь комиссионер один жил, у него своя дачка. Я заезжал к нему по делу, от поезда до поезда… Клавочка, осталось четыре минуты…
Клавочка одобрила все: и кофе, и резвую рыжую лошадку и бубенчик под дугой.
Катались после завтрака долго, пока не замерзли. Лесной дорогой, с горки на горку, под ленивыми пушистыми хлопьями. Возвращаясь к станции, остановили лошадку и любовались на школьников. Здоровые, розовощекие мальчуганы на коньках бежали один за другим к невидимой школе, спрятавшейся на высоком холме за густыми, черными елками. Цепкие, как котята, взбирались они на гору и, смеясь, скользили дальше по снежной дороге.
– Счастливые! – вздохнула Клавдия Викторовна. – Здесь так тихо, как… во сне. Я хотела бы пожить в одном из этих домиков под соснами.
– Что ж? Оставайся! – пошутил Степан Егорович. – Я устрою тебя в пансионате, денька на два, на три, и на обратном пути…
– Нет, благодарю, – улыбнулась она. – Я и так уже замерзла. Хочу чаю.
Снова сидели в буфете на станции, пили чай и ждали поезда. Потом Степан Егорович вышел купить сигар, и Клавочка осталась одна. Облокотилась на жесткую деревянную спинку скамьи, зевнула несколько раз в муфту, усталая и сонная от долгой езды на морозном воздухе. Поглядела на желтый сосновый потолок, на занесенные снегом маленькие окна, на черную собачонку, сидевшую у дверей, поджав к груди переднюю лапку. Двери громко хлопали. Входили кондуктора, извозчики-финны в шапках с наушниками и забавными помпонами, изредка заглядывали пассажиры.
Вошла дама в длинной плюшевой шубке, видимо шведка, беловолосая, розовая и рослая и, в двух шагах за ней, человек, закутанный в оленью доху, в высокой котиковой шапке.
Клавочка скользнула скучающим взором по его лицу и выпрямилась, широко открыв глаза. Даже привстала немного, уронила муфту на колени и почувствовала, что ей уже совсем, ни капельки не хочется спать…
А человек в дохе медленно подвигался к ее столику. Шел он усталой походкой, волоча по асфальтовому полу длинные ноги в высоких войлочных ботах. Худой, костлявой рукой расстегнул шубу у воротника и, в свою очередь, взглянул на Клавочку далеким, невидящим взором.
Она взяла себя в руки. Опустила глаза, порылась в муфте.
«Господи, что это за лицо? Где она видела его? И тотчас же решила: никогда и нигде. Красив ли он? Ох! Урод, откровенный, бесспорный!.. Но всех Аполлонов и Антиноев можно отдать за это безобразие… Господи!..»
Урод прошел мимо Клавочки в задний угол и устало опустился на стул. Снял шапку и провел рукой по длинным волосам. Дама его села рядом и вынув из муфты коробочку с папиросами, закурила.
Клавдия Викторовна не могла оторвать взора от лица пассажира. Изучала каждую черту. Высокий бледный лоб, глубоко прорезанный двумя вертикальными бороздами. Желтые втянутые щеки, гладко выбритые, тонкие губы, раз навсегда искривленные горьковато-насмешливой полуулыбкой. Большие темно-серые глаза в темном венчике, глаза, казалось, ничего не видящие, но полные неустанной, напряженной мысли…
Клавочке стало жарко. Она распахнула шубку, сбросила горжетку.
– Не простудись, Клавочка, – сказал подошедший сзади Степан Егорович. – Здесь сквозняки.
– Взгляни туда! На задний столик. Видишь? – спросила она, указывая мужу глазами.
Степан Егорович повернулся, поглядел на пассажира в дохе, на его даму, и на розовом лице фабриканта мелькнул испуг.
– Гм… ну? – спросил он дрогнувшим голосом, переведя на жену смущенный взор.
– Видишь это лицо? – повторила Клавочка. – Что-то необыкновенное… Правда? Ах, как бы я хотела узнать, кто он? Мне даже и не снилось встретить… Только на старых картинах.
Степан Егорович облегченно вздохнул и даже попробовал улыбнуться.
– Уф! Ты про этого длинноволосого? Гм… Мощи какие-то… Я же говорил тебе, что здесь санаторий… Вероятно он оттуда. Больной, по всему видать… Ну, Клавочка, сейчас придет поезд. Застегнись потеплей! Ишь ты раскраснелась после чаю-то… А морозец крепчает, я сейчас смотрел: шесть градусов. Ну, через час с небольшим будем в Гельсингфорсе. Вот, только боюсь, что все отели – битком. Нынче там русских без счету, дела всякие, а есть и такие, что просто попьянствовать наезжают.
III
Клавдия Викторовна сидела одна в номере гостиницы и глядела в окно на улицу.
Ей было скучно, как только может быть скучно в сумерки, в чужом, северном городе.
На эспланаде загорались один за другим фонари, и серебристые полоски света из окон магазинов протягивали коврики на тротуарах, только что посыпанных желтеньким, просеянным песком.
В маленьком скверике, закутавшись в белый снежный воротник, стоял бронзовый Рунеберг. Единственная редкость, поставленная сюда за песни, среди вечно безмолвных сугробов. Под окнами гостиницы позвякивали милые бубенчики маленьких лошадок, запряженных в высокие санки, а рядом, за углом, изредка пробегали зеленые игрушечные вагончики трамвая. Вторые сутки шел снег и ветер с моря гнал мимо окна ленивые задумчивые снежинки.
Клавдия Викторовна посматривала на свои эмалевые часики, садилась в неудобное жесткое кресло из желтого дерева, за такой же желтый письменный столик, покрытый холодной клеенкой, брала листик почтовой бумаги, испорченный до половины рекламами и номерами телефонов, и пробовала писать стихи. Скрипучим пером нацарапала три строчки сонета:
Юдоль тоски. Страна застывших песен,
Вечерних снов, и белой тишины.
И мертвых рек, непомнящих весны…
Потом разорвала бумажку, бросила под стол и прилегла на широчайшую деревянную кровать.
И снова стала думать об утренней встрече: «Кто он такой? Что он делает? Какое великое горе носит он по этой мерзлой земле? Почему нигде, ни за границей, ни в России она не встречала ни разу человека с таким лицом, с такой печатью культуры, мысли, ума? Откуда на этом лице мученика, точно сошедшего с картины Фра-Анжелико; эта улыбка горькой иронии, почти мефистофельского сарказма? Какой недуг выпил блеск и жизнь из его нездешних глаз? Какая бессонная дума сдвинула навеки эти темные, орлиные брови?»
Поднявшись с кровати, Клавочка подходила к зеркалу и поправляла прическу. Снова вынимала из-за пояса часики. «Господи! Где же противный Стива? Куда он провалился с самого утра? Она уже голодна. Давно пора обедать»…
Снова смотрела в окно на замороженного поэта, снова ходила из угла в угол по пестрому коврику с аляповатым рисунком.
«Вот, такие лица у фабрикантов не бывают. Он, конечно, писатель, или ученый… Может быть адвокат, член этого… сейма. Вождь какой-нибудь партии. Хотела бы я услышать его голос. Неужели никогда не загораются эти глаза? Возможно, что он художник. Такое лицо должно быть у строителя Сольнеса. Или нет, нет! У лейтенанта Глана, у героя гамсуновского „Пана“. Да, если бы она умела рисовать, она изобразила бы этого человека в охотничьей куртке, с ружьем в руке, стоящим на лесной опушке, под старой, старой сосной. Или всходящим на высокую башню, с руками, протянутыми к солнцу»…
Стукнув в дверь вошел Степан Егорович, розовый и оживленный.
– Прости, детка, – заставил тебя ждать. Столько дел переделал сегодня. Что, проголодалась? Идем скорей обедать, а на вечер я взял билеты в здешнюю оперетку. Шведская труппа… И, главное, очень удобно, театр в этом же доме внизу, не нужно даже и шубы, и после спектакля – прямо в постельку. А что ты делала без меня? Скучала? Завтра я буду свободен и покажу тебе весь город, и в музей заглянем, и в порт, и обедать пойдем в компании с одним моим здешним приятелем. Пукконен его фамилия. Необыкновенный финн, разговорчивый, и даже смеяться умеет. Вот, увидишь!
Обедали наспех. Ели холодноватый бульон и великолепную, тающую во рту, камбалу, утопавшую в восхитительном масле.
Клавдия Викторовна задумчиво грызла сухие, твердые как гранит, галетки, а Степан Егорович ворчал на официантов.
– Ни по-каковски не желают разговаривать… Ты ему на всех языках можешь объяснить с равным успехом. Скажешь: вилку, а он тащит прейскурант. А туда же, стараются под французскую кухню. Только и хорошо здесь, что пунш. Льду не жалеют. Клавочка, о чем ты мечтаешь? Налей мне кофе. Нужно поторапливаться; шведы народ аккуратный, занавес поднимают минута в минуту…
– А что дают сегодня? Какая оперетка?
– А кто же ее знает? – улыбнулся Степан Егорович. – Я по-шведски не читаю. Да и не все ли равно? Послушаем музыку и спать. Что ты там ни говори, а хорошо выспаться можно только в постели. В поездах я не умею, – стучит, свистит, трясет…
В театр все же опоздали. Первый акт уже кончался. Театральная зала была маленькая, полутемная и наполовину пустая. В антракте потолкались в тесном вестибюле. Степан Егорович закурил черную сигарку, понюхал дым и бросил.
– Этакая скотина! – сказал он. – Чухна богатейшая, за войну сотни тысяч нажил, а сигары курит… Ах, этот Пукконен! Хватает же совести угощать этакой дрянью. Завтра я ему припомню. Пойдем, Клавочка, слышишь звонок?
Клавочка сонно смотрела на сцену, тихонько зевала и морщилась. Примадонна пронзительно взвизгивала на высоких нотах и с застенчивой улыбкой прикрывала коротенькой юбочкой толстые ноги в розовом трико. Безголосый тенор поводил голубыми глазами и прижимал к правому боку широкую ладонь. Хор был лучше и пел старательно, свежими молодыми голосами.
Лицо одной хористки, высокой блондинки, показалось Клавочке знакомым. Она, прищурясь, поглядела на белые, словно льняные, кудряшки, на мраморную шею хористки и вспомнила.
– Смотри! – шепнула она Степану Егоровичу, прислонившись к его плечу. – Это она… вот, третья слева, высокая… Это та дама, что была с ним на вокзале.
– Кто? С кем? – спросил он. – Гм… Да, пожалуй… А, впрочем, все они похожи…
– Нет, это она, – решила Клавочка и ей показалось, что хористка, взглянув в ее сторону, в свою очередь, вздернула кверху подрисованные брови и, улыбнувшись, слегка кивнула головой.
Степан Егорович негромко кашлянул и поднес к глазам афишку.
– Взгляни-ка на потолок – сказал он жене. – В иной конюшне лучше. Даже не покрасили. Голые доски. Убогая сторонка!
«Ну, да… – думала Клавочка. – Несомненно он близок к театру. Быть может композитор, или драматург. Вот и эта была с ним… Гм… Что у них общего? Какая-то хористочка и он. А, впрочем, сердце мужчины… Лучшие из них женятся чуть ли не на своих кухарках… Вспомнить хотя бы историю Захер-Мазоха… Конец Гейне… Это в жизни. А в литературе, Боже мой, сколько таких примеров!.. И разве не глубоко правдив роман Мопассана „Наше сердце“? И разве тот же Глан не искал лекарства у простенькой Евы против яда другой… Но почему она мне поклонилась? Или это только мне показалось?»
После спектакля, поднявшись к себе в номер, Степан Егорович походил по коврику, поглядел на сонную утомленную Клавдию Викторовну и вдруг хлопнул себя по лбу.
– Что же это я? Из головы вон, а у меня еще дело сегодня внизу. Назначил одному покупателю к одиннадцати часам… Ах, ты память какая… Девичья! Ты ложись, Клавочка, а я сбегу вниз в ресторан на полчаса. Может быть прислать тебе чего-нибудь?
– Нет, я уже засыпаю, – ответила она, сидя перед столиком и вынимая из прически гребешки и шпильки. – Не пей много, Стива… – попросила Клавочка сонным голосом и сладко, протяжно зевнула.
– Нет, детка, не беспокойся. Я только на пару слов. Покойной ночи!
И, поцеловав жену, Степан Егорович торопливо вышел, почти выбежал из номера. Спустился этажом ниже и быстро зашагал по жесткому просмоленному мату длинного коридора. Остановившись у крайней двери, он дважды стукнул в нее согнутым пальцем и тихонько кашлянул.
Щелкнула задвижка, и дверь приоткрылась. Степан Егорович шагнул через порог и, улыбаясь, взглянул в серые глаза высокой беловолосой женщины в широком, голубом халатике.
Она молча заперла дверь и, повернувшись, положила на плечи Степана Егоровича свои прекрасные, белые, как сметана, руки.