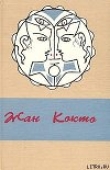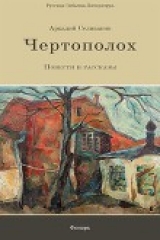
Текст книги "Чертополох"
Автор книги: Аркадий Селиванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Костры на вершинах
Памяти А. Н. Скрябина, творца «Экстаза»
Вероника спала. Закутав в отцовский плащ худенькие плечи, она лежала на каменном полу, и в ее бледной узенькой груди дремал вчерашний темный страх. Вчерашняя последняя слеза застыла на щеке Вероники.
Тихой и доброй была эта ночь. Молчали. Десятки глаз смотрели в темноту. Молились беззвучно. Скорбь без слез притаилась под низкими сводами и тихая радость без смеха. Ждали утро.
В углу у двери тускло горел единственный светильник, и красноватый огонек его дрожал, чуть освещая склоненную седую голову и старые руки. Руки в тихой, бесшумной работе. Отец Вероники делает крест. Пара сухих прутьев, один на другом, кривых и черных. Маленький крестик. Утром он отдаст его Веронике, сунет в маленькую дрожащую ладонь.
В углу спит римлянин. Высокий легионер опустил на стол руки, а на них свою утомленную, слегка хмельную голову. Кровь приливает к бронзовому затылку воина, и он хрипит. Копье прислонилось к двери, тяжелый меч отстегнут и брошен на стол, рядом с игральными костями и пустым кувшином. Зубы волка и когти тигра… К чему они здесь, в этот час? За спиной легионера – овцы, кроткие и безмолвные. Тихая, добрая последняя ночь. И не знаешь, коротка ли она, как мгновенье, или, как вечность, без конца.
В полдень скрипят железные двери, и на порог ложится золотой коврик, сотканный из лучей. Чей-то вздох, чье-то женское рыдание… Вероника встает и, стряхнув с волос желтые соломинки, плетет их в длинные косы. Черными змеями ползут они по ее белой тунике, и сама Вероника гибкой испуганной змейкой прижимается к отцу. Он молчит. Старая, мозолистая ладонь тихо гладит голову Вероники. Они выходят, рука с рукой. Вероника вступает на золотой коврик и на миг закрывает глаза: так бездонно сапфировое небо и так жгуч его первый поцелуй.
Сзади кто-то поет. Тихий одинокий голос. Вероника поднимает ресницы. Под ногами ее желтый песок, широкое знойное поле в белом кольце, в каменных объятьях Колизея. Высокие стены, а за ними – глаза. Тысячи. Бессчетные глаза, открытые и жадные.
Христиане идут. По песку арены тянется медленно серая лента. Теперь уже поют все. Отец Вероники сжимает ее руку и тоже поет. Дрожащий старческий голос хрипит молитву. От слова к слову, все громче… Но голос Вероники, звонкий и чистый покрывает его.
В груди Вероники трепещут крылышки маленькой белой птицы. Девочка вытягивается, стройная и тонкая, поднимает руку с черным крестиком и дышит жарко и глубоко. И хочет вздохнуть еще глубже, так, чтобы в узенькой груди свободно взмахнули широкие, белые крылья радости. Чтобы и самой подняться и вспорхнуть под синий купол.
Внезапно она падает. Стальная и бархатная лапа львицы задевает плечо Вероники и роняет ее на песок. Но белые крылья уже раздвигают ее грудь, вот они уже за плечами Вероники и нет уже никого вокруг нее. Только ласковая тишина, только бездонная лазурь и солнечная радость… И Он, близкий и родной, такой знакомый, милый Иисус…
И вся душа Вероники полна одним желанием, одним последним, знойным порывом; сказать Ему… Сказать о своей радости, о великом счастье маленькой Вероники, но… На устах ее нет слов. Точно ландыш, белый и смятый, недвижно лежит Вероника. Безмолвно простое и чистое сердце. И, с тихой, покорной улыбкой, Вероника закрывает глаза.
* * *
Над Кипром всходило солнце. Казалось, что прямо из сонного моря поднимались лучи его, омытые волнами, розовые и чистые. Кланялись ветви деревьев, и первое «здравствуй» шептали листья и травы, стряхивая ночные чары.
Но спал еще белый дворец повелителя Кипра. Как жемчуг в изумрудной оправе садов, дремал он на склоне горы у самого берега. Спали еще воины и рабыни, холодны были очаги, завешаны окна, и желтый шелк занавесей подставлял под лучистые мечи свою упругую грудь, охраняя сумрак зал и сон Пигмалиона.
Царь долго работал вчера. Едва остыл полуденный зной, Пигмалион удалился в свою мастерскую и много часов подряд, в белом дворце не было владыки Кипра, был только ваятель, горящими руками сражающийся с упрямым и холодным мрамором.
Когда за окном угас огонь неба, царь повелел зажечь земные огни и, в желтом мерцающем свете высоких лампад, до полуночи стучал его резец, и темные глаза Пигмалиона, сжигая белую тунику камня, искали под ней линии будущей статуи.
Старик раб, дремавший у входа, проснулся первым. Кряхтя и зевая, выпрямил согнутую спину, протер глаза и вошел в мастерскую.
Розоватый сумрак мягкими волнами приникал к высоким стенам и лежал на мозаичном полу, усыпанном обломками мрамора. Старик подошел к окну и откинул занавес. В углах высокой залы вспыхнула резьба золотых карнизов, и холодным пламенем ответили ей снежно-белые статуи.
Тусклые маленькие глазки остановились на лице мраморной богини, обнаженной и бесстрастной. Он подошел к статуе и тронул рукой ее холодный белые ноги.
– Еще одна… – проворчал он. – Для каменных забыты живые… А жизнь и у царей – одна. Только – одна…
И, качая бритой головой, раб пошел будить господина.
Начался долгий день, полный томящего зноя, полный скучных забот. Царь Кипра, утомленный и бледный, с потухшим взором на сонном лице, слушал гонцов, диктовал свои письма, или молча глядел на синие маленькие волны спящего моря.
Пигмалион ждал рубиновых вестников вечерней зари. Он ждал ночь, с ее прохладой, тишиной и грезой. Проводил улыбкой утонувшее солнце и сам последовал его примеру: бросился в глубокий бассейн и долго плавал в нем, рассекая сильной грудью ароматную прохладную воду. После, впервые за весь день, вспомнил, что голоден, и за чашей золотистого вина, улыбаясь своим думам, слушал грустные мелодии флейтистов.
А когда в вышине над морем загорелись первые, звезды, царь отпустил слуг и одинокий, слушая четкие удары сердца, пошел в мастерскую. Там уже горели огни, и на стенах дрожали тени статуй, то горделиво стройных, то робко склоненных.
Пигмалион остановился перед своим последним созданием. Статуя Галатеи была уже закончена. Прошлой ночью рука ваятеля тронула ее в последний раз и создавший знал, что каждый новый штрих был бы теперь святотатством. У творчества есть грань, и на страже ее стоит красота.
Галатея была недвижной, немой и холодной, но она была прекрасна. Быть может, это больше, чем жизнь?.. Да, среди живых, такой он не встретил ни разу. В какой земле, под чьим солнцем могла бы подняться эта пальма? Небо, одно только небо – родина богинь. Только у ходящих по дорогам эфира могла быть эта поступь. Такая грудь не дышала воздухом земли и этих плеч не смела коснуться туника смертной. И только шею бога обовьют эти руки.
Пигмалион опустил глаза и отошел к окну. Гордая улыбка тронула его сухие жаркие губы.
«А все же она создана мной, – подумал он. – Вот, эти руки смертного боролись дни и ночи, освобождая ее из объятий грубого бесформенного камня. Я разбил ее цепи, сорвал все путы, все покровы… Но кто же я? Лишь раб, вошедший ночью в опочивальню царицы. Как и он, я нахожу ее спящей и не смею разбудить…
И не могу. Здесь конец моей силе, моей жалкой власти смертного…»
Пигмалион обернулся, и взор его снова приник к лицу Галатеи.
«Как прекрасны эти губы, чуть тронутые улыбкой… Тень ресниц скользить по щеке. Длинных ресниц. Они прячут солнце и делают взор ее бездонным и вечно печальным… Богиня! О, если бы ты проснулась… Но нет! Камень, мертвый, глупый камень сильней меня!..»
Пигмалион гневным движением схватил молоток, но тотчас же бросил его и тяжелыми шагами пошел на террасу. Под ногами его хрустели обломки мрамора, и царю казалось, что он слышит смех торжествующего камня, смех старого врага его, вечно отступающего и никогда не покоренного.
Душная ночь встретила Пигмалиона. Спали воздух, и море, и деревья. Молчаливые звезды висели над островом и снизу из темного сада плыл пряный аромат цветов, стыдливых днем и раскрывавшихся во тьме.
Глубоко и жадно дышала грудь царя и, с каждым вздохом, словно старое жгучее вино, пил он знойный недвижный воздух. Долго ходил по террасе большими шагами, гибкий и быстрый, как его думы. Сжимал руками виски и слышал, как стучит в них горячая кровь. Безмолвный и одинокий бросался на каменную скамью и долго сидел, сжимая мрамор пылающими ладонями, смотря на звезды сухими, бессонными глазами… И снова вскакивал и метался между белыми колоннами, как призрак, как раненый лев, как человек, в чью душу вошла дерзкая греза, отрава мысли, хмельной, как эта ночь, и безумной. И, подняв руки к дальним мирам, Пигмалион молился Афродите. Горячий, прерывистый шепот его звучал, как повеление, так много в нем было нетерпеливой жажды чуда, пламени желанья и гневной силы, самой безумной из всех человеческих надежд.
И Афродита услышала его мольбу…
Рука богини коснулась груди Пигмалиона, и страсть – стала молнией, буря – ураганом, мысль – приговором и греза – неизбежностью.
Рука богини взяла руку ваятеля и привела его снова назад, к ногам безмолвной Галатеи.
Пигмалион поднял взор свой, огненный мост перекинул к очам Галатеи, и, светло сгорая, поднялось его сердце.
– Люблю… – сказал он и умолк, недвижный, как лук натянутый и ждущий мига.
– Проснись! Люблю!.. – повторил он и снова умолк.
Ждал. И в тишине, в мерцающем свете высоких лампад, две статуи стояли, одна против другой. Мгновенье, быть может, вечность…
И камень уступил.
Человек, уже знающий, уже властный, молча, жадным взором, пил счастье победы.
Дрогнули и порозовели бледные уста Галатеи. Легкий вздох колыхнул ее грудь. Ревниво опустились ресницы, и шевельнулась прекрасная бледная рука. Одно движенье. Первое. Вниз, к стоящему у ног…
Пигмалион шагнул вперед, сомкнул кольцо объятья и припал лицом к коленям Галатеи, к ее ногам, стройным, уже теплым…
Он молчал. В этот миг он был в той солнечной стране, о которой нет слов на языке человека.
* * *
В книге человеческой жизни много страниц, говорящих о молниях, сжигавших души людей. Много страниц о крыльях Икара, спаленных поцелуем солнца, и о вершинах радости, где вечное безмолвие.
Шли века, уходили боги, вставали и падали царства, но все еще не было имени светлому урагану, уносящему порой, словно былинку, человеческую душу далеко от темной земли.
Люди молились и сражались, творили и умирали, но всегда и всюду за ними шло Молчание последнего мига, и от самых ярких костров на земле оставался лишь пепел немой и холодный.
Но среди нас уже был Одинокий, – тот, кто однажды слышал никем нерожденное слово, и чья-то бессонная воля уже бросила в его душу зерна великой Мечты.
И снова шли годы. На темных и тесных тропинках исканий вспыхивали изредка далекие и бледные огни и, вспыхнув, снова угасали. Тогда Одинокий опускал руку на плечо своего маленького поводыря – Мечты и шел во мраке, медленно, ощупью, но вперед, все вперед… И вела его Мечта, бесстрашная и видящая ночью, потому что у нее были сердце орла и глаза тигра.
По краям темной и узкой тропинки Мечта находила ночные цветы, никем еще не сорванные, благоуханные, на тонких и хрупких стеблях. Она собирала их для Одинокого и, когда он склонял над ними лицо, на бледных лепестках была роса, дрожали слезы ночи, и он пил их, капля за каплей.
И снова шли они вперед, но Одинокий все еще нес в своей груди неутоленную, вечную жажду. Тогда Мечта подводила его к лесному ручью. Холодный и чистый, он торопливо и долго бежал сюда с вершины далеких гор.
Ручей спешил рассказать о многом, что видел на своем пути. О легких беспечных облачках, мимолетно целующих лепестки Эдельвейса, о звездах ночных, таких близких к вершинам, и об алмазах, что луна полной горстью бросает на девственный снег ледников. Говорил он и о темной острой скале, о прикованном к ней Сострадании и об орлах, клюющих грудь Прометея.
Припав к ручью, Одинокий слушал его сказку и пил долго и жадно. И прохладное ложе шелковых трав манило его отдохнуть, опускались ресницы… Но Мечта уже звала его. И снова шли они среди бескрайнего леса, в темноту бесконечной ночи.
И с каждым шагом росла маленькая спутница Одинокого. Неумолимой, сильной и властной становилась она. Одним дыханием своим она раздвигала крепкие столетние деревья. Легким движением ноги сметала с дороги, словно песчинки, тяжелые обломки гранитных скал, и перед лицом Одинокого уже трепетали ее широкие крылья, ждущие бури.
Так шли они молча, часы или годы, – Одинокий не знал. Висела ночь над ними, и спало время. Но однажды вспыхнули в небе зарницы, сожгли темноту и озарили далекие горы.
И движением руки Мечта указала Одинокому на далекий белый храм.
– Смотри, – сказала она, – это дом великого последнего бога. Много имен дадут ему люди: «Примирение» и «Согласие», «Синтез» и «Гармония». Но помни одно: он будет последним на этой земле. И в широкие белые двери его храма войдут рядом: красота и сила, печаль и радость, страсть и молитва. К алтарю его светлый жених Солнце приведет свою невесту Ночь и на последнем брачном пире сольется все, что разделяло людей: мудрость старца и вера ребенка, пляска и гимн, ползущая правда и окрыленная сказка. Здесь зодчий протянет руку воину, и отшельник улыбнется веселому миму. И будет только единая заповедь начертана над белыми дверями: «Пусть каждое сердце принесет свой лучший дар».
Мечта умолкла, погасли зарницы и взор Одинокого снова встретил безмолвную тьму. Но мгновенье уже зажгло в его груди искру того же огня, что горел на алтаре еще неназванного бога. И Одинокий уже был созидающим, он был уже творящим. Охваченный светлым безумием, опьяненный хмелем нездешней радости, он слушал тишину и горячими упрямыми руками гения удерживал небо на темной земле.
И все, к чему, хотя бы на миг, прикасались его руки, спешило жить, все было в действии, в неудержимом полете.
Одинокий поднимал голову, и, повинуясь его взгляду, грозовые тучи содрогались в глухом, тяжелом рыданье. Он приникал к земле, – и огненный вздох вырывался из груди вулкана. Далекий океан слал гонцом своим ночной влажный ураган, и он сталкивался, грудь с грудью, с гибким телом смерча из пустыни.
Звери выходили из лесной чащи и смыкали тесное кольцо вокруг Одинокого. С грохотом, потрясающим землю, падали невидимые скалы, кричали совы в шумящем лесу, рычали львы, хохотала буря и мир, весь мир кружился в бешеном ритме последней пляски.
Одинокий скрестил руки, закрыл глаза и, среди хаоса, слышал только слова, – все те слова, что когда-то горели, рвались и умирали на устах христианских мучениц, древних героев и творцов неумирающей красоты.
И властным голосом сказал он зверям и урагану, грому неба и смеху вулкана, хаосу сказал он:
– Повтори!
И на темной дороге исканий, над головой Одинокого родились звуки, сотканные из последней мольбы и первого торжества. Песнь освобожденного духа, еще не слышанная человеком. Костер восторга и силы, еще никогда не зажженный под небом ночи…
Это была «Поэма Экстаза».
1917 г.
Соболья муфта
I
– В своем каракуле ты сейчас похожа на супругу спекулянта… Недостает только тысячных серег и автомобиля… Мне даже неловко идти рядом с тобой.
Шурочка в ответ весело рассмеялась.
– Ничего… Теперь ведь равенство. Но если я похожа на даму, то бедного студентика могут принять за репетитора моих детей.
– Merci, madame!
Черняев с ироническим поклоном дотронулся до козырька выгоревшей старенькой фуражки и прищурился навстречу солнышку.
– А все-таки пахнет весной!
– Чуть-чуть, – улыбнулась Шурочка и, помолчав, тихонько вздохнула.
– Я считаю минутки… Если бы не ты, я уже давно была бы в деревне. Все равно – влезла бы на крышу вагона, на трубу паровоза, и addio bella болото!.. В каждом своем письме тетушка увеличивает порцию соблазнов. Сирень – это уже старо, и яблоня уже в трех письмах цветет… Теперь она решила, что курсистку следует брать на модную приманку: зовет на агитацию. Мужички, мол, ждут и жаждут просвещенного слова.
– Гм… Дело доброе. А ты когда-нибудь пробовала?
– Нет, то есть… – Шурочка порозовела и, со смущенной улыбкой, призналась:
– Однажды… На улице. Тогда все говорили… Солдаты и бабы в платочках… Мне тоже захотелось. Вскарабкалась я на тумбу, крикнула: «Товарищи!..» – и поперхнулась. Взглянула: все головы, головы, сотни глаз. Тишина такая. Все ждут, а я все свои слова потеряла. Махнула муфтой и слезла. А в толпе смех: «Тю-тю!.. Скисла мамзель». А я горю, пылаю. Красная должно быть, как лента на шляпке. Нет, я не гожусь…
Шурочка умолкла и указала на скамейку под черным голым деревом.
– Сядем?
– Можно, – согласился Черняев. Закурил папиросу, поглядел по сторонам, оглянулся на широкую пустую аллею и склонился к Шурочкину плечу.
– Потерпи, мой зверенышек. Недельки через полторы, много две, я развяжусь со всеми своими делами и вместе поедем. Ладно?
Шурочка молча взяла его руку, холодную и красную, и спрятала в своей муфте.
Апрельское солнце неумело высунулось из-за серой тучки, нерешительно скользнуло по желтому песку аллеи и снова спряталось. Одинокая черная галка покосилась на Шурочку и перелетела на соседнее дерево.
– Теплая штука! – промолвил Черняев, пошевеливая в муфте озябшими пальцами. – При Екатерине с муфтами офицеры ходили.
– Это ты к чему?
– Так… Соболья, гм… На одну такую муфту можно год прожить. Даже военный…
Шурочка чуть-чуть сдвинула узенькие темные брови.
– И даже революционный… Ну?
Черняев высвободил руку, достал портсигар и снова спрятал его в карман.
– Гм… Ну, напрямки, пожалуй, лучше. Шурик, милый, ты не сердись. А только мне страшновато. Я – ты знаешь, гол, как сокол. Уроками, да корректурой – едва сыт. Житьишко – интеллигентское. А ты привыкла в соболях. Вот, поедешь к тетке, в усадьбу, а там, сама говорила, – рай земной, экипажи, лакеи, повара… Музыка всякая, поэзия, пикники, обеды в восемь блюд, а осенью… вместе с мужем на пятый этаж, черную корочку глодать, и то еще, если сама под дождиком в очереди постоишь.
Шурочка засмеялась, негромко, суховатым смешком.
– Так… «Он был титулярный советник, она – генеральская дочь»… Только… Увы, мой нареченный, я беднее вас. Я выросла в семье, где пять душ живут на жалованье почтового чиновника. Мой старичок-отец по утрам чистит себе ваксой сапоги, и они у него с заплатками, а моя великолепная maman – варит борщ, вкусный борщ, хотя и не всегда с сосисками, и по субботам моет полы. Ах! Виновата ли я, что сестра моей матери, тетя Липа родилась в сорочке? Вышла за купца, прожила с ним пятнадцать лет и благополучно проводила на кладбище. При жизни мужа она и сама не знала, бедны они, или богаты. Покойничек откладывал каждую копейку, жену одевал в ситцы, сам ходил в ватном картузе, держал деревенскую стряпуху, а умер и оставил жене два имения, три баржи и денег уйму. А тетя Липа собак боится, кошек не держит и в целом свете у нее только две слабости: племянница Александра, да еще домашняя настойка на вишневых косточках. В прошлом году, когда мама была больна и думали, что придется везти ее в город делать операцию, написали тетушке Олимпиаде Петровне и получили от нее сорок рублей и собственноручную приписку на бланке перевода: «Все, что могу». А меня она засыпает подарками, шубку, вот эту и муфту, которая вам жизнь портит. И за пансион мой платит, и на курсах, и за абонемент в оперу. И ждет не дождется, когда я приеду, чтобы нянчиться со мной, наряжать меня, как принцессу и, в минуты откровенности, после ужинов с вишневкой, мечтать вслух о светлейших князьях, которые из-за моей руки друг друга на дуэли протыкают шпагами. Да, тетушка моя – факт, и вам придется с ним примириться, или…
Шурочка умолкла, перевела дух и закусила губку.
– Или? – повторил студент, заглядывая в карие опущенные глаза.
– Или… «ступай себе налево, – ему сказала дева»…
Черняев молча усмехнулся в усы.
Солнце прочно спряталось в тучах. Сбоку, с лужайки потянуло сыростью, и с глухим шумом качнулись черные, кривые ветви берез.
Шурочка зябко повела плечами.
– Мне холодно, – сказала она вставая.
Молча пошли к выходу из сада. Шурочка шла, опустив голову и полуотвернувшись от своего спутника. На ее ресницах дрожали первые слезинки.
– Господи! – заговорила она срывающимся голосом, безжалостно крутя пуговку жакета. – В такое время… Послушать вас всех… Сколько слов! Сколько слов! «Равноправие… Дорогу женщине! Женщина такой же человек»… А стоит только этому человеку иметь свой кусок… Стоит только не нуждаться в вашей поддержке… и уже… Готово! Мужское самолюбьишко закусило удила и вот, трагедия. Твое, мое, я бедняк… Что же ты хочешь, наконец? Чтобы я поссорилась с доброй старухой, наотрез отказалась от ее помощи и, в угоду вашему мелкому… Да, да! Забыть старуху, чтобы она спилась от тоски, окружила себя приживалками, богомолками и все свои капиталы рассовала по монастырям? А отец? Через год ему отставка с пенсией в тридцать два рубля. Ты думаешь, что я только о себе хлопочу, и все мои планы, мечты не идут дальше этих тряпок. Ах! Соболья муфта. Да, а раньше была скунсовая, великолепная, но ее недавно разрезали там, дома, и вышел воротник для сестренки и шапка для Петьки.
Шурочка подняла вуалетку и прижала к глазам маленький, скомканный платочек.
– Ну, вот… – развел руками Черняев. – Разве это – моя мысль? Бог с ней, с твоей взбалмошной тетушкой, мне она не мешает, но ведь ясно же, что, узнав о нашей… свадьбе, она тебя и знать не захочет. Вместо княгини, вдруг – гражданская жена нищего студента.
Ласково улыбнувшись он заглянул под шляпку своей спутницы.
– Я уверен, что она и муфту потребует обратно.
– А мы не отдадим! – ответила улыбкой Шурочка. – Вот, затем-то я и зову тебя к ней. Приедешь и как это? «Vеni, vidi»… Сыграешь с ней в преферанс, придешь в восторг от наливки, а тетя Липа – от тебя и… остальное я уже беру на себя и увидишь: к осени она сама начнет нас сватать.
Кстати, теперь и предлог для твоего приезда – великолепный. Скажем ей, что ты агитатор, приехал о земле рассказывать. Хорошо?
Шурочка подняла голову и, как ласковый котенок, прижалась к руке Черняева.
– Милый Дима, не нужно больше об этом. Мне нельзя ссориться с моей деревенской старушкой. Она все мои секреты знает и до сих пор хранит, как могила.
– А много их? – улыбнулся Черняев.
– Не смейся. Благодаря ей, мне удалось скрыть от своих старичков и свой арест тогда… и высылку из города под надзор все той же тети Липы.
– Да, помню, я что-то слышал. И долго тебя держали в узилище?
– Около месяца. Ах, все это было точно в оперетке… и жандармы и тюрьма… смешно и глупо. Забрали сначала мою подругу по курсам, Олечку Вурст, нашли у нее мои письма, записки и решили, что я тоже политическая преступница. Дима, посмотри на меня, – похоже?
– Гм… Маловато.
– Впрочем, – добавила Шурочка, звонко рассмеявшись. – Я тогда была стриженая, после тифа. И книжки у меня были разные… рядышком с «Ключами счастья» – лежал Каутский.
Шурочка умолкла и отодвинулась от своего спутника. Они уже выходили из парка, и порыв холодного ветра встретил их на улице облаком пыли.
– А что сталось с этой, с твоей подругой? – спросил Черняев.
– Ах, ее, кажется, судили… Но меня уже не было здесь. Я уже была на Волге и упивалась парным молоком, сиренью и тетушкиной любовью. А подруга эта… Бог с ней! Она вообще… оказалась хуже, чем я думала.
Шурочка остановилась и заглянула в глаза Черняева.
– Дима значит – до вторника? Раньше не придешь?
– Едва ли удастся.
– Ну, ладно. Я весь вечер буду дома. Приди пораньше! Хорошо?