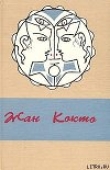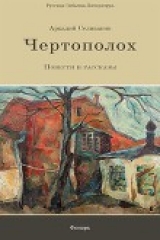
Текст книги "Чертополох"
Автор книги: Аркадий Селиванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
XIV
Бабушка Семеновна забежала к Степаниде на одну минутку, за утюгом, да заговорилась…
– Несчастливей моего сына, почитай, что и на свете нет. Провалялся две недели, едва отдышался, встал вчера, и на тебе! Новая беда! Точил бритву о ремень, а она и сорвись и палец-то без мала напрочь отхватил. И без того живые мощи, а теперь еще крови выпустил… Ну и лежит опять пластом. Если б не Володька, внучек-то мой, с голоду бы сдохли. Он теперь один добытчик. Допреж того газетами торговал, а теперь папиросами занялся.
– Нешто лучше? – спросила Степанида.
– Не в пример! Мать-то укараулит табак да и набьет, а он торгует готовыми. Сотню-то в шесть целковых вгоняет! Парнишка шустрый, надувает мать-то, не без того… Но, все ж, кабы не Володька, пропали бы…
– А что же этот, актер-то? Сама я видела, на извозчиках раскатывает. Неужели не поможет на бедность?
Семеновна махнула рукой и присела на табуретку.
– Скупей черта! Сундук завел и все деньги под замком держит. По ночам считает, дождется, пока все заснут, зажжет огарок и, босиком, к сундуку своему… Я, как-то, разом, и войди… гляжу: он у сундука-то, поджавши ноги, словно турка… А деньжищ-то, мать моя, доверху! Да чуткий он, старая крыса, обернулся и хлоп крышку. А сам хихикает: «Бессонница у вас, бабушка? Не спится нам, старикам»… Язва такая…
– Откудова у него капиталы-то?
Семеновна поставила на колени утюг и развела руками.
– И сама я ума не приложу. Сказывал, что от приятеля какого-то… Только сказкам-то этим никто не верит. Знаем мы приятелей!.. Не иначе, как жульничает. Краденое скупает, либо в карты где мошенничает… Старик прожженный, из актеров, дочка-то евоная сказывала, – по всем городам колесили… И ведь какой притворщик! Таким сиротой казанским прикинулся спервоначалу-то… Пешком пришли, у дочки одно платьишко на плечах, сам-то без подметов… Ниже травы, тише воды… А нонче уже фордыбачит. Хлеб ему не хорош принесла, кофей жидок сварила… Лежит на диване фон-бароном и сигарой дымит. А зять-то чихает от табачищу, а терпит. Дурак дураком… Старик-то его семь раз переживет…
– А может он в шайке какой – атаманом? Мало ли нынче, – вставила Степанида. – Вон опять контору ограбили, большие тыщи взяли…
– Кто его знает, – вздохнула Семеновна. – Человек он потайный, сразу не раскусишь… Ну, заболталась я, а у самой плита затоплена… Дрова-то нынче золотые, семьдесят без мала за сажень… Забеги вечерком-то!
– Ладно, – ответила Степанида и, пожевав губами, решила: «Одна шайка! Все вы хороши!.. Не я буду, если не ограбят они нашего фефелу Иваныча… Никакие лампадки не помогут».
А сам «атаман шайки» в этот час уже ехал в трамвае. Коротенький Ардальон Егорович, зажатый между полной дамой и усатым унтером, качался из стороны в сторону и тщетно старался уцепиться за ремень над головой. Вытягивался на носках, тыкался рукой в стекло, пыхтел и, кончилось тем, что, на повороте, с размаху уселся на колени сестры милосердия…
– Пардон, извиняюсь! – сказал он вставая. – Толкают и, к тому же, качка…
– Фу, Ардальоша, какой ты стал моветон… – услышал он сзади чей-то знакомый бархатный бас.
Суфлер с трудом повернулся, и маленькие глазки его радостно засверкали.
– Буркачев! Ты? Какими судьбами? Давно?
Сидевший рядом с «сестрицей» военный санитар, улыбаясь, пожал маленькую лапку суфлера.
– Я уже давно тебя признал, вижу качается человече… Как живешь?
И, не дожидаясь ответа, кивнул на свою соседку.
– Мой товарищ, Софья Павловна… Ничего, не красней, друже, она у нас добрейшая… Ты, собственно, куда?
– В город…
– А именно?
– Да, так… – замялся Ардальон Егорович, – на Невский.
– Ну, так решено: едем к нам обедать! Как делишки? Впрочем, вижу. Молодчина! А помнишь саратовского буфетчика? Ха-ха! Сейчас наша остановка. Софья Павловна, подвигайтесь!
День Ардальона Егоровича начинался прекрасно. Продолжение было еще лучше. Оказалось, что бывший оперный хорист Буркачев уже второй год в столице, «окопался» санитаром в одном из частных лазаретов и живет, как у Христа за пазухой.
В чистенькой белой комнатке, уставленной «гигиенической» мебелью, хозяина встретил обрадованный такс и заворчал на суфлера.
– Не бойся, – сказал Буркачев, – он только ворчит, а зубы у него старые… Садись сюда к окошечку и кури, можешь даже вздремнуть, а я на минутку в палату… Паренек один, совсем уж было на выписку, да вздумал в трамвай на ходу вскочить… Ну, и снова-здорово!.. Я сейчас… Софья Павловна! – крикнул он в соседнюю комнату. – Рыжичков нам не забудьте… И зеленого лучку! – И, хлопнув гостя по плечу, подмигнул левым глазом.
– Смекаешь, что к чему?
– Есть? – блаженно улыбнулся Ардальон Егорович.
– Эге! На апельсинной корке, со льда… Жди!
Угостили суфлера на славу. И грибки, и огурчики; телятина и поросятина, и борщ и кисель… И даже белый пшеничный хлеб, чего он уже с месяц не едал. А во время обеда хозяин дважды подходил к шкапу и подливал в графинчик.
– Матерь Божия! – умилялся Ардальон Егорович. – Чего у вас нету? Вот, жизнь-то.
– Да-с, я на эту войну не в обиде, – признался хозяин. – Поотъелся здесь. Никаких очередей не знаем. Всего везут пока… Только вот, эвакуацией стращают, а то ничего… Жить можно! Раньше-то строгости были, старший врач – собака. А теперь мы его скрутили, по струнке ходит. Свобода! Пациенты мои в одних халатах на солнышко выползают и, как тараканы, во все стороны. До ночи не соберешь. Торговлю завели, кто чем… Одно слово – республика! А Софья Павловна у нас президентом. Только ее и побаиваются. Она у них в наказанье ноги запирает.
– Как? – поперхнулся суфлер.
– А так. Возьмет протезу и под замок. Товарищ и сидит, кается…
Софья Павловна шмыгнула черными маслянистыми глазками.
– Не слушайте его. Он сам их голосом ушибает. Начнет орать – мне даже страшно.
– А петь бросил? – спросил Ардальон Егорович.
Буркачев отмахнулся.
– Где там… Разве для больных иной раз «Марселя» тявкнешь, или Шумановских гренадеров. Это они любят. Пианино у нас было, да недавно отобрали. Баронесса одна жертвовала, а мужички у нее усадьбу распотрошили, ну барыня и обиделась. Эх, Ардальоша!.. Сказано: гора с горой… Где ж ты живешь-то? И дочка с тобою? Помню я, бывало, словно Велизарий…
– У родных живу, у зятя… – ответил суфлер. – Человек он простой, товарищ и все прочее… А в общем ничего. С напором человек. Уверовал и шабаш! У него и живу, временно, конечно. В Москву собираюсь. За меня там приятель один хлопочет. Вовка Маурин. Слыхал?
– Слыхать не слыхал, а на афишке видывал. Так ты, стало быть, пока в ожидании? У моря погоды?..
– Говорю тебе: хлопочет. Не веришь, могу письмо показать, на днях прислал, пишет, что дело на мази. Вовку – нарасхват. Он теперь с экрана не сходит, ему стоит пикнуть…
После обеда Буркачев вызвал в соседнюю комнату Софью Павловну и погудел за дверью своим протодиаконским басом, после чего вышел к гостю красный и сердитый, но хлопнул его по плечу.
– Идем! – сказал он. – Я тебя провожу. Беда с бабами… А туда же о равноправии пищат.
Выйдя на улицу, Буркачев разжал огромный волосатый кулак и показал суфлеру пачку кредиток.
– Хватит? – подмигнул он весело. – Тут, брат, неподалеку кабачок один имеется, кавказский. Какого ты мнения насчет кахетинского? А?
– Год не пивал! – подпрыгнул Ардальон Егорович. – Только уж того, извини, на мой счет.
– Да ну! – пустил санитар с «мефистофельским» сарказмом. – А ты знаешь ли цену-то?
Суфлер замялся:
– Ну, рублей пять?
– Хо-хо!.. Старая ты собака, а все глупая. Шагай лучше!
Ардальон Егорович сконфуженно умолк и едва поспевая за длинноногим санитаром, подумал: «Бывают же дни… Уж коли человеку повезет, так»…
– Стой! – сказал Буркачев. – Здесь. Держи фасон! А то, если кто в градусах уже… Не дадут.
В кабачке приятели засиделись до ужина. Заказали шашлык и снова пили. Сначала за искусство, потом за Реймский собор и, под конец, за здоровье Софьи Павловны.
– Святая женщина! – гудел санитар, обсасывая свои понурые хохлацкие усы. – Меня четвертовать мало… Если бы не она, быть мне под судом. Я еще при старом режиме старшего врача послал в нехорошее место. Дунувши был. Она упросила. Ты не смотри, что она из шкловских мещанок. Она, брат, акушерские кончила и на медицинские метит…
Из кабачка вышли последними, задолжав грузину за одну бутылку, взятую с собой, и на улице решили ехать к суфлеру.
– Познакомлю тебя со своими, – уговаривал Ардальон Егорович. – Сам увидишь, какие это люди. Особенно, зять мой… Он хоть и парикмахер, а по уму Ллойд-Джордж… Угостим его, – хлопнул он себя по карману с бутылкой. – А то он все больше одеколон… А после этого зелья, ты знаешь, на другой день ничего горячего нельзя… ни чаю, ни супа… Огнем палит. Едем!
Ехали в трамвае и потом долго шли по кривым темным улицам. Суфлеру изменяли ноги, и он едва не сполз в канаву. Буркачев успел схватить его за рукав макинтоша.
– Слаб ты стал, Ардальоша, – заметил он. – А помнишь, в Саратове? По двое суток с пристани не слезали… Эх! Что ни говори, революция и все такое… А если бы прежние времена воротить. Помнишь? Графинчик на двоих – сорок копеек… Стерлядку кольчиком закатишь… А пиво? Да еще какое пиво! Жигулевское, – двугривенный бутылка…
– Запел панихиду… – бормотал Ардальон Егорович. – Все еще будет. Руси веселие… Пришли! – остановился он. – Вот здесь, с угла, в калитку…
– Поздновато… – икнул Буркачев. – Поди, спят уже… Да и Сонька моя, – язва! Два дня пилить будет. Тебе-то хорошо, ты свободный гражданин… А меня связала нелегкая сила…
– Здравствуйте вам! – обиделся суфлер. – Ты мне товарищ или нет?
– Ну, ладно уж… Веди!
Ардальон Егорович вскарабкался на крыльцо и стал подниматься по скрипучей лесенке. Шел он в темноте, ощупью, цепляясь за перильца. На площадке остановился, поискал в кармане спички и не нашел.
– У тебя есть? – спросил он Буркачева и, не дожидаясь ответа, двинулся дальше. – Черт с ними! – решил он. – Я и так найду.
Пошарил по стенке и, нащупав ручку двери, дернул ее к себе; потом, откачнувшись вперед, стукнулся плечом о косяк, и шагнул в темноту.
XV
Степанида все свои дела переделала. Накормила хозяина ужином, вымыла всю посуду и решила перед сном сходить к соседке Семеновне, поглядеть из кухни на актерщика, послушать, поразнюхать… Тихонько от Терентия Ивановича отперла двери и вышла на лестницу. Послушала, как свистит ветер на чердаке, как на улице у ворот, протяжно, подвывая, лает Жук… «Поленом бы его огреть!.. Чего Антон смотрит»? – подумала она и постучалась к соседям.
А Терентий Иванович, подремав с часок после ужина, встал с кровати, обулся в старые уютные валенки и начал свою обычную ночную прогулку по квартире, от окна в спаленке до двери в кухню и обратно.
Опустив лысую голову и заложив за спину руки, шмыгал он тихонько по давно некрашеному пестрому полу. Изредка подходил к столу, убавлял огонь в лампе, одергивал конец камчатной скатерти или присаживался на диване в столовой, около печки, рядышком с дремавшим «Муркой». Гладил серого кота по жирной спине, щекотал за ухом, часто разговаривал с ним.
– Что, Мурка? Спишь? Жирная скотина… Отъелся? Опять вчера сметану уволок у старухи… У, негодяй! Драть тебя некому…
Кот выгибал спину, мурлыкал и свертывался калачиком.
Терентий Иванович вставал с дивана и снова ходил, ходил… И за маленьким сухоньким старичком двигалась следом длинная черная тень. Скучно было купцу Офросимову.
Вся жизнь его прошла на людях, за стойками трактиров, среди галдящей и хохочущей, часто пьяной толпы посетителей «Венеций», «Коммерческих» и «Фантазий».
При покойнице жене Терентий Иванович домой являлся только ночью, усталый, оглушенный маршами трактирных оркестрионов, валился на широкую пуховую постель и моментально засыпал.
Часто смеялся над каждым, кто при нем жаловался на бессонницу:
– Поработай с мое, – уснешь!
Но война закрыла «монопольку», и Терентий Иванович подумал, огляделся, прикинул на счетах и решил, пока что, отдохнуть. Одни из своих «заведений» просто прикрыл, другие передал своему буфетчику и заскучал. Узнал бессонницу, мысли всякие, вспоминал о Боге. В загаженной, в прочно засоренной всякими делами и делишками душе своей, откопал жалость… К самому себе, к покойнице жене-старухе, к солдатикам безруким и безногим… Мало ли? Только допусти себя до этого, а уж на свете найдется кого пожалеть…
Да и жизнь-то кругом стала теперь нехорошая, какая-то непонятная. Начальства – никакого и поборов с тебя – никаких, но, зато, и спокойствия нет. «Вот, – думал он. – Того и гляди немцы сюда придут, а куда бежать? Везде то же, по всей Руси такой разгардераж, что антихристу самая пора… Да и по железным дорогам… тоже, натерпишься, в его-то годы на крыше ехать… И виноватых нету. Смут-то всяких на его веку достаточно бывало, но раньше все так и знали: студенты виноваты, они народ мутят…» А нынче и студенты какие-то непонятные. Шел недавно Терентий Иванович через площадь, видит, стоит грузовик, и студенты из него в толпу листки бросают и речи говорят. Не любит он в толпу лезть, но, все же, подошел к краешку и послушал… Студент, как есть, при всей форме и даже брюки с бахромой, а говорит дело. «Россия, мол, погибает, спасать отечество нужно… Все должны соединиться и, по-хорошему, без драки, без самоуправства. И правительству, мол, необходимо доверять»… Вот тебе и студенты!..
Иногда, в такие ночи, когда уж очень «на душе неудобно», Терентий Иванович запирался в спаленке, стоял перед иконами, повторял молитвы и клал земные поклоны. Отсчитывал их по лестовке, пока не разбаливалась спина, и не начинали дрожать колени… Изредка доставал из комода старые книги в черных кожаных переплетах, доставшиеся ему от покойного дедушки, разгибал желтые страницы и читал жития святых.
Но читать любил он стоя, при свете восковой свечи и вполголоса, заунывным тоном, как читают монашенки по покойникам.
Вот и сегодня, находившись досыта по комнатам, Терентий Иванович погасил для экономии лампу в столовой и пошел в спаленку.
Надел очки, перекрестился и раскрыл толстую книгу на закладке.
Тихо в спаленке. Ровным розоватым огоньком горит желтая свеча. Мерцают потемневшие, кованные ризы на иконах. Печально глядят большие темные глаза Тихвинской Богородицы. Пуще прежнего хмурится седой Никола Мирликийский… И только на устах Саровского пустынника готова вспыхнуть благостная, простецкая улыбка.
Терентий Иванович глубоко вздыхает, протирает полой халата стекла очков и склоняется над книгой.
Читает он долго, стоя перед комодом, тянет священные слова о кротком смирении гордых и знатных, о великом упрямстве всходивших с улыбкой на костры… Изредка он вздыхает, умиленно и жалостно, и снова читает.
Но вот, не кончив даже слова, он поднимает голову и прислушивается. В углу, под кроватью, скребется мышь. И только. Но нет, ухо Терентия Ивановича улавливает еще какие-то далекие, неясные шорохи. Словно бы повизгивает дверная ручка, там, в прихожей… Словно кто-то дышит…
Путаясь в длинных полах халата, он подбегает к постели и сует дрожащую руку под подушку. Затем, дунув на свечу, с револьвером в руке, он крадется через темную столовую.
Ошибки нет, вот оно, жданное и страшное… Что-то колышется во тьме, чьи-то невидимые руки шарят по обоям у самой двери… «Они»! – решает Терентий Иванович, и вся сухонькая фигурка его начинает трястись в лихорадке нарастающего ужаса… «Угодники святые, анделы!..» – шепчут сухие горячие губы, и вдруг он слышит чей-то страшный, хриплый и, кажется, пьяный голос:
– Ардальошка, черт! Где ты там?
Терентий Иванович, полуотвернувшись, вытягивает во всю длину руку с револьвером, зажмуривается, стискивает зубы и спускает курок.
XVI
Ардальон Егорович упал у самой двери в столовую, даже руку одну за порог перекинул. Когда сбежались люди и принесли огонь, суфлер уже не дышал. Над правой бровью, ближе к виску, чернела маленькая ранка, и крови из нее вытекло не больше, как с рюмку, а между тем на первый взгляд казалось, что бедный Ардальон Егорович плавает в крови. Падая, он разбил торчавшую из кармана макинтоша бутылку «кахетинского», и темно-пурпурное вино разлилось широкой лужей вокруг убитого старика. Раненый, он вероятно схватился за голову, потому что на ладони откинутой руки в желтой перчатке видны были пятна крови.
Положение тела и самая ранка у виска как будто говорили, что здесь произошло самоубийство, но Степанида, первая, выбежав из квартиры парикмахера и увидев мертвого суфлера, схватилась за седую голову и завопила:
– Убил!.. Кажинную ночь караулил… Загубил теперь свою душеньку… Ой, матушки! Вяжите меня, старую дуру, я всему причина, ослушалась хозяйского приказу, оставила двери незаперты… Ох!
Маруся, бледная, дрожащая, в наспех накинутой кофточке, с распущенной на ночь косой, взяла старуху за плечи, увела к себе в кухоньку и дрожащими руками, расплескивая воду, совала Степаниде ковшик.
– Успокойтесь, выпейте воды!.. – уговаривала она. – Никто не виноват, несчастный случай… Теперь все напуганы, все с револьверами… И хозяин ваш не виноват, за вора его принял… Успокойтесь, родная!..
Внезапно протрезвевший Буркачев, стоя на площадке лестницы, объяснял, как произошла «катастрофа».
– Я в первый раз иду, – гудел он, размахивая длинными руками. – Затащил он меня, по пьяному делу… А у него спичек не оказалось и он все ощупью, все ощупью… Я за ним следом… Тьма кругом, хоть глаз выколи. Только я его окликнул, вдруг, бац!.. Я назад…
Тоненькая Лиза, с головой утыканной бесчисленными бумажными папильотками, билась в истерике на груди мертвого отца, пачкалась в вине и крови и визжала пронзительно, с надрывом, как полицейский свисток. Рядом стоял в одном белье и босой парикмахер, тянул Лизу за руку и, кашляя, хрипел:
– Буржуи, сволочи! Награбят деньжищ и с перепугу палят во всякого… Где он там? Запрятался теперь, кабатчик леший? Врешь! Достанем!
А внизу на крылечке топтался Антон, хлопая себя по бокам, и не мог решить, что он должен теперь делать: идти ли наверх, к хозяину, или бежать в комиссариат?
Любопытный Жук, тихонько повизгивая, старался проскользнуть на лестницу, но всякий раз натыкался на огромный сапог Антона. Отброшенный вниз, он торопливо лизал ушибленные худые ребра и снова крался к двери.
Одна только бабушка Семеновна сохранила полное присутствие духа. Вышла на площадку и, оттолкнув легонько Курнатовича, поглядела на мертвого Ардальона Егоровича, перекрестилась…
– Царствие ему небесное!..
И вернулась обратно.
Порывшись в кухне у плиты, она взяла маленький заржавленный топорик и, войдя в комнату, присела на полу, рядом с секретным сундучком убитого суфлера. В соседней комнате плакал-надрывался в своей люльке одинокий, всеми забытый Феденька, но бабушке в эту минуту было не до внучка.
Старые, жилистые руки Семеновны трудились над упрямым, хитрым замком сундучка, хранящего сокровища безвременно скончавшегося раба Божия Ардальона…
Когда в комнату вошел Гришин, злой и взлохмаченный, и привел тихонько всхлипывающую Лизу, Семеновна уже сидела у люльки, укачивая Феденьку, и встретила их вопросом:
– Милицейские-то пожаловали?
– Нет еще, не торопятся. Приятель то этот, ночной, пошел на угол звонить по телефону, да только я смекаю, что он уже сам стрекача задал. Ищи его теперь!
– Что ж, кому охота в этакую историю лезть? Лизавета, покачай его, – а я мать кликну.
Семеновна снова пошла на лестницу, нагнулась над трупом и долго вглядывалась в лицо Ардальона Егоровича. Принесенная Марусей свечка оплывала от сквозняка, и трепетные тени играли на желтом, кругленьком личике угомонившегося суфлера. Казалось, что, вот, сейчас, он подымет левую бровь, взглянет, прищурившись, на Семеновну и спросит сладеньким голоском: «Что, бабушка? Бессонница?»
Семеновна выпрямилась и тряхнула головой.
Подошедшая сзади Степанида тронула ее за плечо.
– Словно живой лежит… – всхлипнула она в передник. – А уж ничего не слышит. Дочку-то евонную насилу оторвали… Господи, до чего жалостно!..
– Есть чего жалеть! – оборвала Семеновна. – Как жил век свой прощалыгой, так и помер… Без покаяния, как пес… По крайности теперь никого не проведет.
– Грешно, мать моя! – разозлилась Степанида. – Небось, пока жив был, так всем от него пользовались…
Семеновна повернулась, плюнула вниз на лестницу и ушла, не ответив.
На рассвете Ардальона Егоровича увезли в покойницкую ближайшей больницы, а через час по зеленой улочке повели в комиссариат Терентия Ивановича. Убийца, как был в валенках, так и остался и только халат заменил стареньким драповым пальто. Шагал он, сгорбившись, между двумя милиционерами, и тут же сбоку шел Антон и поглядывал на опущенную хозяйскую голову.
«Кайся теперь!.. – думал он. – Изведали, дяденька, сколь легко… револьверты эти? Меня заставляли»…
Терентия Ивановича нашли в спаленке, в уголке у печки. Сидел он на стуле, поджав ноги и спрятав руки в рукава халата и вздрагивал тихонько, словно от озноба.
Боялись входить к нему, думали, стрелять будет.
Только Степанида, просунув в дверь голову, позвала хозяина.
– Терентий Иваныч, зовут вас!.. Начальство требует. Чтой-то вы, ровно бы не в себе… Не по нароку убили, сам он виноват… Разберут дело-то… Нате-ка, пальтецо я приготовила… Да, может, водицы подать?
Терентий Иванович, молча, переоделся, положил перед киотом три поклона и вышел в столовую.
Вежливо поклонился комиссару и, уходя, на пороге наказал Степаниде:
– Сходи к отцу Николаю. Отписать надо Костьке-то… Пускай, если можно, отпросится сюда…
А выйдя уже на крыльцо и увидя Антона, горько усмехнулся в бороду:
– Проспал-таки, дубовая голова! Подмойте там… лестницу.
Едва увели Терентия Ивановича, чуть только рассвело, к офросимовскому домику с разных сторон потянулись любопытные. Идучи на базар, завернули в зеленую улочку бабы с мешками и корзинками, приехали на извозчике два репортера, собралась кучка рабочих с соседнего завода.
Посреди улицы остановился проезжавший грузовик с дровами. Любопытный шофер слез и, работая локтями, втиснулся в середку толпы. Прибежали оборванные мальчишки. Под предводительством румяной нарядной «сестрицы» приплелись на костылях инвалиды из ближайшего лазарета.
Подняв головы, глядели на закрытые окна офросимовской квартиры, переходили с места на место, спрашивали друг друга… У самой калитки стояла неизвестная бойкая бабенка, весело улыбалась, показывая крупные белые зубы и стрекотала ярославским говорком:
– Жильца своего убил. Спервоначалу выселить его хотел, да не удалось, нынче на этот счет руки коротки… Ну, он заманил его к себе и прикончил…
– Так… – сказал кто-то в толпе. – С ним шутки плохи! Купец Офросимов – человек сурьезный, я его девять годов знаю…
Высокий рабочий с темным испитым лицом усмехнулся и махнул рукой:
– Слушайте вы ее!.. Врет она. Слышала звон, а откуда он? Тут другая причина: купец этот краденое скупал, да возьми его и обсчитай. Ну, слово за слово, дошло у них до драки, он его и пырнул под ребро…
А напротив, на тротуаре, стояла публика почище. Вертлявая барышня в коротенькой, до колен, юбочке и желтых высоких сапожках дергала за рукав своего кавалера безусого юнкера:
– В чем дело? Узнайте, пожалуйста! Это митинг?
– Артиста одного убили, кажется, известного; мне говорили фамилию, да я забыл… Романическая история…
Одинокий милиционер, щупленький юноша в желтой смятой шляпе, переходил от одной группы к другой, волоча по земле тяжелую винтовку, и говорил, забавно хмуря брови:
– Разойдитесь, товарищи, не дозволено!..
– А людей резать дозволено? – усмехался ядовито седенький старичок, швейцар из углового дома. – Где ты раньше был?
Курнатович открыл окно, высунулся, поглядел вниз, послушал и сказал жене:
– Маруся, оденься-ка, пока что… Да шляпки не надо. Накинь платок. Я тебя провожу к Воронковым. После службы зайду за тобой. Обедать-то сегодня придется в столовке.
Бледная, не спавшая всю ночь, Маруся подняла на мужа усталые глаза.
– Я боюсь, что подожгут дом…
– Ну, что ж? – усмехнулся Дементий Петрович. – Сгорят твои книжки да моя гитара… Скорей, детка! Потом не выбраться отсюда. Слышишь, как галдят?
– Дема, я лучше поеду к Алеше?.. – сказала Маруся.
– Как знаешь.
Курнатович повертел в руке янтарный мундштучок и, взяв его в рот, крепко стиснул зубами. Так крепко, что янтарь хрустнул и разломился.