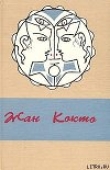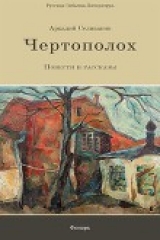
Текст книги "Чертополох"
Автор книги: Аркадий Селиванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
XVII
Падали желтые листья. Последний неожиданно теплый сентябрьский день, догорая над старым опустошенным парком, позвал Марусю к знакомому пруду.
– Пойдемте подальше, Алеша! – позвала она в свою очередь. – Там у пруда есть скамейка под кленом. Необыкновенный клен, вот увидите. Он один еще держится. Мы с ним давно знакомы. Пойдемте, я вас представлю.
– Там наверно болото теперь, – возразил Алеша, но улыбнулся и послушно захромал за Марусей. – Не так скоро! – попросил он. – Ваш клен подождет, а по мне так и здесь хорошо. Люблю я осень!
– Как все упадочники? – улыбнулась Маруся.
– Как все одинокие, – ответил он и, помолчав, добавил: – Как вы сами, Маруся. Недаром, когда петь начнете, все у вас в миноре выходит. Славянская душа… Остановитесь на минуту! Послушайте! Что? Вспоминаете? «Завершительный ропот шуршащих листвою ветров»…
– Только без стихов! – поморщилась она. – Довольно с меня и ваших писем. Лучше помолчим и подумаем. Каждый о своем.
– Помолчим! – согласился Алеша.
Перешли через старенький мостик с зелеными перильцами, прошли мимо белого павильона в греческом стиле, со сломанными колоннами. Молча повернули на узенькую, усыпанную листьями, дорожку, молча взглянули в глаза друг другу и улыбнулись.
– Когда вы уезжаете? – спросила Маруся.
– Теперь скоро, – ответил он. – Война уже кончена. Осталось только уплатить по счету. Но меня уже здесь не будет.
– Кто же должен платить?
– Тот, кто пировал во время чумы. Ах, Маруся!.. Быть может, я скоро вернусь. Когда настанут великие дни покаяния… С заунывным звоном стареньких колоколов, с черными ризами…
– С постным сахаром… – улыбнулась Маруся.
– Да. Дни великого народного поста. И тогда опять придет весна, и снова будет светлая пасхальная ночь. Последняя, Маруся. И мы снова увидим свою маму, старенькую, убогую, избитую Русь… И сарафанишко ее узнаем, и зипунишко на плечах, ветхий, посконный зипунишко, тот самый, в котором она еще в лавру хаживала, к Сергию игумену, Гришку проклинаючи… И посошок ее знакомый, крепкий еще посошок, на долгую еще путину хватит его…
Маруся с тихой и недоброй улыбкой заглянула сбоку в некрасивое желтое лицо своего спутника.
«Алексей, человек Божий… – подумала она. – Поехал!.. Словно кликуша…»
– Да, Маруся, – продолжал он, снова хромая по коврику шуршащей листвы. – И друзья и враги наши все учли, все взвесили, обо всем догадались… Лишь одно они забыли.
– Что?
– Бога нашего. Старенького, русского Бога…
– Скучно все это, Алеша… – вздохнула она. – Да и старо. Помнится, я уже читала об этом. У славянофилов кажется…
– Нет, Маруся, это не то… Славянофилы в народ верили.
– А вы?
– А я в иконку, в дощечку древнюю. В стихиры покаянные. Ах! У каждого народа своя марсельеза…
– Вот, и пришли, – остановилась Маруся. – Видите мою скамейку? А над ней красные, широкие ладони? Ни у кого таких нет. Только у моего старика-клена… Сядем здесь, отдохнем и обратно…
Алеша молча опустился на низенькую, вросшую в землю скамью. Вынул папиросы, закурил.
Маруся, вскочив на скамейку, сорвала с дерева несколько багряных, но еще гибких листьев, и села рядом с Алешей.
Солнца уже не было, и все кругом быстро темнело, точно кто-то невидимый ходил по высокому храму и гасил свечи, одну за другой…
– Отчего бы вам, Алеша, не пойти в монахи? Вот, как тезка ваш, Алеша Карамазов. Помните?
– Я уже думал об этом, – усмехнулся он. – Только я жизнь люблю. Я еще жадный…
– Ступайте, Алеша! – смеялась она. – Ряса вам пойдет больше, чем эта тужурка. У вас волоса вьются, вы их – локонами до плеч… Купчихи станут к вам ездить. Икры, семги навезут. У вас, вон, и руки красивые… Вы их в миндальных отрубях мойте, они станут белые и нежные… И так приятно будет целовать их…
– А вы приедете?
– Непременно! И не одна, притащу с собой нашего хозяина «убивца»… Вы ему грех отпустите, а он вам за это вклад на вечное поминовение убиенного актера.
– Да, а чем же кончилась эта история?
– Пока ничем. Старик еще сидит под арестом. Приехал с фронта сын его. Из молодых, да ранний… Первым делом набавил на квартиры… А актера этого недавно похоронили. Мы собрали на венок ему… Должно быть на первый и последний…
Маруся умолкла и задумчиво поиграла сорванными листьями. Подобрала их в тон, от желто-розовых до темно-кирпичных, сложила веером и закрылась от Алеши.
Он вынул из кармана часы и поднес к близоруким глазам.
– Поздно уже, Маруся! Вы так далеко завели меня. Отсюда до трамвая версты полторы… И уже темно, мы потеряем дорогу. Идем?
– Подождите, Алеша… Еще немножко! Мне уже больше не придется побывать здесь. Одной так жутко… А Дема теперь председателем какого-то районного комитета, бегает с толстым портфелем и каждый вечер на заседаниях…
– А вы все одна… Что вы теперь читаете?
– Улыбнитесь авансом: шикарнейшего француза Эдмона Ростана. Что? Кончила «Романтиков», начала «Орленка» и бросила… Очень уж все это… земляника в январе.
– Для нас? Да. В том и горе, что из наших орлят вырастали совы…
– Нет, увольте! Все эти шпаги, знамена, реликвии… Французским комми – это импонирует…
– Ах, Маруся!.. – засмеялся он. – Какая вы стали модернизованная из цирка «Модерн»… Нет, послушайте, лучше, я расскажу вам один милый анекдот: однажды Сенкевич встретился с Ростаном. – «Немногого стоит литературная слава, добытая саблей пана Володыевского!» – усмехнулся французский поэт. – «Да и невысок тот Олимп, куда можно вспорхнуть на крыльях Орленка!» – ответил польский романист. Знаменитые патриоты, увы, Маруся, – патриоты, отвернулись и разошлись, но за их спинами арбитр Петроний, молча, пожал руку поэту Сирано, и панна Анеля ответила на ласковую улыбку принцессы Мелиссанды…
– Вот панне Анеле я сочувствую! – тонко улыбнулась Маруся и, оглянувшись назад, дотронулась до Алешиной руки. – Оглянитесь! – шепнула она, и улыбка сбежала с ее губ.
В нескольких саженях от скамьи, на узкую, кривую дорожку вышли из-за деревьев три человека, двое подозрительных штатских и солдат.
– Пойдем! – сказала Маруся дрогнувшим голосом.
– Успокойтесь, Маруся!.. – ответил тихо Алеша, пожимая ее руку. – Не обращайте внимания… А бежать бесполезно.
Он закурил папиросу и затянулся глубокой, нервной затяжкой.
Три пугающе безмолвных человека медленно подходили к скамье. Высокий солдат, в распахнутой шинели, без погон, шел впереди.
Маруся, не мигая, вглядывалась в его лицо, желтевшее в сумерках вечера. Разглядела широкий вздернутый нос, темную квадратную бородку… Уронила свой веер и крепко прижалась к плечу Алеши.
Солдат остановился в двух шагах от скамьи и поднял руку с папиросой:
– Товарищ, дозвольте прикурить!..
Алеша стряхнул пепел, приподнялся и, в ту же секунду, упал навзничь, больно ударившись головой о чугунную спинку скамейки. Высокий солдат качнулся вперед и обеими руками стиснул его горло.
Маруся вскочила и крикнула дико и страшно, но тотчас умолкла. Широкая потная ладонь закрыла ее рот. Маруся дернула головой, и ее мелкие, острые зубы впились в руку безусого стройного юноши в шоферском кепи. Он глухо вскрикнул, согнулся и, взмахнув другой рукой, ударил Марусю рукояткой револьвера. Удар пришелся сзади уха, туда, где изогнулась каштановою змейкой шелковистая прядка.
– Ловко! – сказал третий, не принимавший участия и спокойно стоявший поодаль, с руками, засунутыми в карманы серого пиджака.
– В один секунд управились! Только стоит ли овчина выделки? Кроме одежи, кажись, ничего… А, впрочем… – усмехнулся он, подходя, – открой-ка ей рожу-то… Гм… Курсисточка невредная!
1918 г.
Под старыми соснами
I
Древние сосны стояли на бессменной страже вокруг монастыря. От соблазнов мирских, от прихода незваных гостей охраняли его глубокие овраги и мшистые, коварные болота.
Долгие, никем несчитанные, годы монастырь жил своей тихой замкнутой жизнью, и крепче железных вериг, прочней оград каменных сковал сердца и мысли братьев суровый, монастырский устав.
Но где-то там, далеко за темным лесом, за ярко-зеленою топью, была другая жизнь, неустанная, неугомонная. Работали и умирали люди и на смену им, из темного, бездонного колодца жизни, природа черпала новые, бесчисленные силы. И как вешние реки, зацелованные солнцем, разливались широкие озера жизни. Затерянные, забытые Богом деревни вырастали в поселки. Осушались болота, вырубались лесные чащи, перекидывались мосты через реки, и с каждым годом, шаг за шагом, все ближе подходил к монастырю мир, голодный и жадный, не покладающий рук. И волны жизни, смелые и любопытные, подбегали уже к самым вратам монастырским.
Но, чем быстрей вертелось колесо городской жизни, чем выше вздымались фабричные трубы, тем бережнее становились люди к монастырским угодьям, тем милей и отрадней был для них этот зеленеющий тихий оазис среди гранитной и шумной душевной пустыни.
И чудом красивым и светлым казалось порой, что грохочущий, неведающий преград, поток победоносной жизни не смыл еще этот одинокий островок тишины и беззлобного мира.
II
Непобедимый бессонный завоеватель, жизнь остановилась у стареньких врат монастыря, но человек нашел иные пути. Смиренным богомольцем в лаптях и с котомкой шагнул он за ветхую ограду. Оставил позади все помыслы земные, всю суету сует и с открытым сердцем вечного ребенка пришел под угрюмые сосны. Напился жаждущий у чистого источника немудрствующей веры, прикоснулся к столетним святыням и понес обратно чистые и хрупкие дары обители: смирение – в мир сильных, незлобие – в кровавую битву из-за куска хлеба и тихий огонь в пучину житейского моря.
Пришли и другие люди. И не одни только старые лапти шептались о ступени монастырского храма. Случалось слышать, как позванивали шпоры и постукивали высокие каблучки дамских ботинок.
И скоро не вмещал уже храм богомольцев. И скоро рук уже не хватало у братии, чтобы хлебов напечь и квасов наварить для трапезной.
Тогда четверо старцев, ревнующих о тишине, просили смиренно игумена дозволить им кельи свои поставить подальше от храма, в далеком и диком уголке леса, куда и солнце не заглядывало сквозь ветви столетних елок.
Игумен благословил и в то же лето старцы, с помощью братии, сколотили себе немудрые избушки. Стояли они одна от другой неподалеку и добрых три версты было от них до монастыря.
Прожили в них старцы зиму, а по весне и пятая келья стала рядышком. Построил ее игумен для старца Виталия – молчальника. И поселился в ней Виталий, третий год уже взявший на себя обет молчания и свято его соблюдавший. Хотя и не просил старец, но понял игумен, что не лежит душа Виталия к новому шумному укладу монастырской жизни и что ищет она тишины и спокойствия.
III
В тесной келье старца Виталия пахнет травами, полевыми цветами. Любит он бродить по сенокосу, собирать голубоокие и желтоголовые цветы, только что срезанные острой косой. Но сам их не рвет никогда, бережет их короткие жизни. Всюду, на окне, на единственном столике в углу кельи, за старинными темными киотами приютились увядающие былинки, со своим пряным запахом безмолвного умирания. В толстых книгах священных, между желтыми страницами, лежат сухие незабудки, шуршащие васильки и астры. Служат они Виталию закладками, отмечают слова писания, излюбленные старцем.
Часто сидит он, согнувшись над пестрою жатвой, перебирает сухие цветы такими же сухими, непослушными пальцами и тихо улыбается своим думам. В частую сетку собираются морщинки вокруг ласковых глаз Виталия и улыбаются вечно безмолвные уста его, спрятанные под белыми усами. Вечно безмолвные уста…
Со страстного четверга пошел уже третий год молчанию старца. Однажды испытал его Господь и покарал себя Виталий до могилы.
Два года тому назад, когда Виталий жил еще со всей братией, приставлен был к нему для услуг молодой послушник Павел. Розовый и чернявый, быстрый в движениях и скорый на язык. Что привело его сюда – неизвестно, но только не к месту он был в этой тихой обители. Не показался он старцу, невзлюбил он его, но и Павел заплатил старцу той же монетой: чем мог, досаждал и всячески испытывал его терпение.
В четверг же поздним вечером, когда старец возвращался из храма от двенадцати евангелий, застал он Павла в своей келии, курящего табак. Выбил старец из его руки толстую вонючую цигарку и тут же растоптал ее. Но вскоре и отошло недавно умиленное сердце, сказал он Павлу: «Иди с Богом!» – и нагнулся к цигарке, хотел выбросить ее из кельи. Поднял цигарку старец, взглянул и снова выронил… Затрясся от гнева, подбежал старыми ногами к окну, где лежали его книги, открыл одну, другую и понял: не хватало одной страницы в Псалтыри, наискось была вырвана она и скрутил из нее свою поганую цигарку святотатец Павел. Распалилась душа старца, поднял он руку свою, чтобы ударить Павла, но тот увернулся, шмыгнул в дверь кельи, да еще и хихикнул ехидно.
Тут-то и согрешил старец. Бросил он с порога, вдогонку Павлу, слово тяжкое, стопудовое… Осквернил свои уста непотребной хулой. Смрадную брань изрекли они в ночь на великую пятницу.
До утра стоял Виталий на молитве. Много раз обернулись в руке его длинные четки и каждое зерно их было глубоким поклоном земным, тяжким поклоном недужного старца.
Встало весеннее солнце, запели птицы за окном, но все еще не было мира в душе Виталия, сокрушенный и кающийся пошел он к игумену. Рассказал про грех свой и просил благословить его на великую епитимью, на молчание до смертного часа.
Игумен долго уговаривал старца. Жалел он в нем клирика, жалел его голос сладкий и трогательный, исторгающий часто слезы душевные у тех, кто слышал Виталиево чтение. Но ползал у ног его старец, плакал скорбно и молил покарать его вечным безмолвием. И уступил Виталию игумен.
Вскоре ушел из монастыря послушник Павел, но старец часто думает о нем. И нет уже сомнений у Виталия, что человек этот и в монастырь приходил лишь затем, чтобы испытать его душу.
И с того же дня, как замолчал Виталий, снова сошла в его душу прежняя тишина. Так же радостно улыбаются его глаза людям, солнышку, цветам и птицам. Так же покойно и ровно бьется старое сердце, сердце седого ребенка, не знающее грядущего дня, не ведающее о том, как много и мало дано человеку. Что властен он наложить на себя любой обет, но бессилен отогнать искушение и что нет победы без борьбы, как нет и жертвы без муки.
IV
Троицын день в монастыре престольный праздник. Еще в субботу с утра переполнилась богомольцами небольшая монастырская гостиница. Не вместила она и половины православных и многие после всенощной заночевали под открытым небом. Легли вокруг храма на молодую травку, покрылись зипунами и прежде, чем заснуть, долго смотрели в ласковые звездные очи теплой ночи весенней.
А с утра воскресенья потянулись в монастырь из города кареты и коляски, привезли они помещиков окрестных и купцов-богатеев.
Где же было старенькому храму вместить всех паломников? Далеко вокруг него разлилось человеческое озеро. Стояли под солнцем на монастырском дворе и в тени под деревьями. Не слышали ни возгласов, ни пения. Не видели икон святых, но крестились усердно и кланялись, припадая к земле, шептали молитвы свои собственные, с детства знакомые и голубое небо висело над ними куполом вселенского храма и благовоннее росного ладана пахли сосны и ели весенней смолой.
Поздно отошла обедня. Высоко уже стояло солнце, когда вышел из храма крестный ход. Расступались серые волны людские и двигался между ними золотистый поток. Колыхались хоругви и желтые огоньки свечей. Взволнованно и радостно переговаривались старые монастырские колокола. И всюду была красота, та, что крепче уз земных, сильнее страха загробного привязала к себе простое народное сердце.
А после долго еще тянулась общая трапеза. По очереди садились богомольцы за длинные столы. Всех накормил монастырь, напоил своим квасом шипучим.
Утомился отец-игумен, едва ноги держат. Отдохнуть бы теперь, а вместо того, едва отошла трапеза, пригласил он к себе в келью просторную гостей праздничных, дворян и купцов именитых, что не скупились на жертву обители от своих достатков.
Тут же, рядом с хозяином, сидит и отец Вонифатий, соборный протопоп из города, и мать Стефания, игуменья дальнего женского монастыря, и даже полковник Власенко, недавно назначенный здешним полицмейстером.
А поодаль, у окна, рядом с пышной махровой геранью, сидит молодая вдова купеческая Серафима Филиппьевна. Уважает ее отец-игумен за жизнь ее строгую, благочестивую, за постоянные заботы о нуждах обители.
Много интересных и почтенных гостей сегодня у отца-игумена, но всех любопытней фигура Володи Кирьюшина.
Назад тому года четыре умер Володин отец Семен Иванович, ситцевый фабрикант и многих домов и окрестных имений владелец. Кроме всего прочего, оставил он единственному сыну наличными без мала полмиллиона. Схоронил папашу Володя, сдал все дела старому приказчику, а сам махнул за границу, да и пробыл там три года с лишним. Говорят, что вокруг света объехал и в Америке побывал.
Что он там делал, – неизвестно, но, однако же, капиталов родительских не растранжирил и, вернувшись домой, приказчика своего усчитал до копеечки. Не пьянствовал и не развратничал, жил, как следует, но была и у него одна слабость: помешался Володя Кирьюшин на эксцентричности. Янки, что ли, его заразили, или папашина куражливая натура сказалась?.. Не было дня, чтобы Володя не выкинул какого-нибудь фокуса: то кучера своего оденет бедуином в чалму и в бурнус, то особняк свой городской велит выкрасить в серебряную краску… О многих его чудачествах рассказывали в городе, но и в них не выходил он из рамок дозволенного и никого ни разу не обидел.
Вот и сегодня Володя шутом нарядился: одел костюм белый фланелевый, что для тенниса, цветную сорочку мягкую, а на ноги – галоши высокие, ботики. Так и в храме отстоял, так и к отцу-игумену пришел.
Сидят гости, беседуют, пьют чай с медом из монастырской пасеки.
– Тесен храм-то у вас, тесен… – говорит отец Вонифатий. – Неужели же и в сем году не приступите к постройке?
– Повременить надо… – отвечает отец-игумен и звучит печально бархатный голос.
– Еще одно лето упустите.
– Что же поделаешь? Не сподобил еще Господь… Казны не хватает. Бедна еще обитель наша…
Вздохнул отец-игумен и опустил свою львиную голову.
Помолчали с минутку.
Тогда Володя Кирьюшин вставил в глаз стеклышко, да и спрашивает:
– А сколько еще не хватает у вас?
Встрепенулся отец-игумен.
– Да без мала тысяч двенадцать не достает еще против сметы.
– Гм… – произнес Володя и задумался о чем-то.
А на лице отца-игумена уже сияние. Молча и ласково смотрит он на Володю. И все вокруг притихли в ожидании и думалось каждому. «Что ему стоит? Возьмет и отвалит»…
А Володя поднял голову и спрашивает снова:
– А правду ли я слышал, что есть в вашей обители старец-молчальник?
Изумился слегка игумен: при чем, мол, здесь старец?.. Но отвечает:
– Не обманули тебя, сын мой, есть. Отец Виталий. Третий год уже безмолвствует…
Встал Кирьюшин, посмотрел на всех и говорит:
– Что же? Я согласен пожертвовать эти двенадцать тысяч, если отец Виталий по моем покойном батюшке панихидку отслужит…
На всех словно бы столбняк нашел. Знали все про Володины фокусы, но такого не ожидали. Сидят все немые и неподвижные… Только полковник крякнул негромко и поправил орден на шее.
Первым опомнился протопоп Вонифатий. Строго взглянул он на Кирьюшина.
– Покойный родитель ваш был благочестивый человек, а не вложил в вас страха Господня!.. Неподобные шутки шутите!..
Но остановил его отец-игумен, скрыл огорчение свое и улыбнулся благодушно:
– Нет греха превыше соблазна… Но Господь умудряет сердца. Пусть будет по желанию твоему. Если и старец того же захочет, я не препятствую.
И велел он сходить за отцом Виталием, знал, что он неподалеку на пасеке бродит.
Не обидел Господь умом отца-игумена. Недаром, в нестарых еще годах своих, уже стоял он во главе обители. Понял он, что улыбнулась уже богатая жертва Кирьюшина, но хотел еще извлечь иную пользу для монастыря.
Верил он в твердость старца-Виталия, знал, что не нарушит он обета своего и при всех посрамит дерзкого миллионщика. И предвидел игумен, что с этого дня наипаче вознесется слава старца-молчальника, а с ним и всей обители и принесет она плоды сторицею.
Так оно и сбылось. Пришел на зов старец Виталий, выслушал Володину просьбу и посмотрел на него пристально голубыми старыми глазами. Всего оглядел он: и пробор его безукоризненный английский, и стеклышко в правом глазу, и даже ботики его высокие… Искал чего-то старец взором своим, может быть сходства телесного с послушником Павлом, но улыбнулся Виталий кротко и ласково, издали благословил Володю крестным знамением, поклонился отцу-игумену и всем гостям его и вышел.
Склонялось уже солнце к закату своему, Последние песни свои допевали птицы в кустах. Медленно шел лесною тропою старец Виталий. Возвращался он в келью свою и всю дорогу с безмолвных уст его не сходила кроткая улыбка. Спускался вечер уже, когда добрел старец до своей избушки. Присел он на пороге и отдохнул недолго. Поглядел на вечернее небо, на первую звездочку бледную, потом вошел в свою келью, зажег свечу восковую, достал Псалтырь и открыл ее на излюбленном месте. И в сотый раз прочел он древние слова царя-псалмопевца, близкие сердцу Виталия: «…да не возглаголют уста мои дел человеческих»…