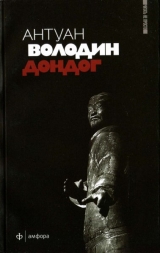
Текст книги "Дондог"
Автор книги: Антуан Володин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
4
Баржи
Чтобы спуститься к реке, предстояло пересечь развалины старого порта, того, что был разрушен во время второй войны. Обосновавшись на бетонных обломках, за нами наблюдали чайки. Огромные чайки с равнодушными глазами. Наше вторжение их не потревожило. Йойша подошел поближе. Самая большая угрожающе сгорбилась, расставила крылья и осклабила клюв.
– Осторожнее, – предупредила Габриэла Бруна. – Я их тут всех знаю. Они опасны. Ту, что разинула клюв, я в память о своей подруге прозвала Джесси Лоо.
– Джесси Лоо! – закричал Йойша. – Лежать!
Птица не отступала. Йойша топнул ногой.
– Джесси Лоо! – снова закричал Йойша. – Мы не хотим тебе зла, уймись!
Чайка с видимой неохотой сделала вид, будто его слова ее убедили, и обозначила легкое отступление. Мы лавировали среди искореженного железа и бетона. На этих развалинах город кончался. Далее простиралась заурядная сельская местность: луга люцерны, тополя, шоссе, дачи с закрытыми ставнями.
– Это остатки моста, который взорвался в войну, – сказал Йойша, очень гордый, что может блеснуть своими познаниями перед взрослыми.
– Да, – подтвердила Габриэла Бруна.
– Его подорвали? – спросил я.
Я притворялся, что не знаю. На самом деле я наизусть выучил обстоятельства этой операции, число убитых и даже происхождение использованной взрывчатки, но надеялся еще раз услышать эту историю, на сей раз из уст новой рассказчицы, другой Габриэлы Бруны, личности почти экзотической, поскольку она была матерью Шлюма.
– Да, – сказала Габриэла Бруна. – Его взорвали партизаны.
Она ничего не добавила. За полосой камыша начиналась проселочная дорога, которой никто, кроме матросов с барж и их семей, не пользовался. Дальше вновь тянулась набережная. Берег в свое время был обустроен, но теперь являл собой всего лишь заброшенный, заросший травою, весь в проплешинах луж участок земли. На щеках, на волосах у нас оседали ледяные капельки воды. Мы замерзли. За туманом скрылся другой берег. Стали невидимками длинные цеха и труба завода, на котором строили танки. Над рекой, над Шамианой, летали другие, куда более дружелюбные чайки. Их было много, чуть крикливых, и планировали они над самой водой.
– А я могу спеть партизанскую песню, – сказал я.
– А, да… хорошо, Дондог, – похвалила меня мать Шлюма.
Поскольку она ничего не добавила, петь я не стал. Я пел ключевые гимны взрослых, только если взрослые меня об этом просили, говорит Дондог.
Пройдя еще метров пятьсот, Габриэла Бруна на мгновение остановилась и обернулась, чтобы убедиться, что в пейзаже не появилось ничего опасного. Она прищурилась, ее ноздри трепетали. На жестком, уже чеканном как у старухи, иссушенном и мрачном лице настолько отчетливо читалась тревога, что мне припомнилась та секунда из моего ночного сновидения, когда бабушка и ее товарки сквозь зубы признали, что проиграли войну и нужно бежать дальше. От выражения ее лица у меня по коже пошли мурашки. Йойша тоже изучал ее черты, привыкнуть к которым у нас, собственно, еще не было времени. Не знаю, что он в них разобрал. Он прижался ко мне, ему хотелось поговорить, но он ничего не сказал.
Я сжал в руке замерзшие пальцы Йойши и придвинулся поближе к Габриэле Бруне, к ее ворсистому бедру, юбке и куртке, пропахшим огнем, горючим, собаками. Придвинулся настолько близко, что мог ее коснуться. Город позади нас исчез. Мы были далеко от дома. На берегу Шамианы, в этом незнакомом месте, кроме Габриэлы Бруны нам не на кого было надеяться.
Теперь стали видны две пришвартованные баржи и на пустыре, трава на котором еще не зазеленела, остовы трех не слишком высоких, на монгольский манер, юрт. На берегу мельтешили какие-то силуэты. А дальше все сливалось в сплошную гризайль. Десятью годами ранее это место использовалось как погрузочная площадка, и до сих пор там виднелся балансир, остатки железнодорожной ветки и фундамент ангара. Все оборудование сгорело во время войны и восстановлено не было. На этой-то заброшенной площадке и были разбиты шатры. Они простояли здесь не один сезон, наверняка даже не одну зиму. Здесь, когда баржи отправлялись с грузом в далекие края, жили школьники из семей матросов-речников. Денно и нощно их охраняли собаки, отгоняли всех неугодных, редких праздношатающихся.
Они примчались, без лая, во весь дух. Габриэла Бруна властным голосом их успокоила. Собаки обнюхали нас, облизали Йойше руки и вернулись к юртам, обрадованные возвращением хозяйки и лаской Йойши. Я почти ничего не помнил о своем первом посещении лагеря в прошлом году с бабушкой, но клички двух собак запали мне в память: Смоки, глянцевито-черная немецкая овчарка, и Смерч, рыжий пес-полукровка.
Лагерь оставался на этом месте довольно долго, и сегодня речники возились, его сворачивая. Когда мы были уже у самых шатров, я узнал Шлюма. Он опередил нас, проехав на велосипеде по дороге, пока мы мешкали на берегу сначала канала, потом Шамианы.
Не прекращая работы и не обращая на нас внимания, Шлюм помахал матери рукой.
– Поторопись, – сказала Габриэла Бруна.
– Ты видела, пока шла? – спросил Шлюм. – Видела солдат?
– Да, – сказала мать Шлюма. – Поторопись. Стемнеет, и они разгуляются.
– Они уже разгулялись, – сказал Шлюм. – Я видел, как молодчики из отрядов Вершвеллен выбросили кого-то из окна.
Из всех детей взрослым помогал только Шлюм. Второй из старших, Танеев, появился позже и тоже включился в сборы, но сейчас Шлюм был один.
Юрта представляет собой незамысловатую конструкцию, и несколько лет тому назад я прочитал в какой-то книге, что достаточно получаса, чтобы разъединить ее элементы и навьючить их на лошадей, верблюдов или яков. Но здесь разборка заняла куда больше времени – возможно, потому, что речники принадлежали к поколению, которое утратило контакт с кочевыми, пастушьими реалиями плоскогорий. Габриэла Бруна помогла сыну скатать и перевязать войлочную кошму, а потом занялась нашей погрузкой на первую из барж. Мы спустились в жилые отсеки. Она помогла нам устроиться. Мы ни под каким предлогом не должны были оттуда выходить.
Она выдала нам по чашке чая.
И немедля вернулась к юртам.
В том пространстве из дерева и меди, в котором мы оказались затворены, свет рассеивался весьма скупо. Топилась печка на мазуте. Она испускала сильный запах и много жара. Йойша уселся за накрытый клеенкой стол. Он вытащил из ранца черновую тетрадь и простой карандаш и принялся в тишине что-то рисовать. Он предпочел бы выбраться наружу и там победокурить со Смоки, но если мы что-то поняли, нам следовало забыть о непослушании.
– Ведите себя хорошо, мальчики, – сказала, уходя, Габриэла Бруна. – Тут остается Барток. Он за вами присмотрит.
Барток оказался окаменевшим в плетеном кресле древним старцем с невидящими глазами, время от времени он приоткрывал рот и подчас шевелил губами, не издавая других звуков, кроме едва слышного хлюпанья слюны.
Его присутствие нас ничуть не смущало, ибо нам не раз и не два доводилось сталкиваться со столетними уйбурами.
Я встал перед Бартоком и сказал:
– Знаешь партизанскую песню? Я могу ее спеть.
Старик никак не реагировал.
– В войну наш папа был партизаном, – похвастался, не переставая рисовать, Йойша. – Он пускал под откос поезда.
Я подождал еще горстку секунд, прежде чем добавить:
– Если хочешь, могу тебе ее спеть, партизанскую песню.
Я следил за губами старого уйбура. Они вроде бы шевельнулись. Я присмотрелся пристальнее. Я готов был затянуть песню и пропеть один за другим все куплеты, но вдруг мне показалось, что Барток выказывает что-то вроде неодобрения. И я смолчал.
К ночи мы отдали швартовы. В сумерках к нам присоединилось еще несколько человек, в том числе дети. Ни моя бабушка Габриэла Бруна, ни родители на борт не поднялись. Вместо того чтобы бежать как можно дальше от опасности, мы заскользили в направлении города. Причины этого до сих пор остаются мне не вполне ясны, но, возможно, они связаны с особенностями речной навигации в ночные часы, или с направлением течения, или с проблемами с мотором, или даже со встречей, которой следовало почтить каких-нибудь неведомых сумеречных подпольщиков. Мы медленно скользили в направлении города, и вскоре, после того как миновали устье канала, баржа вновь пристала к берегу. Не видя его, мы проплыли мимо жилого дома на набережной Тафарго. Порт был расположен на небольшом расстоянии от больницы. На суше не было видно ни души. По обе стороны от Шамианы все словно вымерло. В больнице не горела ни одна лампа. То же и в порту, ни проблеска.
Город целиком погрузился во тьму.
Вокруг нас все молчали. Время от времени доносились звуки бартоковского пожевывания, шелест древних губ и хлюп слюны. В какой-то момент старец начал было напевать. Он промурлыкал нечто напоминающее партизанскую песню или, по крайней мере, ее первые такты. Это наполнило меня страхом. Я знал, что внес свою лепту в несообразность этой минуты, и мне казалось, что Габриэла Бруна вперила во мраке в меня свой недовольный взгляд.
Кто-то, должно быть, дотронулся до руки Бартока или тряхнул его за плечо, ибо напев вдруг оборвался.
– Горит? – спросила Габриэла Бруна.
Прошли долгие, долгие часы.
Шлюм подполз к самому трапу. Он не торопясь вскарабкался по деревянным ступеням и осторожно, словно рискуя попасть на мушку снайперу, толкнул дверь. В кабину баржи ворвался настоянный на тумане наружный воздух, пропитанный запахами карпов и тины, ряски, угрей, налимов, головастиков, ельцов, склизких и несъедобных рыб. Тьма была глубока. В речном порту так и не восстановилось освещение. Не было света ни в одном из зданий. Нигде ни проблеска.
Шлюм задрал голову к небу и продолжил свое продвижение наружу.
– Осторожнее, малыш, – прошептала Габриэла Бруна.
Шлюм тут же замер.
Нас было двенадцать, и мы смотрели на него с самого низа, дети и взрослые, все как один с тревогой дожидаясь, что он скажет. На фоне беззвездного неба вырисовался его расплывчатый силуэт. Худющий парнишка выпрямился наверху трапа. Он оперся на руки и расправил грудь и плечи, будто хотел изобразить какое-то животное, например выскальзывающую из расщелины ящерицу или внимающего мирозданию варана.
Он замер в неподвижности. Он выжидал.
– Ничего не видно, – сообщил он. – Всюду отключено электричество. В домах не зажигают свечей. Нигде ни проблеска. Люди пребывают во мраке.
Снова стало слышно, как он продвигается вперед.
– Нет-нет, дальше не ходи, – приказала Габриэла Бруна.
– Время от времени вспыхивают фары, но совсем ненадолго, – сказал Шлюм.
– Они их гасят, – произнес кто-то рядом со мной.
Я узнал надтреснутый, жалкий голос Джании Очоян, матери маленького Очояна.
– Они кружат, потушив фары, – выдохнула еще Джания Очоян и затем, в тот самый миг, когда, казалось, собиралась пуститься в объяснения, вдруг что-то беззвучно залепетала. Она просто не могла что-либо к этому добавить.
Я представил себе, как по проспектам и улочкам со скоростью пешехода раскатывают грузовики, и эти фонари, которые на секунду пронзают тьму и тут же слепнут. Происходило нечто омерзительное, невыносимо мерзкое, я знал об этом, но никак не мог представить себе стены, людей, солдат. Сцена в голове никак не оживала. Ритуал убийства был мне еще слишком чужд, чтобы со всей четкостью породить во мне гнусные образы.
– Ты что-нибудь слышишь? – спросила Габриэла Бруна. – Слышишь, что происходит?
Шлюм продвинулся на полметра и снова замер как статуя, по-прежнему согнувшись в три погибели и опираясь на передние конечности. Теперь он мог куда лучше, чем мы, определить со своего места, нарастает опасность или нет. В глубине жилого отсека баржи было открыто окно, и вокруг нас сквозил куда более резкий, чем мы ощущали раньше, поток воздуха, как будто над Шамианой поднялся ветер, тогда как на самом деле ни над рекой, ни над городом не было ни дуновения.
Печку давно загасили. Рядом со мной дрожала Элиана Шюст. Она прижалась ко мне посильнее.
Помимо дыхания и ударов сердец сгрудившихся рядом друг с другом взрослых, собак и детей, я слышал прежде всего трепет течения вокруг корпуса нашего судна. Даже если в каких-то двух сотнях метров начиналась территория этнических чисток и линчевания, нейтральное пространство портовых сооружений заглушало все их звуковые проявления. Сводило их к неясному гулу.
– Слышу щелчки, – сказал Шлюм. – А еще бьются стекла, высаживают окна. Не могу сказать, на каком расстоянии это происходит.
– Что за щелчки? – спросил кто-то.
– Отрывистые разрывы, – сказал Шлюм. – Может быть, пистолетные выстрелы. Это далеко.
– А может, ничего особенного и не происходит, – рискнула предположить Джания Очоян, но тут же осеклась.
И, всхлипнув, захлебнулась.
Кто-то подполз к ней и прошептал на ухо успокоительные слова. Малыш Очоян, возможно, или кто-то из женщин, или Танеев, которого она приютила за год до этого и который относился к ней как к своей матери.
– На самом деле, – заключил через минуту Шлюм, – все спокойно. Как будто город спит.
– Нет, город не спит, – сказала Габриэла Бруна. – Не спит никто.
Эта фраза оживила зловещую сторону вещей. Я вдруг осознал, что тысячи людей, уйбуров вроде нас или иных, юкапиров, ийцев, забились там в темноте в угол и ждут, мумифицированные ужасом и одиночеством, что придут их убийцы; и мне показалось, что вокруг них тысячи и тысячи соседей прислушиваются, замерев в неподвижности, примирившись со своим положением безмозглых свидетелей, дрожа единственно от страха, что их по недосмотру перепутают с жертвами, дожидаясь в свою очередь конца.
Страх разгуливал среди нас и после замечания Габриэлы Бруны обосновался у меня внизу живота, полностью парализовав. Когда мы причалили посреди города, не перекидывая сходни, чтобы перебраться на берег, и хоронясь в недрах баржи, когда взрослые призывали нас не шуметь, что бы ни произошло, на меня обрушились тревоги, которые я подавлял в себе с самого утра; но затем размеренная мрачность этой ночи сумела притупить все мои чувства. Взрослые молчали, это были в основном уйбурские женщины, взошедшие на баржу вместе со своими детьми. Их присутствие успокаивало. В первые полчаса одна из них, возможно Джания Очоян, даже раздавала нам печенье, по рукам пошел термос с теплым чаем, очерчивая вполне нормальный круг общения, словно за пределами пирса не творилось ничего особо постыдного. Но теперь, в затонах тени, наш общий испуг вновь достиг такой остроты, что ослабить его позволяло только оцепенение. Мы ничем не отличались от запертых в городе; снедаемые неуверенностью животные, лишившиеся всякого ощущения грядущего, подвешенные к шумам настоящего, в летаргии перед имени не имеющим.
С большим трудом протекла минута. Тяжелее стало дыхание. Было слышно, как пришепетывает, приоткрыв губы, старый Барток. Йойша снялся со своего места рядом со Смоки, чтобы прижаться ко мне, вжаться между мною и Элианой Шюст. Собака словно пискнула, потом поднялась и через несколько секунд вновь улеглась у ног Йойши.
Теперь Шлюм скорчился на палубе. Он еще немного продвинулся вперед. На фоне темнейших окрестностей выделялся его чуть более светлый силуэт.
– Ну что, горит? – повторила Габриэла Бруна.
– Горит, – сказал Шлюм. – Занялось. Чуть алеет.
– В каком квартале? – спросил кто-то.
– Не знаю, – сказал Шлюм. – Город словно исчез. Ни зги не видно.
Подчас, в темноте, я задавал себе вопросы. Что стало там, в омерзительной темноте, с отцом и матерью Дондога?.. Почему на барже так мало мужчин?.. На что походили в этот момент улицы, какие причудливые сцены выхватывали на долю секунды фары набитых солдатами и штатскими грузовиков, прежде чем вновь погаснуть?.. Почему первая Габриэла Бруна, бабушка Дондога, не смогла к нам присоединиться?.. Надолго ли она передала нас с Йойшей на попечение второй Габриэлы Бруны?.. Когда и при каких условиях воссоединится наша семья?.. И почему взрослые не говорят ничего напрямую ни нам, ни между собой?..
И еще: почему к нам на помощь не пришла мировая революция?
Иногда во тьме, продолжает Дондог, я закрывал глаза и слышал то, что окружающие хранили в секрете, вопли, которые они сдерживали, исполненные ужаса монологи, которые проносились у них в голове, но не добирались до уст. Я слышал нескончаемый скулеж собак, слышал, как задыхается Джания Очоян, слышал горестное шамканье Бартока над своим параличом и над кровавым абсурдом, заменившим марксистскую логику истории, слышал, как сотрясаются кости каждого, слышал, как Габриэла Бруна жалуется, что по глупости покинула лагерный мир, хотя жизнь там в конечном счете не так омерзительна и куда спокойнее, нежели здесь. Я слышал, как рычит от страха овчарка Смоки, слышал, как клацает зубами и воет от страха бойцовый пес Смерч, слышал, как Танеев перечисляет имена пропавших без вести, среди которых были его отец с матерью, слышал, как берет слово старый Барток, чтобы проклясть топтание на месте и заблуждения мировой революции, слышал, как инвалид Головко, отец Мотыля Головко, тщетно зовет жену и сына, тщетно умоляет не то судьбу, не то людей из отрядов Вершвеллен пощадить его жену и сына. Потом, по-прежнему в темноте, я открывал глаза. Никто, говорит Дондог, не разговаривал. Все вслушивались в безмолвие. Барток заглатывал воздух и вновь исторгал его с характерным присвистом столетнего старца. Рядом с погасшей печкой он перебирал в уме свои левацкие анафемы, но не произносил их вслух. Собаки не шумели, взрослые воздерживались от комментариев. Сумеречное спокойствие вполне могло показаться стороннему наблюдателю, буде такой может существовать в этом дольнем мире, безобидным. Например, мать Очояна шмыгала носом, конечно же, на манер плачущей, но никоим образом не жаловалась, и в общем-то вполне могло статься, что она просто-напросто простыла, пала жертвой пропитанных влагой сквозняков и шмыгает носом во сне.
Где-то недалеко, быть может в больничной палате или в коридоре, всеобщую дремоту разорвали автоматные очереди. Шлюм уже давно ослушался свою мать. Он спрыгнул на набережную. С тех пор не произошло ничего особенного. Выстрелы из автоматического оружия и прежде нарушали ночной покой, но не с такой отчетливостью.
– Сколько сейчас времени? – спросил кто-то.
– Подождите, – встрепенулся отец Мотыля Головко.
Отец Мотыля Головко выставил свою ущербную руку. Принялся изучать циферблат часов. Из мужчин на барже нашли убежище только старый Барток да он. Он появился, когда уже стемнело, убежденный, что отыщет здесь свою жену и сына, и, не обнаружив их среди нас, остался на борту, ибо не знал, что делать. До сих пор он не произнес ни слова, сгрудил где-то в стороне свое немощное тело, изо всех сил стараясь, чтобы о нем забыли. Но теперь, поскольку у него были часы со светящимся циферблатом, ему наконец представилась возможность принести какую-то пользу. Часы были старые, с годами волшебное свечение стрелок заметно потускнело. Отец Мотыля Головко пошевелил рукой, чтобы разобраться с едва заметными зеленоватыми следами на циферблате. Те, кто не спал, повернулись в его сторону. Подождали минуту и, не получив ответа, вновь погрузились в свои тревоги.
Спустя заметное время прошел слух, что уже час. Исходил он не от отца Мотыля Головко. Тот, в надежде воспользоваться шальным отражением пламени, чтобы разобрать, что показывают часы, пробрался поближе к трапу и продолжал разглядывать запястье, поднеся его к самым глазам, но не осмеливаясь огласить результат. Слух окреп, и кое-кто, в том числе и Габриэла Бруна, начал обсуждать вопрос, который показался мне еще более мрачным, нежели отголоски ружейной пальбы: ну хорошо, пусть час, но дня или ночи? На барже люди и в самом деле начинали верить, что дневной свет навсегда исчез с лица земли, и их убеждение было заразительным. Перешептывания все усиливались, достигнув было масштаба беседы, затем нерешительно смолкли.
И тогда убогий отец Мотыля Головко нарушил заново установившуюся тишину и провозгласил приглушенным голосом:
– Один час, без двадцати трех.
От этого объявления у нас – у Элианы Шюст, Йойши, Смоки и меня – перехватило дыхание. Защищаясь от ночной сырости, мы сбились в одну тесную массу. Мне казалось, что мой младший брат и Элиана Шюст спят, даже не просто спят, а провалились в глубокий сон, но на деле оказалось, что ничуть не бывало. Они бодрствовали. Они слушали, что говорят взрослые, и, когда взрослые представляли себе что-то ужасное, они задыхались.
Элиана Шюст вцепилась в меня. Я чувствовал, как ее крохотные пальцы шарят у меня по бедру, по спине. Она судорожно цеплялась за меня, прильнула, чтобы сказать что-то на ухо. Теплое дыхание гладило мне волосы, шею. Голос казался едва различимой струйкой.
– Что там с часом? – прошептала она мне в затылок. – Без двадцати трех минут или двадцати трех часов?








