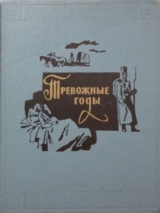
Текст книги "Тревожные годы"
Автор книги: Антон Чехов
Соавторы: Николай Лесков,Владимир Короленко,Михаил Салтыков-Щедрин,Всеволод Гаршин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 54 страниц)
– Солдат бросил будку и спас человека?
– Точно так, – отвечал Свиньин.
– А будка?
– Оставалась в это время пустою.
– Гм... Я это знал, что она оставалась пустою. Очень рад, что ее не украли.
Свиньин из этого еще более уверился, что ему уже все известно и что он, конечно, уже решил себе, в каком виде он представит об этом при утреннем докладе государю, и решения этого изменять не станет. Иначе такое событие, как оставление часовым своего поста в дворцовом карауле, без сомнения должно было бы гораздо сильнее встревожить энергического обер-полицеймейстера.
Но Кокошкин не знал ничего. Пристав, к которому явился инвалидный офицер со спасенным утопленником, не видал в этом деле никакой особенной важности. В его глазах это вовсе даже не было таким делом, чтобы ночью тревожить усталого обер-полицеймейстера, да и притом самое событие представлялось приставу довольно подозрительным, потому что инвалидный офицер был совсем сух, чего никак не могло быть, если он спасал утопленника с опасностью для собственной жизни. Пристав видел в этом офицере только честолюбца и лгуна, желающего иметь одну новую медаль на грудь, и потому, пока его дежурный писал протокол, пристав придерживал у себя офицера и старался выпытать у него истину через расспрос мелких подробностей.
Приставу тоже не было приятно, что такое происшествие случилось в его части и что утопавшего вытащил не полицейский, а дворцовый офицер.
Спокойствие же Кокошкина объяснялось просто, во-первых, страшною усталостью, которую он в это время испытывал после целодневной суеты и ночного участия при тушении двух пожаров, а во-вторых, тем, что дело, сделанное часовым Постниковым, его, г-на обер-полицеймейстера, прямо не касалось.
Впрочем, Кокошкин тотчас же сделал соответственное распоряжение.
Он послал за приставом Адмиралтейской части и приказал ему немедленно явиться вместе с инвалидным офицером и со спасенным утопленником, а Свиньина просил подождать в маленькой приемной перед кабинетом. Затем Кокошкин удалился в кабинет и, не затворяя за собою дверей, сел за стол и начал было подписывать бумаги; но сейчас же склонил голову на руки и заснул за столом в кресле.
11
Тогда еще не было ни городских телеграфов, ни телефонов, а для спешной передачи приказаний начальства скакали по всем направлениям "сорок тысяч курьеров" (*4), о которых сохранится долговечное воспоминание в комедии Гоголя.
Это, разумеется, не было так скоро, как телеграф или телефон, но зато сообщало городу значительное оживление и свидетельствовало о неусыпном бдении начальства.
Пока из Адмиралтейской части явились запыхавшийся пристав и офицер-спаситель, а также и спасенный утопленник, нервный и энергический генерал Кокошкин вздремнул и освежился. Это было заметно в выражении его лица и в проявлении его душевных способностей.
Кокошкин потребовал всех явившихся в кабинет и вместе с ними пригласил и Свиньина.
– Протокол? – односложно спросил освеженным голосом у пристава Кокошкин.
Тот молча подал ему сложенный лист бумаги и тихо прошептал:
– Должен просить дозволить мне доложить вашему превосходительству несколько слов по секрету...
– Хорошо.
Кокошкин отошел в амбразуру окна, а за ним пристав.
– Что такое?
Послышался неясный шепот пристава и ясные покрякиванья генерала...
– Гм... Да!.. Ну что ж такое?.. Это могло быть... Оли на том стоят, чтобы сухими выскакивать... Ничего больше?
– Ничего-с.
Генерал вышел из амбразуры, присел к столу и начал читать. Он читал протокол про себя, не обнаруживая ни страха, ни сомнений, и затем непосредственно обратился с громким и твердым вопросом к спасенному:
– Как ты, братец, попал в полынью против дворца?
– Виноват, – отвечал спасенный.
– То-то! Был пьян?
– Виноват, пьян не был, а был выпимши.
– Зачем в воду попал?
– Хотел перейти поближе через лед, сбился и попал в воду.
– Значит, в глазах было темно?
– Темно, кругом темно было, ваше превосходительство!
– И ты не мог рассмотреть, кто тебя вытащил?
– Виноват, ничего не рассмотрел. Вот они, кажется. – Он указал на офицера и добавил: – Я не мог рассмотреть, был испужамшись.
– То-то и есть, шляетесь, когда надо спать! Всмотрись же теперь и помни навсегда, кто твой благодетель. Благородный человек жертвовал за тебя своею жизнью!
– Век буду помнить.
– Имя ваше, господин офицер?
Офицер назвал себя по имени.
– Слышишь?
– Слушаю, ваше превосходительство.
– Ты православный?
– Православный, ваше превосходительство.
– В поминанье за здравие это имя запиши.
– Запишу, ваше превосходительство.
– Молись богу за него и ступай вон: ты больше не нужен.
Тот поклонился в ноги и выкатился, без меры довольный тем, что его отпустили.
Свиньин стоял и недоумевал, как это такой оборот все принимает милостию божиею!
12
Кокошкин обратился к инвалидному офицеру:
– Вы спасли этого человека, рискуя собственною жизнью?
– Точно так, ваше превосходительство.
– Свидетелей этого происшествия не было, да по позднему времени и не могло быть?
– Да, ваше превосходительство, было темно, и на набережной никого не было, кроме часовых.
– О часовых незачем поминать: часовой охраняет свой пост в не должен отвлекаться ничем посторонним. Я верю тому, что написано в протоколе. Ведь это с ваших слов?
Слова эти Кокошкин произнес с особенным ударением, точно как будто пригрозил или прикрикнул.
Но офицер не сробел, а вылупив глаза и выпучив грудь, ответил:
– С моих слов и совершенно верно, ваше превосходительство.
– Ваш поступок достоин награды.
Тот начал благодарно кланяться.
– Не за что благодарить, – продолжал Кокошкин. – Я доложу о вашем самоотверженном поступке государю императору, и грудь ваша, может быть, сегодня же будет украшена медалью. А теперь можете идти домой, напейтесь теплого и никуда не выходите, потому что, может быть, вы понадобитесь.
Инвалидный офицер совсем засиял, откланялся и вышел.
Кокошкин поглядел ему вслед и проговорил:
– Возможная вещь, что государь пожелает сам его видеть.
– Слушаю-с, – отвечал понятливо пристав.
– Вы мне больше не нужны.
Пристав вышел и, затворив за собою дверь, тотчас, по набожной привычке, перекрестился.
Инвалидный офицер ожидал пристава внизу, и они отправились вместе в гораздо более теплых отношениях, чем когда сюда вступали.
В кабинете у обер-полицеймейстера остался один Свиньин, на которого Кокошкин сначала посмотрел долгим, пристальным взглядом и потом спросил:
– Вы не были у великого князя?
В то время, когда упоминали о великом князе, то все знали, что это относится к великому князю Михаилу Павловичу.
– Я прямо явился к вам, – отвечал Свиньин.
– Кто караульный офицер?
– Капитан Миллер.
Кокошкин опять окинул Свиньина взглядом и потом сказал:
– Вы мне, кажется, что-то прежде иначе говорили.
Свиньин даже не понял, к чему это относится, и промолчал, а Кокошкин добавил:
– Ну все равно: спокойно почивайте.
Аудиенция кончилась.
13
В час пополудни инвалидный офицер действительно был опять потребован к Кокошкину, который очень ласково объявил ему, что государь весьма доволен, что среди офицеров инвалидной команды его дворца есть такие бдительные и самоотверженные люди, и жалует ему медаль "за спасение погибавших". При сем Кокошкин собственноручно вручил герою медаль, и тот пошел щеголять ею. Дело, стало быть, можно было считать совсем сделанным, но подполковник Свиньин чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал себя призванным поставить point sur les i [точку над i (франц.)].
Он был так встревожен, что три дня проболел, а на четвертый встал, съездил в Петровский домик, отслужил благодарственный молебен перед иконою Спасителя и, возвратись домой с успокоенною душой, послал попросить к себе капитана Миллера.
– Ну, слава богу, Николай Иванович, – сказал он Миллеру, – теперь гроза, над нами тяготевшая, совсем прошла, и наше несчастное дело с часовым совершенно уладилось. Теперь, кажется, мы можем вздохнуть спокойно. Всем этим мы, без сомнения, обязаны сначала милосердию божию, а потом генералу Кокошкину. Пусть о нем говорят, что он и недобрый и бессердечный, но я исполнен благодарности к его великодушию и почтения к его находчивости и такту. Он удивительно мастерски воспользовался хвастовством этого инвалидного пройдохи, которого, по правде, стоило бы за его наглость не медалью награждать, а на обе корки выдрать на конюшне, но ничего иного не оставалось: им нужно было воспользоваться для спасения многих, и Кокошкин повернул все дело так умно, что никому не вышло ни малейшей неприятности, – напротив, все очень рады и довольны. Между нами сказать, мне передано через достоверное лицо, что и сам Кокошкин мною _очень доволен_. Ему было приятно, что я не поехал никуда, а прямо явился к нему и не спорил с этим проходимцем, который получил медаль. Словом, никто не пострадал, и все сделано с таким тактом, что и вперед опасаться нечего, но маленький недочет есть за нами. Мы тоже должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закончить дело с своей стороны так, чтоб оградить себя на всякий случай впоследствии. Есть еще одно лицо, которого положение не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Он до сих пор в карцере под арестом, и его, без сомнения, томит ожидание, что с ним будет. Надо прекратить и его мучительное томление.
– Да, пора! – подсказал обрадованный Миллер.
– Ну, конечно, и вам это всех лучше исполнить: отправьтесь, пожалуйста, сейчас же в казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Постникова из-под ареста и накажите его перед строем двумя стами розог.
14
Миллер изумился и сделал попытку склонить Свиньина к тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить рядового Постникова, который и без того уже много перестрадал, ожидая в карцере решения того, что ему будет; но Свиньин вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать.
– Нет, – перебил он, – это оставьте: я вам только что говорил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность! Оставьте это!
Свиньин переменил тон на более сухой и официальный и добавил с твердостью:
– А как в этом деле вы сами тоже не совсем правы и даже очень виноваты, потому что у вас есть не идущая военному человеку мягкость, и этот недостаток вашего характера отражается на субординации в ваших подчиненных, то я приказываю вам лично присутствовать при экзекуции и настоять, чтобы сечение было произведено серьезно... как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами секли молодые солдаты из новоприбывших из армии, потому что наши старики все заражены на этот счет гвардейским либерализмом: они товарища не секут как должно, а только блох у него за спиною пугают. Я заеду сам и сам посмотрю, как виноватый будет сделан.
Уклонения от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места, и мягкосердечный Н. И. Миллер должен был в точности исполнить приказ, полученный им от своего батальонного командира.
Рота была выстроена на дворе Измайловских казарм, розги принесены из запаса в довольном количестве, и выведенный из карцера рядовой Постников "был сделан" при усердном содействии новоприбывших из армии молодых товарищей. Эти неиспорченные гвардейским либерализмом люди в совершенстве выставили на нем все point sur les i, в полной мере определенные ему его батальонным командиром. Затем наказанный Постников был поднят и непосредственно отсюда на той же шинели, на которой его секли, перенесен в полковой лазарет.
15
Батальонный командир Свиньин, по получении донесения об исполнении экзекуции, тотчас же сам отечески навестил Постникова в лазарете и, к удовольствию своему, самым наглядным образом убедился, что приказание его исполнено в совершенстве. Сердобольный и нервный Постников был "сделан как следует". Свиньин остался доволен и приказал дать от себя наказанному Постникову фунт сахару и четверть фунта чаю, чтоб он мог услаждаться, пока будет на поправке. Постников, лежа на койке, слышал это распоряжение о чае и отвечал:
– Много доволен, ваше высокородие, благодарю за отеческую милость.
И он в самом деле был "доволен", потому что, сидя три дня в карцере, он ожидал гораздо худшего. Двести розог, по тогдашнему сильному времени, очень мало значили в сравнении с теми наказаниями, какие люди переносили по приговорам военного суда; а такое именно наказание и досталось бы Постникову, если бы, к счастию его, не произошло всех тех смелых и тактических эволюции, о которых выше рассказано.
Но число всех довольных рассказанным происшествием этим не ограничилось.
16
Под сурдинкою подвиг рядового Постникова располозся по разным кружкам столицы, которая в то время печатной безголосицы жила в атмосфере бесконечных сплетен. В устных передачах имя настоящего героя – солдата Постникова – утратилось, но зато сама эпопея раздулась и приняла очень интересный, романтический характер.
Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской крепости плыл какой-то необыкновенный пловец, в которого один из стоявших у дворца часовых выстрелил и пловца ранил, а проходивший инвалидный офицер бросился в воду и спас его, за что и получили: один – должную награду, а другой – заслуженное наказание. Нелепый слух этот дошел и до подворья, где в ту пору жил осторожный и неравнодушный к "светским событиям" владыко, благосклонно благоволивший к набожному московскому семейству Свиньиных.
Проницательному владыке казалось неясным сказание о выстреле. Что же это за ночной пловец? Если он был беглый узник, то за что же наказан часовой, который исполнил свой долг, выстрелив в него, когда тот плыл через Неву из крепости? Если же это не узник, а иной загадочный человек, которого надо было спасать из волн Невы, то почему о нем мог знать часовой? И тогда опять не может быть, чтоб это было так, как о том в мире суесловят. В мире многое берут крайне легкомысленно и суесловят, но живущие в обителях и на подворьях ко всему относятся гораздо серьезнее и знают о светских делах самое настоящее.
17
Однажды, когда Свиньин случился у владыки, чтобы принять от него благословение, высокочтимый хозяин заговорил с ним "кстати о выстреле". Свиньин рассказал всю правду, в которой, как мы знаем, не было ничего похожего на то, о чем повествовали "кстати о выстреле".
Владыко выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка шевеля своими беленькими четками и не сводя своих глаз с рассказчика. Когда же Свиньин кончил, владыко тихо журчащею речью произнес:
– Посему надлежит заключить, что в сем деле не все и не везде излагалось согласно с полною истиной?
Свиньин замялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Кокошкин.
Владыко в молчании перепустил несколько раз четки сквозь свои восковые персты и потом молвил:
– Должно различать, что есть ложь и что неполная истина.
Опять четки, опять молчание, и наконец тихоструйная речь:
– Неполная истина не есть ложь. Но о сем наименьше.
– Это действительно так, – заговорил поощренный Свиньин. – Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен был подвергнуть наказанию этого солдата, который хотя нарушил свой долг...
Четки и тихоструйный перебив:
– Долг службы никогда не должен быть нарушен.
– Да, но это им было сделано по великодушию, по состраданию, и притом с такой борьбой и с опасностью: он понимал, что, спасая жизнь другому человеку, он губит самого себя... Это высокое, святое чувство!
– Святое известно богу, наказание же на теле простолюдину не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу Писания. Лозу гораздо легче перенесть на грубом теле, чем тонкое страдание в духе. В сем справедливость от вас нимало не пострадала.
– Но он лишен и награды за спасение погибавших.
– Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто мог спасти и не спас – подлежит каре законов, а кто спас, тот исполнил свой долг.
Пауза, четки и тихоструй:
– Воину претерпеть за свой подвиг унижение и раны может быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Но что во всем сем наибольшее – это то, чтобы хранить о всем деле сем осторожность и отнюдь нигде не упоминать о том, кому по какому-нибудь случаю о сем было сказывано.
Очевидно, и владыко был доволен.
18
Если бы я имел дерзновение счастливых избранников неба, которым, по великой их вере, дано проницать тайны божия смотрения, то я, может быть, дерзнул бы дозволить себе предположение, что, вероятно, и сам бог был доволен поведением созданной им смирной души Постникова. Но вера моя мала; она не дает уму моему силы зреть столь высокого: я держусь земного и перстного. Я думаю о тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него где бы то ни было. Эти прямые и надежные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви и не менее святым терпением смиренного героя моего точного и безыскусственного рассказа.
1887
Всеволод Михайлович Гаршин
Встреча
На десятки верст протянулась широкая и дрожащая серебряная полоса лунного света; остальное море было черно; до стоявшего на высоте доходил правильный, глухой шум раскатывавшихся по песчаному берегу волн; еще более черные, чем самое море, силуэты судов покачивались на рейде; один огромный пароход ("вероятно, английский", – подумал Василий Петрович) поместился в светлой полосе луны и шипел своими парами, выпуская их клочковатой, тающей в воздухе струей; с моря несло сырым и соленым воздухом; Василий Петрович, до сих пор не видавший ничего подобного, с удовольствием смотрел на море, лунный свет, пароходы, корабли и радостно, в первый раз в жизни, вдыхал морской воздух. Он долго наслаждался новыми для него ощущениями, повернувшись спиной к городу, в который приехал только сегодня и в котором должен был жить многие и многие годы. За ним пестрая толпа публики гуляла по бульвару, слышалась то русская, то нерусская речь, то чинные и тихие голоса местных почтенных особ, то щебетанье барышень, громкие и веселые голоса взрослых гимназистов, ходивших кучками около двух или трех из них. Взрыв хохота в одной из таких групп заставил Василия Петровича обернуться. Веселая гурьба шла мимо; один из юношей говорил что-то молоденькой гимназистке; товарищи шумели и перебивали его горячую и, по-видимому, оправдательную речь.
– Не верьте, Нина Петровна! Все врет! Выдумывает!
– Да право же, Нина Петровна, я нисколько не виноват!
– Если вы, Шевырев, еще когда-нибудь вздумаете меня обманывать... – принужденно-чинным молодым голоском заговорила девушка.
Конца Василий Петрович не дослышал, потому что гурьба прошла мимо. Через полминуты из темноты вновь послышался взрыв смеха.
"Вот она, моя будущая нива, на которой я, как скромный пахарь, буду работать", – подумал Василий Петрович, во-первых, потому, что он был назначен учителем в местную гимназию, а во-вторых, потому, что любил фигуральную форму мысли, даже когда не высказывал ее вслух. "Да, придется работать на этом скромном поприще, – думал он, вновь садясь на скамью лицом к морю. – Где мечты о профессуре, о публицистике, о громком имени? Не хватило пороху, брат Василий Петрович, на все эти затеи; попробуй-ка здесь поработать!"
И красивые и приятные мысли зашевелились в голове нового учителя гимназии. Он думал о том, как он будет с первых классов гимназии угадывать "искру божию" в мальчиках; как будет поддерживать натуры, "стремящиеся сбросить с себя иго тьмы"; как Под его надзором будут развиваться молодые, свежие силы, "чуждые житейской грязи"; как, наконец, из его учеников со временем могут выйти замечательные люди... Даже такие картины рисовались в его воображении: сидит он, Василий Петрович, уже старый, седой учитель, у себя, в своей скромной квартире, и посещают его бывшие его ученики, и один из них – профессор такого-то университета, известный "у нас и в Европе", другой – писатель, знаменитый романист, третий – общественный деятель, тоже известный. И все они относятся к нему с уважением. "Это ваши добрые семена, запавшие в мою душу, когда я был мальчиком, сделали из меня человека, уважаемый Василий Петрович", – говорит общественный деятель и с чувством жмет руку своему старому учителю...
Впрочем, Василий Петрович недолго занимался такими возвышенными предметами, скоро мысль его перешла на вещи, непосредственно касавшиеся его настоящего положения. Он вынул из кармана новый бумажник и, пересчитав свои деньги, начал размышлять о том, сколько у него останется за покрытием всех необходимых расходов. "Как жаль, что я так необдуманно тратил деньги дорогою, – подумал он. – Квартира... ну, положим, рублей двадцать в месяц, стол, белье, чай, табак... Тысячу рублей в полгода, во всяком случае, сберегу. Наверно, здесь можно будет достать уроки по хорошей цене, этак рубля по четыре, по пяти..." Чувство довольства охватило его, и ему захотелось полезть в карман, где лежали два рекомендательные письма на имя местных тузов, и в двадцатый раз перечесть их адресы. Он вынул письма, бережно развернул бумагу, в которой они были завернуты, но прочесть адресы ему не удалось, потому что лунный свет не был достаточно силен, чтобы доставить Василию Петровичу это удовольствие. Вместе с письмами была завернута фотографическая карточка. Василий Петрович повернул ее прямо, к месяцу, и старался рассмотреть знакомые черты. "О моя Лиза!" – проговорил он почти вслух и вздохнул не без приятного чувства. Лиза была его невеста, оставшаяся в Петербурге и ожидавшая, пока Василий Петрович не скопит тысячи рублей, которую молодая чета считала необходимою для первоначального обзаведения.
Вздохнув, он спрятал в левый боковой карман карточку и письма и принялся мечтать о будущей семейной жизни. И эти мечты показались ему еще приятнее, чем даже мечты об общественном деятеле, который придет к нему благодарить за посеянные в его сердце добрые семена.
Море шумело далеко внизу, ветер становился свежее. Английский пароход вышел из полосы лунного света, и она блестела, сплошная, и переливалась тысячами матово-блестящих всплесков, уходя в бесконечную морскую даль и становясь все ярче и ярче. Не хотелось встать со скамьи, оторваться от этой картины и идти в тесный номер гостиницы, в котором остановился Василий Петрович. Однако было уже поздно; он встал и пошел вдоль по бульвару.
Господин, в легком костюме из шелковой сырцовой материи и в соломенной шляпе, с навернутым на тулью кисейным полотенцем (летний костюм местных щеголей), встал со скамейки, мимо которой проходил Василий Петрович, и сказал:
– Позвольте закурить.
– Сделайте одолжение, – ответил Василий Петрович. Красный отблеск озарил знакомое ему лицо.
– Николай, друг мой! Ты ли это?
– Василий Петрович?
– Он самый... Ах, как я рад! Вот не думал, не гадал, – говорил Василий Петрович, заключая друга в объятия и троекратно лобзая его. – Какими судьбами?
– Очень просто, на службе. А ты как?
– Я учителем гимназии сюда назначен. Только что приехал.
– Где же ты остановился? Если в гостинице, едем, пожалуйста, ко мне. Я очень рад видеть тебя. У тебя ведь нет здесь знакомых? Поедем ко мне, поужинаем, поболтаем, вспомним старину.
– Поедем, поедем, – согласился Василий Петрович. – Я очень, очень рад! Приехал сюда, как в пустыню, – и вдруг такая радостная встреча. Извозчик! – закричал он.
– Не нужно, не кричи. Сергей, давай! – громко и спокойно произнес друг Василия Петровича.
К тротуару подкатила щегольская коляска; хозяин вскочил в нее. Василий Петрович стоял на тротуаре и в недоумении смотрел на экипаж, вороных коней и толстого кучера.
– Кудряшов, эти лошади – твои?
– Мои, мои! Что, не ожидал?
– Удивительно... Ты ли это?
– Кто же другой, как не я? Ну, полезай в коляску, еще успеем поговорить.
Василий Петрович влез в коляску, уселся рядом с Кудряшовым, и коляска покатилась, дребезжа и подскакивая по мостовой. Василий Петрович сидел на мягких подушках и, покачиваясь, улыбался. "Что за притча! – думал он. – Давно ли Кудряшов был беднейшим студентом, а теперь – коляска!" Кудряшов, положив вытянутые ноги на переднюю скамейку, молчал и курил сигару. Через пять минут экипаж остановился.
– Ну, братец, выходи. Покажу тебе мою скромную хижину, – сказал Кудряшов, сойдя с подножки и помогая Василию Петровичу вылезть.
Прежде чем войти в скромную хижину, гость окинул ее взглядом. Луна была за нею и не освещала ее; поэтому он мог заметить только, что хижина была одноэтажная, каменная, в десять или двенадцать больших окон. Зонтик на колонках с завитками, кое-где позолоченными, висел над дверью из тяжелого дуба с зеркальными стеклами, бронзовой ручкой в виде птичьей лапы, держащей хрустальный многогранник, и блестящей медной доской с фамилией хозяина.
– Однако хижина у тебя, Кудряшов! Это не хижина, а, так сказать, палаццо, – сказал Василий Петрович, когда они вошли в переднюю с дубовой мебелью и зиявшим черною пастью камином. – Неужели собственная?
– Нет, брат, до этого еще не дошло. Нанимаю. Недорого, полторы тысячи.
– Полторы! – протянул Василий Петрович.
– Выгоднее платить полторы тысячи, чем затратить капитал, который может дать гораздо больший процент, если не обращен в недвижимость. Да и денег много нужно: ведь уж если строить, так не этакую дрянь.
– Дрянь! – воскликнул в изумлении Василий Петрович.
– Конечно, дом неважный. Ну, пойдем, пойдем скорее...
Василий Петрович успел уже снять пальто и направился за хозяином. Обстановка квартиры Кудряшова дала новую пищу его удивлению. Целый ряд высоких комнат с паркетными полами, оклеенных дорогими, тисненными золотом, обоями; столовая "под дуб" с развешанными по стенам плохими моделями дичи, с огромным резным буфетом, с большим круглым столом, на который лился целый поток света из висячей бронзовой лампы с молочным абажуром; зал с роялем, множеством разной мебели из гнутого бука, диванчиков, скамеек, табуреток, стульев, с дорогими литографиями и скверными олеографиями в раззолоченных рамах; гостиная, как водится, с шелковой мебелью и кучей ненужных вещей. Казалось, хозяин квартиры вдруг разбогател, выиграл двести тысяч, что ли, и на скорую руку устроил себе квартиру на широкую ногу. Все было куплено сразу, куплено не потому, что было нужно, а потому, что в кармане зашевелились деньги, нашедшие себе выход для покупки рояля, на котором, насколько знал Василий Петрович, Кудряшов мог играть только одним пальцем; скверной старой картины, одной из десятков тысяч, приписываемых второстепенному фламандскому мастеру, на которую, наверно, никто не обращал внимания; Шахматов китайской работы, в которые нельзя было играть, так они были тонки и воздушны, но в головках у которых было выточено по три шарика, заключенных один в другой, и множества других ненужных вещей.
Друзья вошли в кабинет. Здесь было уютнее. Большой письменный стол, заставленный разною бронзового и фарфорового мелочью, заваленный бумагами, чертежными и рисовальными принадлежностями, занимал середину комнаты. По стенам висели огромные раскрашенные чертежи и географические карты, а под ними стояли два низеньких турецких дивана с шелковыми мутаками. Кудряшов, обняв Василия Петровича за талию, подвел его прямо к дивану и усадил на мягких тюфяках.
– Ну, очень рад, очень рад встретить старого товарища, – сказал он.
– Я тоже... Знаешь ли, приехал, как в пустыню, и вдруг такая встреча! Знаешь ли, Николай Константиныч, при виде тебя так много зашевелилось в душе, так много воскресло в памяти воспоминаний...
– О чем это?
– Как о чем? О студенчестве, о времени, когда жилось так хорошо, если не в материальном, то в нравственном отношении. Помнишь...
– Что помнить-то? Как мы с тобою собачью колбасу жрали? Будет, брат, надоело... Сигару хочешь? Regalia Imperialia, или как там ее; знаю только, что полтинник штука.
Василий Петрович взял из ящика предлагаемую драгоценность, вынул из кармана ножичек, обрезал кончик сигары, закурил ее и сказал:
– Николай Константиныч, я решительно как во сне. Каких-нибудь несколько лет – и у тебя такое место.
– Что место! Место, брат, плюнь да отойди.
– Как же это? Да ты сколько получаешь?
– Каких? Жалованья?
– Ну да, содержания.
– Жалованья получаю я, инженер, губернский секретарь Кудряшов второй, – тысячу шестьсот рублей в год.
У Василия Петровича вытянулось лицо.
– Как же это? Откуда это все?
– Эх, брат, простота ты! Откуда? Из воды и земли, из моря и суши. А главное, вот откуда.
И он ткнул себя указательным пальцем в лоб.
– Видишь вон эти картинки, что по стенам висят?
– Вижу, – ответил Василий Петрович: – что же дальше?
– Знаешь ли, что это?
– Нет, не знаю.
Василий Петрович встал с дивана и подошел к стене. Синяя, красная, бурая и черная краски ничего не говорили его уму, равно как и какие-то таинственные цифры около точечных линий, сделанные красными чернилами.
– Что это такое? Чертежи?
– Чертежи-то чертежи, но чего?
– Право, друг мой, не знаю.
– Чертежи эти изображают, милейший Василий Петрович, будущий мол. Знаешь, что такое мол?
– Ну, конечно. Ведь я все-таки учитель русского языка. Мол – это такая... как бы сказать... ну, плотина, что ли...
– Именно плотина. Плотина, служащая для образования искусственной гавани. На этих чертежах изображен мол, который теперь строится. Ты видел море сверху?
– Как же, конечно! Необыкновенная картина! Но построек я не заметил.
– Мудрено и заметить, – сказал Кудряшов со смехом. – Этот мол почти весь не в море, Василий Петрович, а здесь, на суше.
– Где же это?
– Да вот у меня и у прочих строителей: у Кноблоха, Пуйциковского и у прочих. Это – между нами, конечно: тебе я говорю это как товарищу. Что ты так уставился на меня? Дело самое обыкновенное.
– Послушай, это, наконец, ужасно! Неужели ты говоришь правду? Неужели ты не брезгаешь нечестными средствами для достижения этого комфорта? Неужели все прошлое служило только для того, чтобы довести тебя до... до... И ты так спокойно говоришь об этом...
– Стой, стой, Василий Петрович! Пожалуйста, без сильных выражений. Ты говоришь: "нечестные средства"? Ты мне скажи сперва, что значит честно и что значит нечестно. Сам я не знаю; быть может, забыл, а думаю, что и не помнил; да сдается мне, и ты, собственно говоря, не помнишь, а так только напяливаешь на себя какой-то мундир. Да и вообще ты это оставь; прежде всего, это невежливо. Уважай свободу суждения. Ты говоришь – нечестно; говори, пожалуй, но не брани меня: ведь я не ругаю тебя за то, что ты не одного со мною мнения. Все дело, брат, во взгляде, в точке зрения, а так как их много, точек этих, то плюнем мы на это дело и пойдем в столовую водку пить и о приятных предметах разговаривать.
– Ах, Николай, Николай, больно мне смотреть на тебя.
– Это ты можешь; можешь душою болеть, сколько тебе угодно. Пусть будет больно; пройдет! Приглядишься, присмотришься, сам скажешь: "какая я, однако, телятина"; так и скажешь, помяни мое слово. Пойдем-ка, выпьем по рюмочке и забудем о заблудших инженерах; на то и мозги, дружище, чтобы заблуждаться... Ведь ты, учитель мой любезный, сколько будешь получать, а?








