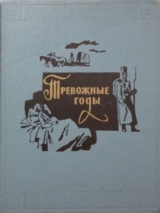
Текст книги "Тревожные годы"
Автор книги: Антон Чехов
Соавторы: Николай Лесков,Владимир Короленко,Михаил Салтыков-Щедрин,Всеволод Гаршин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 54 страниц)
– Следовательно, – продолжал между тем Коронат, – если вы желаете мне быть полезным, то этого можно достигнуть следующим образом: вы съездите в Березники и убедите мать, чтоб она не глупила. Я желаю, чтоб вы меня поняли, почтеннейший дядюшка, я знаю, что вам мое предложение не может нравиться, но так как тут дело идет о том, чтоб вырвать человека из омута и дать ему возможность остаться честным, то полагаю, что можно и побеспокоить себя. Вы скажите матери, что я не больше пяти лет буду ей в тягость и что, по выходе из академии, не только не обращусь к ней за помощью, но, пожалуй, даже возвращу все ее траты на меня.
Я разинул было рот, чтоб вставить и мое слово в этот односторонний разговор, но он не дал мне.
– Вы поймите мое положение, – сказал он, – я и мать – мы смотрим в разные стороны; впрочем, об ней даже нельзя сказать, смотрит ли она куда-нибудь. А между тем все мое будущее от нее зависит. Ничего я покуда для себя не могу. Не могу, не могу, не могу... От одной этой мысли можно голову себе раздробить. Только нет, я своей головы не раздроблю... во всяком случае! Прощайте. Надеюсь, что я вас не стеснил.
Высказавши это, он встал, пожал мою руку и вышел из комнаты прежде, нежели я мог очнуться от изумления и что-нибудь возразить.
Не знаю, как это случилось, но через неделю я был уже в дороге, а еще через два дня – в том самом Чемезове, с которым я уже столько раз знакомил читателя.
Я остановился у Лукьяныча, который жил теперь в своем доме, на краю села, при самом тракте, на собственном участке земли, выговоренном при окончательной разделке с крестьянами. До сих пор я знал Лукьяныча исключительно как слугу. Приезжая в Чемезово лишь изредка и притом на самое короткое время, я останавливался в старом господском доме, куда являлся ко мне и Лукьяныч. Откуда он являлся, какое было его внеслужебное положение, мог ли он обладать какою-либо иною физиономией, кроме той, которую носил в качестве старосты, радел ли он где-нибудь самостоятельно, за свой счет, в своемуглу, за своим горшком щей, под своими образами, или же, строго придерживаясь идеала «слуги», только о том и сохнул, как бы барское добро соблюсти, – мне как-то никогда не приходило в голову поинтересоваться этим. Я знал смутно, что хотя он, в моем присутствии, ютился где-то в подвальном этаже барского дома, но что у него все-таки есть на селе дом, жена и семья; что два сына его постоянно живут в Москве по фруктовой части и что при нем находятся только внучата да бабы, жены сыновей, при помощи которых и справляется его хозяйство. Теперь я увидел его полным хозяином и самостоятельным устроителем собственного муравейника, каждый член которого, по мере сил, трудился на пользу общую. Он купил у крестьян на снос всю барскую стройку, половину продал, а из другой выбрал материал покрепче и выстроил себе просторную избу. В одной половине жил сам с семьей, а в другую пускал проезжих извозчиков – благо тракт был довольно оживленный.
Постарел он за эти восемь лет достаточно, но все еще был крепок, вполне сохранил зрение и память и только на ноги жаловался, что к погоде мозжат.
– Это я их, должно быть, в те поры простудил, как в первый холерный год рекрутов в губернию сдавать ездил, – рассказывал он. – Схватили их тогда наускори, сейчас же в кандалы нарядили – и айда в дорогу! Я было за сапожишками домой побежал, а маменька ваша, царство небесное, увидела в окошко да и поманила: это, мол, что еще за щеголь выискался – и в валенках будешь хорош! Ан тут, как на грех, оттепель да слякоть пошла – ну, и схватил, должно полагать.
Принял он меня добродушно, почти с радостью, но когда показывал свой дом, то как будто сконфузился. Вероятно, думал: увидит барин, какую Лукьяныч махину соорудил, скажет: "Эге! стало быть, хорошо старостой-то служить!" Представил мне всю семью, от старшего сына, которого незадолго перед тем из Москвы выписал, до мелконького-мелконького внучка Фомушки, ползавшего по полу на карачках. Полюбопытствовал я на старое пепелище сходить – сводил и туда. На месте господского дома стояли бугры и глубокие ямы, наполненные осколками кирпича и штукатурки; поверх мусора густою стеной разрослась крапива, а по местам пробивались молодые березки. Но старого сада докуда еще не тронули; по-прежнему был он полон прохлады и сумерек; по-прежнему старые дуплистые липы и березы задумчиво помавали в вышине всклокоченными вершинами; по-прежнему волною неслись отовсюду запахи и прозрачною, душистою массою стояли в воздухе.
– Ишь парки-то! – молвил Лукьяныч, когда я, охваченный волнами прошлого, невольно остановился посреди одной из аллей. – Дерунов мужичкам тысячу рублей сулил, чтоб на дрова срубить, однако мужички согласия не дали. Разве что после будет, а покуда у нас здесь девки по воскресеньям хороводы водят... гулянье! Так и в приговоре написали.
Поговоривши о делах, потревоживши старину, спросил я Лукьяныча и о Промптовых; но, к величайшей неожиданности, вести были очень неутешительные.
– Совсем нынче Марья Петровна бога забыла, – сказал мне Лукьяныч, – прежде хоть землей торговала, все не так было зазорно, а нынче уж кабаками торговать начала. Восемь кабаков на округе под чужими именами держит; а сколько она через это крестьянам обиды делает – кажется, никакими слезами ей того не замолить!
– Да ведь крестьяне – не маленькие, голубчик. Неужто ж стоит только кабак поставить, чтобы вся деревня так и разорилась дотла! Не ходи в кабак! не пей!
– Это что и говорить! чего лучше, коли совсем не пить! только ведь мужику время провести хочется. Книжек мы не читаем, местов таких, где бы без вина посидеть можно, у нас нет, – оттого и идут в кабак.
А попал туда раз – и в другой придешь. Дома-то у мужика стены голые, у другого и печка-то к вечеру выстыла, а в кабак он придет – там и светло, и тепло, и людно, и хозяин ласковый – таково весело косушечками постукивает. Ну, и выходит, что хоть мы и не маленькие, а в нашем сословии одно что-нибудь: либо в кабак иди, либо, ежели себя соблюсти хочешь, запрись дома да и сиди в четырех стенах, словно чумной.
– Помнится, старостой-то ты не так говорил?
– Начальником был, усердие имел – ну, и говорил другое. Оброки сбирал: к одному придешь – денег нет, к другому придешь – хоть шаром на дворе покати! А барин с теплых вод пишет: "Вынь да положь!" Ходишь-ходишь – и скажешь грехом: "Ах, волк вас задави! своего барина, мерзавцы, на кабак променяли!" Ну, а теперь сам мужиком сделался.
– Да ведь ты сам-то не пьешь?
– Отроду не пивал. Так ведь я не то чтобы за грех почитал, а настращан уж очень: мужик, мол, ты, а коли мужик пить начал – так тут ему и капут. Ну, и боишься. А отчего же в других сословиях бывает, что и пьют, а себя все-таки помнят? И Степан у меня покуда в кабак никогда ноги не ставил, только вот что я вам скажу: выписал я его из Москвы, а теперь вижу, что ему скучненько у нас. День-то еще нешто, словно бы и дело делаешь: в анбар заглянешь, за ворота выйдешь, на дорогу поглядишь, а вечер наступит – и пошел сон долить. Ты зевнул, за тобой другой, третий зевнул – смотришь, ан и вся семья зазевала.
– А как Машенька с новым мужем живет? согласно?
– Да не слыхать н'ишто. Видится, как будто она в доме-то головой. Он все председателем в управе состоит, больше в городе живет, а она здесь распоряжается. Нынче, впрочем, у них не очень здорово. Несчастья пошли. Сначала-то сын старшенький изобидел...
– Как так?
– Долгов, слышь, наделал. Какой-то мадаме две тысячи задолжал да фруктовщику тысячу. Уж приятель какой-то покойного Саввы Силыча из Петербурга написал: скорее деньги присылайте, не то из заведения выключат. Марья-то Петровна три дня словно безумная ходила, все шептала: "Три тысячи! три тысячи! три тысячи!" Она трех-то тысяч здесь в год не проживет, а он, поди, в одну минуту эти три тысячи матери в шею наколотил!
– Чем же они решили ?
– Было тут всего. И молебны служили, и к покойному Савве Силычу на могилку ездили. Филофей-то Павлыч все просил, чтоб она его прокляла, однако она не согласилась: любимчик! Думала-думала и кончила тем, что у Дерунова выкупное свидетельство разменяла, да и выслала денежки на уплату мадаме.
– Ну, а еще что у них случилось?
– А потом, вскоре, дочка с судебным следователем сбежала – тоже любимочка была. И тут дым коромыслом у них пошел; хотела было Марья Петровна и к губернатору-то на суд ехать и прошение подавать, да ночью ей, слышь, видение было: Савва Силыч, сказывают, явился, простить приказал. Ну, простила, теперь друг к дружке в гости ездят.
– Так что теперь Машенька одна с мужем живет?
– Одна, и муж-то почти никогда дома не бывает. Еще больше в кабаки ударилась: усчитывает да усчитывает своих поверенных. Непонятлива уж очень: то копейки не найдет, то целого рубля не видит. Из-за самых пустяков по целым часам человека тиранит!
На другой день, утром рано, я отправился в Березники. Из полученных сведений я не мог вывести никакого заключения относительно будущности, ожидающей предпринятое мною дело, и потому старался припомнить себе нравственный образ кузины Машеньки. Но ничего ясного, отчетливого составить себе не мог. Что-то недоделанное, обрывочное, в высшей степени противоречивое мелькало у меня перед глазами. Женщина с ребяческими мыслями в голове и с пошло-старческими словами на языке; женщина, пораженная недугом институтской мечтательности и вместе с тем по уши потонувшая в мелочах самой скаредной обыденной жизни; женщина, снедаемая неутолимою жаждой приобретения и, в то же время, считающая не иначе, как по пальцам; женщина, у которой с первым ударом колокола к "достойной" выступают на глазах слезки и кончик носа неизменно краснеет и которая, во время проскомидии, считает вполне дозволенным думать: "А что, кабы у крестьян пустошь Клинцы перебить, да потом им же перепродать?.." Зачем? ну, зачем я приехал?!
Признаюсь откровенно: давно я не чувствовал себя так неприятно, как в ту минуту, когда Березники, залитые в лучах июльского солнца, открылись перед моими глазами.
* * *
Березники смотрели так же солидно и запасливо, как и в последнее мое посещение. Но ни около служб, ни около дома никого не было видно: по случаю рабочей поры всякий был около своего дела. На крыльце меня встретила лохматая и босая девчонка в затрапезном платье (Машенька особенно старалась сохранить за своею усадьбой характер крепостного права и потому держала на своих хлебах почти весь женский штат прежней барской прислуги) и торопливо объявила, что Филофей Павлыч в город уехали, а Марья Петровна в поле ушли. Впрочем, она тут же опрометью бросилась через двор, вероятно, за барыней, так что я уже собственною властью вошел сначала в переднюю, а потом и в комнаты. В зале было жарко и душно, как на полке в бане; на полу, на разостланном холсте, сушился розовый лист и липовый цвет; на окнах, на самом солнечном припеке, стояли бутылки, до горлышка набитые ягодами и налитые какою-то жидкостью; мухи мириадами кружились в лучах солнца и как-то неистово гудели около потолка; где-то в окне бился слепень; вдали, в перспективе, виднелась остановившаяся кошка с птицей в зубах. В гостиной было прохладнее, благодаря отворенной двери на балкон, защищенный навесом. Тут я и остался, в ожидании хозяйки.
Минуты ожидания длились довольно томительно. Сначала где-то вдали хлопнула дверь – и все смолкло, потом кто-то стремглав пробежал по коридору – и опять воцарилось безмолвие минут на десять. Наконец, вдруг все двери точно сорвались с петель, словно волна какая-то шла; началось всеобщее хлопанье и угорелая беготня, послышались голоса, то громкие, то осторожные, отдававшие различные приказания.
– Галантир из телячьей головки приготовить не забудь! – раздавалось где-то.
– Яиц-то! Яиц на пирожное повару выдайте! – кричал кому-то вдогонку чей-то голос.
Машенька изменилась необыкновенно. Эта маленькая головка, эти мелкие черты лица, эта миниатюрная фигурка с легким, почти воздушным станом – все это сморщилось, съежилось, свернулось в комочек. Глаза ввалились и, вместо прежней грусти ни об чем, выражали простую тусклость; кожа на щеках и на лбу отливала желтизною; нос вытянулся, губы выцвели, подбородок заострился; в темных волосах прокрадывались серебристые змейки. Взамен того, корпус отяжелел и обнаруживал явную наклонность сделаться совсем шарообразным. Увидевши меня, она сначала как бы удивилась, но сейчас же оправилась и протянула мне обе руки.
– Ах, мой родной! Кто бы мог думать! – восклицала она, обнимая меня, – ведь эта глупая Анютка сказала, что новый становой приехал – ну, я и не тороплюсь! А это – вот кто! вот неожиданность-то! вот радость! И Филофей Павлыч... вот удивится-то! вот-то будет рад!
– Мне сказали, что он в городе...
– Будет, мой друг, к обеду, непременно будет. И Нонночка с мужем – все вместе приедут. Чай, ты уж слышал: ведь я дочку-то замуж выдала! а какой человек... преотличнейший! В следователях служит у нас в уезде, на днях целую шайку подмётчиков изловил! Вот радость-то будет! Ах, ты родной мой, родной!
Как ни порывисты были эти восклицания радости, но на меня уже они не производили прежнего действия. Мне слышалась в них только дань тем традициям родственности, которые предписывают во что бы то ни стало встречать "доброго родного" шумными изъявлениями радостного празднословия. Это – такой же бессодержательный обычай, такое же лганье, как и причитание по покойнике. И прежде, вероятно, она лгала, и теперь лжет. Только прежде у нее полненькие щечки были – выходило мило, а теперь щечки съежились – выходит противно. Очень возможно, что она и сама не сознаёт своего лганья, но я уверен, что если б она в эту минуту порылась в тайниках своей души, то нашла бы там не родственное ликование, а очень простую и совершенно естественную мысль: "Вот, мол, принесла нелегкая "гостя"... в рабочую пору!"
Тем не менее она усадила меня на диван перед неизбежным овальным столом, по бокам которого, по преданию всех старинных помещичьих домов, были симметрически поставлены кресла; усадивши, обеспокоилась, достаточно ли покойно мне сидеть, подложила мне под руку подушку и даже выдвинула из-под дивана скамейку и заставила меня положить на нее ноги,
– За делом, что ли, за каким приехал, или так? – спросила она меня, когда кончились первые излияния, в которых главную роль играли пожимания рук, оглядывания и восклицания: "Ах, как постарел!" или: "Ах, как поседел!" – за которыми, впрочем, сейчас же следовало: "Что ж я, однако ж: совсем не постарел! какой был, такой и остался... даже удивительно!"
– Нет, не за делом, – ответил я, – а именно "так".
– Ну, и слава богу! на старинное пепелище посмотришь, могилкам поклонишься, родным воздухом подышишь – все-таки освежишься! Чай, у Лукьяныча во дворце остановился? да, дворец он себе нынче выстроил! тесно в избе показалось, помещиком жить захотел... Ах, мой друг!
Это было высказано не без ехидства, но не потому, чтобы она питала к Лукьянычу какое-нибудь зло, а просто "так". Как, мол, это мужик себе "дворец" выстроил – чтой-то уж больно чудно!
Начались расспросы, хорошо ли живется, здоровье паче всего в исправности ли, продолжаю ли я по сатирической части писать и т.д.
– А я, мой друг, так-таки и не читала ничего твоего. Показывал мне прошлою зимой Филофей Павлыч в ведомостях объявление, что книга твоя продается, – ну, и сбиралась всё выписать, даже деньги отложила. А потом, за тем да за сем – и пошло дело в длинный ящик! Уж извини, Христа ради, сама знаю, что не по-родственному это, да уж...
– Помилуй, при чем же тут родство? – времени у тебя, вероятно, нет – вот и все.
– Ах! времени-то нет – это так; это ты правду сказал. Так мало, так мало у меня времени, что если бы, кажется, сорок восемь часов в сутках было, и тех бы недостало, чтобы все дела переделать. А впрочем, ты не думай, чтобы я совсем не интересовалась тобой. Всякий раз, как детям пишу, всегда об тебе спрашиваю. Ну, Коронат – тот молчит, а Феогностушка частенько-таки об тебе уведомляет. Ах, как ты, однако ж, постарел! и в особенности поседел! так поседел! так поседел! Постой-ка, я поближе на тебя посмотрю... А что ж, впрочем... нет! какой в последний раз приезжал, таким и теперь остался! Право-ну, ни на волос не переменился!
– Да что же ты все обо мне; ты лучше о себе расскажи! – откликнулся я, когда она уж достаточно повертела меня во все стороны.
– Что же я могу тебе о себе сказать! Моя жизнь – все равно что озеро в лесу: ни зыби, ни ряби, тихо, уединенно, бесшумно, только небо сверху смотрится. Конечно, нельзя, чтоб совсем без забот. Хоть и в забытом углу живем, а все-таки приходится и об себе, и о других хлопотать.
– И ты счастлива?
Я очень хорошо заметил, что при этом вопросе ее нос слегка вздрогнул; но, по-видимому, она сейчас же вспомнила, что, по кодексу родственных приличий, никогда не следует упускать случая для лганья, – и поправилась.
– Откровенно тебе скажу: очень я, мой друг, счастлива! – лгала она, – так счастлива! так счастлива, что и не знаю, как бога благодарить! Вот хоть бы Нонночка – никогда я худого слова от нее не слыхала! Опять и муж у нее... так ласков! так ласков!
Сказавши это, она быстро кинула на меня испытующий взгляд, не слыхал ли, мол, чего, но, должно быть, ничего не прочитала на моем лице и успокоилась.
– Вот и Феогностушка тоже – так меня радует! – Продолжала она лгать, – ни грубого слова, ни претензии – никогда! Ласковый мальчик! откровенный! А ежели иногда, по молодости лет, и впадет в ошибку (она бросила на меня новый испытующий взгляд) – ну, сейчас же и поправится: "Виноват, маменька!" И обезоружит. Ах, мой друг! великая эта милость божия, коли дети родителей почитают! Почтением да ласкою – только ведь этим и держится свет! Ежели дети родителей почитают, то и родители, с своей стороны... Вот Коронат – ну, про этого... А впрочем, грех мне роптать, друг мой. Всем господь свой крест посылает, ну и мне, стало быть...
Она задумалась и сомнительно покачала головой.
– Что ж, и Коронат, кажется, – хороший молодой человек! – счел долгом вступиться я.
– Как бы тебе сказать, голубчик! Для других, может быть, и хорош, а для меня... Не знаю! не вижу я от него ласки! Не вижу!
– Тебе бы всё ласки! а ты пойми, что у людей разные темпераменты бывают. Один любит приласкаться, маменькину ручку поцеловать, а другому это просто в голову не приходит. Коронат скромен, учится хорошо, жалоб на него нет; мне кажется, что больше ты и требовать от него не вправе.
– Ну, а мне уж позволь свое мнение об этом иметь.
– Имей сколько угодно, но только не забудь: если ты будешь избегать поверки этого «мнения», как теперь, например, то скоро из мнения у тебя вырастет предубеждение...
– Нет уж... Хоть ты и родной мне и я привыкла мнения родных уважать... Впрочем, это – уж не первый у нас разговор: ты всегда защитником Короната был. Помнишь, в последний твой приезд? Я его без пирожного оставить хотела, а ты выпросил!
– Помню, помню; ты и тогда уж Короната в категорию "непочтительных" записала!
Я взглянул на нее: лицо ее глядело совершенно спокойно; но что-то, не то чтобы злое, а глупо-непоколебимое сквозило сквозь это спокойствие. Как будто бы она говорила: "Как ты там ни ораторствуй, а у меня "свои правила" есть". Это бывает особенно с женщинами, ибо они вообще как-то охотнее, нежели мужчины, составляют себе "правила". Иная, во всю свою молодость, только и слышала: "Ах, миленькая! как к ней это платьице идет!" – смотришь, ан она из этого какие-то "правила" вывела! Потом выйдет замуж, сначала попадет в школу прописей под начальством какого-нибудь Саввы Силыча, затем перейдет в другую школу прописей под фирмою Филофея Павлыча – смотришь, и опять у ней "правила". И так она за эти "правила" держится, что, словно львица разъяренная, готова всякому горло зубами перервать и кровь выпить, кто к ним без сноровки подойдет!
Главное свойство этих "правил" – отсутствие всяких правил и полная невозможность отделить от шелухи ту руководящую мысль, которая послужила для них основанием. Это – какая-то неуловимая путаница, в которой ни за что ухватиться нельзя; но потому-то именно она и обладает своего рода неприступностью. Заберется "миленькая" в эту своеобразную крепость, и никак ее оттуда не вытащишь. И на убеждения, и даже на прямые опровержения жизни – на всё будет говорить: "У меня свои "правила" есть". Единственное средство пролезть в эту крепость – это начать уговаривать «миленькую», то есть взять ее за руки, посадить поближе к себе и гладить по спинке, как лошадку с норовом: «Тпру, милая, тпру! но-но-но-но!» Оглаживаешь, оглаживаешь – и видишь, как постепенно начинают «правила» таять. Тают, тают, и вдруг образуются новые «правила», иногда те самые, каких нужно, а иногда и другие, совсем неожиданные...
Лет восемь тому назад я непременно употребил бы это средство в отношении к Машеньке, но теперь, ввиду изменений, которые произошли в ее внешности, оно показалось мне несколько рискованным. Во всяком случае, я решился прибегнуть к нему лишь в крайности.
– А я... много я переменилась, братец? – спросила она меня, словно угадывая часть моих мыслей.
– Нет... ничего! Как была восемь лет тому назад, так и теперь... ничего! – солгал я "по-родственному".
– Ну, уж, чай, где ничего! Состарелась я, голубчик, вот только духом еще бодра, а тело... А впрочем, и то сказать! Об красоте ли в моем положении думать (она вздохнула)! Живу здесь в углу, никого не вижу. Прежде хоть Нонночка была, для нее одевалась, а теперь и одеваться не для кого.
– Ты бы в Петербург на зиму приехала; на детей бы посмотрела.
– И, что ты! в Петербург! Я и от людей-то отвыкла. Право. Месяца с два тому назад вице-губернатор наш уезд ревизовал, так Филофей Павлыч его обедать сюда пригласил. Что ж бы ты думал? Спрашивает он меня за обедом... ну, одним словом, разговаривает, а я, как солдат, вскочила, это, из-за стола: "Точно так, ваше превосходительство!.." Совсем-таки светское обращение потеряла.
– Поживешь месяц-другой в Петербурге – опять привыкнешь.
– Поздно, друг мой; в Покров мне уж сорок три будет. Я вот в шесть часов вставать привыкла, а у вас, в Петербурге, и извозчики раньше девяти не выезжают. Что ж я с своею привычкой-то делать буду? сидеть да глазами хлопать! Нет уж! надо и здесь кому-нибудь хлопотать: дети ведь у меня. Ах, детки, детки!
– Что ж "детки"! Детки и без тебя дорогу найдут, нечего уж очень-то убиваться об них. Вот, например, Коронат: ну, могу тебя уверить, что он...
– Ах, братец! ты все об нем!
– Отчего же и не говорить об "нем"? Скажи на милость, разве он чем-нибудь тебя огорчил, что ты как будто им недовольна?
– Нет, ничего... Заварилась было у нас каша на днях, ну, да ведь я...
– А что именно?
– Нет, так... Я уж ему ответила. Умнее матери хочет быть... Однако это еще бабушка надвое сказала... да! А впрочем, и я хороша; тебя прошу не говорить об нем, а сама твержу: "Коронат да Коронат!" Будем-ка лучше об себе говорить. Вот я сперва закуску велю подать, а потом и поговорим; да и наши, того гляди, подъедут. И преприятно денек вместе проведем!
Подали завтрак, сели, но об себе как-то не говорилось. Это довольно часто случается с людьми, которые когда-то были близки, потом надолго расстались, потом опять свиделись. И вдруг оказывается, что не только им не об чем говорить, но что они даже положительно в тягость друг другу. Мы хотя и не совсем были в таком положении, но все-таки ощущали томительную неловкость. Обыкновенно в таких случаях прибегают к воспоминаниям, как к такой нейтральной почве, на которой всего легче выйти из затруднения, но мне как-то и вспоминать не хотелось. Напрасно Машенька заговаривала, указывая то на липовый круг, то на лужайку, обсаженную березами: "Помнишь, как мы тут игрывали?" Или: "Помнишь, как в папенькины именины покойница Каролина Федоровна (это была гувернантка Маши) под вон теми березами группу из нас устроила: меня посредине с гирляндой из розанов поставила, а ты и братец Владимир Иваныч – где он теперь? кажется, в Москве, в адвокатах служит? – в виде ангелов, в васильковых венках, по бокам стояли? Ах, времечко, времечко!" Я отвечал на эти напоминания односложными словами и с явною неохотой. И разговор, наверное, упал бы совсем, если б я не решился вновь поворотить его на тот предмет, который собственно и составлял цель моей поездки.
– Послушай, – сказал я, – я должен сознаться перед тобой, что приехал сюда, собственно, по желанию Короната.
При этих словах она несколько побледнела, и сухая улыбка скользнула на ее губах.
– По желанию Короната? – повторила она, – вот как! стало быть, Коронат в тебе адвоката нашел!
– Да, он просил меня. Он желал, чтоб я лично тебе подтвердил, что он хочет оставить школу и поступить в Медицинскую академию.
– Хочет!.. как-то это для меня странно... хочет! Помнишь, мы в эти года не смели хотеть, а дожидались, как старшие захотят!
– Дело не в выражениях, мой друг, и прошу тебя, ты меня на словах не лови. Если тебе не нравится слово "хочет"...
– И откровенно тебе скажу: даже очень, очень не нравится... Так как-то пошло уж слишком!
– Не он это слово сказал, а я; следовательно, ты можешь его заменить другим: "желал бы", "предполагал бы", "осмеливался бы думать" – словом сказать, выразиться, как тебе самой кажется почтительнее. Итак, к делу. Он писал тебе о своем желании и получил от тебя двусмысленный ответ...
– Вот уж не двусмысленный! Напротив того, я даже слишком ясно ответила, что никаких перемещений не хочу... не то что "не желаю", а именно "не хочу"! Не хочу, не хочу и не хочу!
– Но ежели он желает этого? Если он в этом перемещении видит для себя пользу?
– Ах, боже мой! Если он желает! если он для себя видит пользу! Что ж! с богом! Нечего у матери и спрашиваться... если он желает!
Она улыбалась и даже слегка подсмеивалась; но уж не просто сухость, а злорадство откликнулось в этом смехе. Злорадство, и какое-то торжествующе-идиотское: хоть кол на голове теши!
– И прекрасно, что ты не препятствуешь; мы примем это к сведению. Но вопрос не в этом одном. Ему необходимо существовать в течение пяти лет академического курса, и ежели он, ради насущного труда, должен будет уделять добрую часть времени постороннему труду, то это несомненно повредит его учебным занятиям... ты понимаешь меня?
– Не понимаю... нет, ничего я не понимаю! Как это труд может повредить занятию?!
– Очень просто. Вот ты своим хозяйством занимаешься, а предположи, что необходимость заставляла бы тебя, в то же время, уроки танцеванья давать; ведь хозяйство твое потерпело бы от этого, не так ли?
– Уроки танцеванья, хозяйство... воля твоя, ничего я тут не понимаю, мой друг!
– Одним словом, необходимо, чтобы ты, в течение пяти лет, оказывала ему помощь.
– Ну, это... статья особенная!
– То есть, как же... ты отказываешь ему?
– Ничего я не "отказываю", мой друг, а только так говорю: особенная это статья.
– Но ведь ты тратишься же на него теперь? ты даешь ему денег на лакомство, ты платишь за него тому господину, который берет его к себе по праздникам?
– Да, покуда он волю родительскую чтит.
– Но что же ты имеешь против его намерения?
– Ничего я не имею, а вообще... Что ж, коли хочет по медицинской части идти – пусть идет, я препятствовать не могу! Может быть, он и счастье себе там найдет; может быть, сам бог ему невидимо на эту дорогу указывает! Только уж...
– Так помоги ему!
– Ну, это... особенная статья.
– А почему же?
– А почему... потому...
Машенька окончательно заволновалась и долго бормотала что-то, словно не могла совладеть с своими мыслями. Наконец она, однако ж, кой-как собрала их.
– Уж коли ты хочешь непременно знать почему, – сказала она, возвышая голос, – так вот почему: правила у меня есть!
– Какие же это правила?
– А такие правила, что дети должны почитать родителей, – вот какие!
– В чем же, однако, выразилась непочтительность Короната?
– И ежели родители что желают, то дети должны повиноваться и не фантазировать! – продолжала Машенька, не слушая меня, – да, есть такие правила! есть! И правительству эти правила известны, и всем, и никому эти правила пощады не дадут – не только детям... непочтительным, но и потаковщикам их.
– Так ты, значит, и меня... по-родственному?
– Нет, я не про тебя, а вообще... И бог непочтительным детям потачки не дает! Вот Хам: что ему было за то, что отца родного осудил! И до сих пор хамское-то племя... только недавно милость им дана!
– Но ежели ты так верно знаешь, что бог непочтительных детей наказывает, то пусть он и накажет Короната! Предоставь это дело богу, а сама жди и не вмешивайся!
Слова эти окончательно раздражили ее, так что она почти хриплым голосом кинула мне в ответ:
– Ах, мой родной! уж извини ты меня! не училась ведь я кощунствовать-то!
– Тут и нет кощунства. Я хочу сказать только, что если ты вмешиваешь бога в свои дела, то тебе следует сидеть смирно и дожидаться результатов этого вмешательства. Но все это, впрочем, к делу не относится, и, право, мы сделаем лучше, если возвратимся к прерванному разговору. Скажи, пожалуйста, с чего тебе пришла в голову идея, что Коронат непременно должен быть юристом?
– Стало быть, пришла... если так вздумалось!
– Вот видишь: тебе "вздумалось", а Коронат, по твоему мнению, не имеет права быть даже сознательно убежденным! Ведь ему, конечно, ближе известно, какая профессия для него более привлекательна.
– Хороша привлекательность... собак потрошить!
– В этом ли привлекательность или в чем-нибудь другом – это вопрос особый. Важно тут убеждение, на каком поприще можешь наибольшую сумму пользы принести.
– Однако! по-твоему, значит, дети умнее родителей стали! Что ж, по нынешнему времени – пожалуй!
– Оставь, сделай милость, нынешнее время в покое. Сколько бы мы с тобой об нем ни судачили – нам его не переменить. Что же касается до того, кто умнее и кто глупее, то, по мнению моему, всякий "умнее" там, где может судить и действовать с большим знанием дела. Вот почему я и полагаю, что в настоящем случае Коронат – умнее. Ведь правда? ведь не можешь же ты не понимать, что поднятый им вопрос гораздо ближе касается его, нежели тебя?
Я взглянул на нее в ожидании ответа: лицо ее было словно каменное, без всякого выражения; глаза смотрели в сторону; ни один мускул не шевелился; только нога судорожно отбивала такт.
– Скажи же что-нибудь! Ну "да" – не правда ли, "да" ? – настаивал я.
– Как христианка и как мать... не могу, мой друг! – отвечала она, постукивая в такт ножкой с тою неумолимо-наглою непреклонностью, которая составляет удел глупца, сознающего себя силой.








