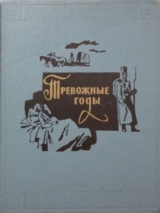
Текст книги "Тревожные годы"
Автор книги: Антон Чехов
Соавторы: Николай Лесков,Владимир Короленко,Михаил Салтыков-Щедрин,Всеволод Гаршин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 54 страниц)
Эта бумага была плодом заветнейших замыслов Плешивцева. Он писал ее по секрету и по секрету же сообщил об ней лишь одному мне. Читая ее, он говорил: "Я здесь – Плешивцев! понимаешь? Плешивцев, а не чиновник!" И затем представив свою работу князю Ивану Семенычу, он даже несколько побаивался за ее судьбу.
– Заметь, братец, – говорил он, – об государстве ни одного слова! Отечество – и баста!
– Да, браг, это – штука! – отвечал я, с своей стороны.
Тем не менее надежда на успех все-таки была, хотя, должно сознаться, она основывалась преимущественно на каламбуре. Предполагалось, что в департаментской практике некоторые выражения до такой степени осинонимизировались, что нужно было нарочито подыскиваться, чтоб употребленная Плешивцевым тонкость могла быть понята. К числу таких однородных выражений принадлежали "отечество" и "государство", которые в департаменте употреблялись не только безразлично, но даже чередовались друг с другом, в видах избежания частых повторений одного и того же слова. Поэтому Плещивцев имел очень веские основания надеяться.
– Не догадаются! – таинственно шептал он мне.
– Не догадаются! – от всей души откликался и я. С другой стороны, и Тебеньков не дремал, но тоже по секрету представил князю Ивану Семенычу проект циркуляра, о котором тоже сообщил только мне. Там писалось: "Любовь к отечеству, чувство, бесподобное само по себе, приобретает еще больше значения, если взглянуть на него как на одно из самых могущественных административных подспорьев... Будучи эксплуатируемо с осторожностью, но неукоснительно, оно незаметно развивается в чувство государственности, сие же последнее, соделывая управляемых способными к быстрому постижению административных мероприятий, в значительной степени упрощает механизм оных и чрез то, в ближайшем будущем, обещает существенные сокращения штатов, причем, однако ж, чиновники усердные и вполне благонадежные не токмо ничего не потеряют, но даже приобретут... Главнейшее же внимание должно быть обращено на то, дабы отечество, в сознании управляемых, ни в каком случае не отделялось от государства и дабы границы сего последнего представлялись оным яко непременные и естественные границы первого... История всех образованных государств, с самой глубокой древности и до наших времен, доказывает, сколь полезны бывали внушения сего рода, не токмо в годины бедствий, не перестающих и поныне периодически удручать род человеческий, но и во всякое другое, благоприятно для административных мероприятий время. А посему ваше превосходительство не оставите обратить на сей важный предмет ваше просвещенное внимание и в согласность сему озаботитесь сделать зависящие распоряжения, дабы в пределах вверенного вам ведомства упомянутое чувство любви к отечеству развивалось и охранялось со всею неуклонностью и дабы превратным толкованиям были пресечены все способы к омрачению в извращению оного".
Итак, оба друга мои сочинили по циркуляру. От одного разило государственностью, в другом очень осторожно, но в то же время очень искусно был пущен запах подоплеки. А так как я лично оплошал, то есть никакого циркуляра не сочинил, то мне оставалось только выжидать, который из моих приятелей восторжествует.
И вдруг в газетах появляется речь Тейтча, которая на все плешивцевские махинации проливает яркий свет!
– Не пройдет! нечего и думать! – шепнул мне Плешивцев еще утром, как только прочитал газетное известие.
Напротив того, Тебеньков сделался веселее и самоувереннее обыкновенного.
– Теперь мое дело в шляпе, – сказал он мне, – придется, может быть, несколько почистить: "отечества" поурезать да "государственности" поприпустить – и готово!
Вечером мы все были в сборе; но долгое время, словно сговорившись, не приступали к интересовавшему нас предмету. Плешивцев молча ходил взад и вперед по комнате, ерошил себе волосы, как бы соображая, нельзя ли и "подоплеку" соблюсти, и рейхстагу германскому букетец преподнести. Я ни о чем особенном не думал, но в ушах моих с какою-то мучительною назойливостью звенело: вот тебе и "седохом и плакахом"! Тебеньков тоже молчал, но это было молчание, полное торжества, и взгляд его глаз, и без того ясных, сделался до такой степени колюч, что меня подирал мороз по коже.
– Однако, чудеса на свете делаются! – сказал наконец я, чтобы завязать разговор.
– Да, брат! ничего не поделаешь! – отозвался Плешивцев, – вот она! вот она, подоплека-то, где сказалась!
– Encore cette malheureuse podoplioka! [Снова эта несчастная подоплека! (франц.)] – весело воскликнул Тебеньков,
– He прогневайтесь, Александр Петрович! Малёрёз подоплиока – это так точно-с! С канканчиком-с, с польдекоковщиной-с, с гнильцой-с, с государственным обезличеньем-с! Вот им, обладателям этой малёрёз подоплиока, и говорят, не трудитесь, мол, насчет отечеcтва прохаживаться, потому что ваше отечество в танцклассе у Мариинкевича... да-с!
– Joli! [Прекрасно! (франц.)]
– Жоли или не жоли, а только это так-с. С канканчиком, конечно, можно еще как-нибудь на идею государства – вашего, Александр Петрович, тебеньковского государства! – набрести, ну, а отечество – это штука помудренее будет.
Я был смущен. Я знал, что со стороны Тебенькова оправдание претерпенной Тейтчем неудачи не только возможно, но и вполне естественно, но, признаюсь, выходка Плешивцева несколько изумила меня.
– Как! и ты, Плешивцев! – воскликнул я, – и ты, значит, оправдываешь этот веселый хохот над человеком, огорченным потерею отечества?
– Ничего, братец, не поделаешь! Когда у людей, вместо подоплеки, канканчик...
– Послушай, душа моя! зачем же ты приплетаешь сюда какой-то канканчик? Ведь у французов не один же канкан! Есть у них и своя цивилизация, и своя литература, и своя промышленность! Всего этого, право, очень достаточно, чтобы в человеке получилось представление о той совокупности вещей и явлений, из которой выводится идея отечества! Посмотри! не прошло трех лет после разгрома, а почти не заметно и следов его! Уплатили пять миллиардов немцу, а сколько еще миллиардов потребовалось, чтоб собственные внутренние раны залечить! И все это совершилось воочию! Какая сила! Какое неистощимое богатство!
– И богатство есть, и фабрики, и заводы; даже полиция есть. Но чтоб была цивилизация – вот с чем я никогда не соглашусь! Плоха, брат, та цивилизация, от которой мертвечиной пахнет, в которой жизни духа нет!
– "Жизни духа, духа жизни"! – поддразнил Тебеньков.
– Да-с, Александр Петрович, ни жизни духа, ни духа жизни – ничего, кроме гнили-с! А потому и не жалуйся, гнилой человечишко, что его в полон взяли! Не сетуй, не растабарывай насчет отечества, которого у тебя нет!
– Но ты забываешь, что Франция, в продолжение многих столетий, была почти постоянно победительницей, что французские войска квартировали и в Берлине, и в Вене...
– Et Moscou donc! [И даже в Москве! (франц.)] – озорно отозвался Тебеньков.
– Шиш взяли!
– Что этот самый Эльзас, эта самая Лотарингия были когда-то немецкими провинциями?
– Ну да, и в Берлине были, и в Вене были, и Эльзас с Лотарингией отобрали у немцев! Что ж! сами никогда не признавали ни за кем права любить отечество – пусть же не пеняют, что и за ними этого права не признают.
– Постой! это другой вопрос, правильно или неправильно поступали французы. Речь идет о том, имеет ли француз настолько сознательное представление об отечестве, чтобы сожалеть об утрате его, или не имеет его? Ты говоришь, что у французов, вместо жизни духа – один канкан; но неужели они с одним канканом прошли через всю Европу? неужели с одним канканом они офранцузили Эльзас и Лотарингию до такой степени, что провинции эти никакого другого отечества, кроме Франции, не хотят знать?
– Все это был один пьяный порыв! А вот как их приперли, хорошенько да показали, что есть на свете ружья почище шасспо, – на дне-то порыва и оказалась гниль!
– Гниль! что же это за слово, однако ж! Третий раз ты его повторяешь, а ведь, собственно говоря, это совсем не ответ, а простой восклицательный знак! Ты оставь метафоры и отвечай прямо: имел ли германский рейхстаг основание не признавать за Тейтчем право любить свое отечество!
– Да я с того и начал, что сказал: вот она, подоплека-то! вот как она дала себя почувствовать!
– "Подоплека"! "Гниль"! Воля твоя, а это не разговор!
– Господин Плешивцев, конечно, полагает, что чебоксарская подоплека (Плешивцев был родом из Чебоксар) будет мало-мало подобротнее, нежели французская! – уязвил Тебеньков.
– Да-с, подобротнее-с! Чебоксарская подоплека не дерет глотки, а постоит за себя! Да-с, постоит-с! Мы, чебоксарцы, не анализируем своих чувств, не взвешиваем своих побуждений по гранам и унциям! Мы просто идем в огонь и в воду – и всё тут! И нас не отберут, как каких-нибудь эльзасцев-с! Нет-с, обожгутся-с!
Тебеньков на эту диатрибу только свистнул в ответ и, улегшись с ногами на диван, замурлыкал себе под нос из "m-me Angot" ["Мадам Анго" (франц.)]:
Elle est tellement innocente
Quelle ne comprend presque rien!
[Она так невинна, что почти ничего не понимает! (франц.)]
Я тоже недоумевал. Я мысленно спрашивал себя, в какой степени возможно продолжение разговора, предмет которого грозит перейти на чебоксарскую почву? Можно ли, например, оспоривать, что чебоксарская подоплека добротнее французской? не будет ли это противно тем инстинктам отечестволюбия, которые так дороги моему сердцу? не рассердит ли это, наконец, Плешивцева, который хоть и приятель, а вдруг возьмет да крикнет: "Караул! измена?!" И ничего ты с ним не поделаешь, потому что он крепко стоит на чебоксарской почве, а ты колеблешься! Хороши Чебоксары, прекрасен Наровчат, но когда перед тобой начнут сравнивать их с Парижем в ущерб последнему – тебе все-таки совестно. А ему, Максиму Михайлову Плешивцеву, потомку майора, ездившего за две тысячи верст за севрюжиной для Потемкина, не только не совестно, но он даже цветнее от этих сравнений делается!
Тем не менее вопрос, о котором зашла у нас речь, представлял для меня такой интерес, что я решился довести нашу беседу до конца, хотя бы даже Плешивцев и обвинил меня в измене.
– Итак, ты в целой Франции, в ее истории, в ее гении ничего не видишь, кроме "La belle Helene"? – сказал я вновь.
– Ничего!
– "La belle Helene"? Mais je trouve que c'est encore ties joli Гa! ["Прекрасная Елена"? А я нахожу, что и это еще хорошо! (франц.)] Она познакомила нашу армию и флоты с классическою древностью! – воскликнул Тебеньков. – На днях приходит ко мне капитан Потугин: «Правда ли, говорит, Александр Петрович, что в древности греческий царь Менелай был?» – «А вы, говорю, откуда узнали?» – «В Александринке, говорит, господина Марковецкого на днях видел!»
– Вот она... французская-то цивилизация! Смотри на него! любуйся! – трагически произнес Плешивцев, протягивая руку по направлению Тебенькова.
– А ты хочешь от меня примеров чебоксарской цивилизации! Успокойся, душа моя! их много найдется и во Франции! Есть, голубчик, есть! Вспомни лурдские богомолья, вспомни парэ-ле-мониальское посвящение Иисусову сердцу! Право, хоть сейчас в Чебоксары!
– И в самом деле! – ободрился я, – ведь это тоже своего рода подоплека!
– И даже едва ли не более добротная, нежели чебоксарская! По крайней мере, это подоплека, выразившаяся независимо от начальственных поощрений, тогда как, если вглядеться попристальнее в чебоксарскую подоплеку, то наверное увидишь на ней следы исправника или станового!
– А ведь это правда, что чебоксарская-то подоплека немного тово... как будто помята руками особ, на заставах команду имеющих... что ты скажешь на это, Плешивцев?
– Что говорить! Шутить изволите – ну и шутите!
– Хорошо. Будем говорить серьезно, – сказал Тебеньков. – Отбросим в сторону "подоплеки", "гнили", "жизни духа" и другие метафоры, которыми ты так охотно уснащаешь свой разговор, и постараемся резюмировать сущность сказанного тобою по поводу похождений господина Тейтча в германском рейхстаге. Эта сущность, выраженная в грубой, но правдивой форме, заключается в следующем: человек, который в свои отношения к явлениям природы и жизни допускает элемент сознательности, не должен иметь претензии ни на религиозность, ни на любовь к отечеству? Est-ce Гa, mon vieux? [Так ли, старина?(франц.)]
– Ca да не да [Так, да не так (франц.)]. Сознательность бывает разная. Я, например, сознаю себя русским – это сознательность здоровая, сильная, освежающая. Но ежели сознательность родит Тебеньковых... извини меня, я такой сознательности и уважать не могу!
– Благодарю – не ожидал! Так что, например, ежели я не верю, что будущий урожай или неурожай зависит от того, катали или не катали попа по полю в Егорьев день, как верят этому господа чебоксарцы, то я не могу называть себя религиозным человеком? Так ведь?
– Продолжайте, Александр Петрович, продолжайте!
– Но ведь это логически выходит из всех твоих заявлений! Подумай только: тебя спрашивают, имеет ли право француз любить свое отечество? а ты отвечаешь: "Нет, не имеет, потому что он приобрел привычку анализировать свои чувства, развешивать их на унцы и граны; а вот чебоксарец – тот имеет, потому что он ничего не анализирует, а просто идет в огонь и в воду!" Стало быть, по-твоему, для патриотизма нет лучшего помещения, как невежественный и полудикий чебоксарец, который и границ-то своего отечества не знает!
– Для того чтобы любить родину, нет надобности знать ее географические границы. Человек любит родину, потому что об ней говорит ему все нутро его! В человеке есть внутреннее чутье! Оно лучше всякого учебника укажет ему те границы, о которых ты так много хлопочешь!
– То есть, не столько "внутреннее чутье", сколько начальственное распоряжение. Скажет начальство чебоксарцу: вот город Золотоноша, в котором живут всё враги; любезный чебоксарец! возьми и предай Золотоношу огню и мечу! И чебоксарец исполнит все это.
– Врешь ты! Этого не может быть!
– Это было, Плешивцев. Вспомни удельный период: вспомни в позднейшее время Тверь, Новгород, Псков...
– Это совсем не то! это были усобицы! это были внутренние неурядицы! это...
Ясно было, что Плешивцев окончательно начинает терять хладнокровие, что он, вообще плохой спорщик, дошел уже до такой степени раздражения, когда всякое возражение, всякий запрос принимают размеры оскорбления. При таком расположении духа одного из спорящих первоначальный предмет спора постепенно затемняется, и на сцену бог весть откуда выступают всевозможные детали, совершенно ненужные для разъяснения дела. Поэтому я решился напомнить друзьям моим, что полемика их зашла слишком далеко.
– К вопросу, господа! – сказал я, – Вопрос заключается в следующем: вследствие неудач, испытанных Францией во время последней войны, Бисмарк отнял у последней Эльзас и Лотарингию и присоединил их к Германии. Имеет ли он право требовать, чтобы жители присоединенных провинций считали Германию своим отечеством и любили это новое отечество точно так, как бы оно было для них старым отечеством?
– Не Бисмарк, а народ! понимаешь! не германское государство, которое воплощает собою Бисмарк, а германский народ!
– А народ германский, стало быть, имеет это право?
– Имеет.
– На каком же основании?
– А на том основании, что его нравственная физиономия выше, нежели нравственная физиономия какого-нибудь эльзасца, воспитанного в растлевающей французской школе!
– Послушай! но ведь это своего рода дарвинизм, своеобразный, но все-таки дарвинизм. По твоему мнению, организм более нравственный имеет право порабощать организм менее нравственный?
– Не порабощать, а преображать, просветлять. Для развращенного, лишенного нравственной подкладки эльзасца это не порабощение, а просветление. Да-с.
– Но кто же судья в этом деле? кому принадлежит право решать, какой организм более нравствен и какой организм менее нравствен!
– Судья в этом деле – совесть самого более нравственного организма, его собственное сознание принадлежащего ему права и как результат этого сознания – успех.
– Так что, если, например, ты признаешь себя относительно меня и Тебенькова более нравственным организмом, то ты имеешь право просветлять нас по всей твоей воле?
– Имею-с.
– И немцы имеют право сказать эльзасцам: отныне вы обязываетесь любить нас?
– Имеют-с. И не только имеют основание теоретически заявить об этом праве, но и достигать его осуществления. И достигнут-с.
– Так что ежели эльзасцы будут продолжать упорствовать...
– То они докажут этим, что для них нужна школа. И получат ее.
– Mais с'est juste ce que je dis: [Я так и говорю (франц.)] люби не люби, а подплясывай! – вставил Тебеньков.
– Но ты забыл, душа моя, что присоединение Эльзаса и Лотарингии есть результат войны, что шансы войны подвержены множеству случайностей! ты забыл, что случайности эти одинаковы для всех и что таким образом и Чебоксары могут подвергнуться процессу просветления... Опомнись!
– Не случайности, а пути провидения! Слышишь! Я не признаю случайностей! Я знаю только провидение!
– Но Чебоксары?..
Это был крик моего сердца, мучительный крик, не встретивший, впрочем, отзыва. И я, и Плешивцев – мы оба умолкли, как бы подавленные одним и тем же вопросом: "Но Чебоксары?!!" Только Тебеньков по-прежнему смотрел на нас ясными, колючими глазами и втихомолку посмеивался. Наконец он заговорил.
– Господа! – сказал он, – к удивлению моему, я с каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что как ни беспощадна полемика, которую ведет против меня наш общий друг Плешивцев, но, в сущности, мы ни по одному вопросу ни в чем существенном не расходимся. Он требует для человека почвы, и я требую для человека почвы. Он признает, что есть известные основы, без которых общество не может существовать, и я признаю, что есть известные основы, без которых общество не может существовать. Он уважает религию, и я уважаю религию. Он консерватор, и я консерватор. Разница между нами заключается в том, что я употребляю некоторые выражения, которые не по душе Плешивцеву, а он употребляет некоторые выражения, которые не по душе мне. Но смею думать, что это только диалектические особенности, ибо, ежели резюмировать наши убеждения в кратчайшей форме, отрешив их от диалектических приемов, а особенно ежели взять во внимание те практические применения, которые эти убеждения получают, проходя сквозь горнило департамента, в котором мы оба служим, то, право, окажется, что вся наша полемика есть не что иное, как большое диалектическое недоразумение. Мы оба требуем от масс подчинения, а во имя чего мы этого требуем – во имя ли принципов "порядка" или во имя "жизни духа" – право, это еще не суть важно, Blanc bonnet, bonnet Blanc [Что в лоб, что по лбу(франц.)] – вот и всё. Следовательно, нам нужно только отказаться от некоторых мудреных и малоупотребительных выражений – и все недоразумения исчезнут. Не правда ли, Плешивцев? Скажи по совести, ведь мы можем подать друг другу руки?
Сказавши это, Тебеньков протянул Плешивцеву руку, но последний не принял ее.
– Ну, нет! Это стара штука! – сказал он, – это спор старый! Он еще при Петре начался! Тут не одними мудреными словами пахнет! Тут есть кой-что поглубже!
– Очень жаль, что наружное разномыслие наше должно продолжаться без срока, хотя, повторяю, разномыслие это чисто наружное и отнюдь не мешает полному внутреннему нашему единомыслию. Да, мой друг! что ни говори, а все эти "подоплеки", все эти "жизни духа" – все это диалектические приемы того же устава благочиния, во имя которого ратую и я. Тебе по сердцу "просветление", мне – "административное воздействие", но и в том и в другом случае, в конце концов, все-таки прозревается военная экзекуция. Тебе нравится московский период государства российского, мне нравится петербургский период государства российского, но оба и несомненно мы имеем в виду одну и ту же государственность. Не правда ли?
Ответа на этот вопрос не последовало.
– Итак, будем продолжать. Ты говоришь: "Эльзас-лотарингцы обязываются примириться с тем положением, в которое поставили их результаты войны, и не имеют права ссылаться на старое отечество, когда сила обстоятельств подарила их отечеством новым". Я говорю: "Эльзас-лотарингцы обязываются примириться с тем положением, в которое поставили их результаты войны, и не имеют права ссылаться на старое отечество, когда сила обстоятельств подарила их отечеством новым". Воля твоя, но мы говорим совершенно одно и то же!
– Ты позабыл исходные пункты... малость!
– То есть некоторые диалектические приемы...
– Нет, не диалектические приемы, а исходные пункты! Понимаешь! Исходные пункты!
– Ну да, я их-то и называю диалектическими приемами. Потому что если б наши исходные пункты были действительно разные, то и результаты их были бы разные. Но этого нет, а следовательно, при одинаковых результатах, какая же надобность знать, откуда кто отправляется: с Плющихи ли в столичном городе Москве, или с Офицерской в столичном городе Петербурге?
Это было ясно. В сущности, откуда бы ни отправлялись мои друзья, но они, незаметно для самих себя, фаталистически всегда приезжали к одному и тому же выходу, к одному и тому же практическому результату. Но это была именно та "поганая" ясность, которая всегда так глубоко возмущала Плешивцева. Признаюсь, на этот раз она и мне показалась не совсем уместною.
– К делу, Тебеньков, к делу! – сказал я, – говори, правы ли, по твоему мнению, члены германского рейхстага, так весело насмеявшиеся над Тейтчем?
– То есть, вот видишь ли: я никогда не одобряю неделикатности, и, по мнению моему, смеяться над огорченным человеком, во всяком случае, непростительно. C'est bourgeois, c'est mesquin [Это мещанство, это мелко (франц.)]. Но я не могу все-таки не сказать, что в настоящем случае смех имеет в свою пользу смягчающие обстоятельства. Помилуй! что же может быть постылее, как назойливость по поводу выеденного яйца! Люди занимаются делом, обсуждают новый закон о книгопечатании, предпринимают реорганизацию армий и флотов, а к ним лезут с протестами против бесповоротного удара судьбы!
– Но как же все это согласить с тем... ну, с тем циркуляром... в котором любовь к отечеству...
– Ah! mais entendons-nous, mon cher! [Но согласимся, дорогой мой! (франц.)] Отечество любить обязательно, но необходимо все-таки объяснить себе, что такое это обязательно любимое отечество?
– Что же, по-твоему, это отечество?
– Eh bien, nous у arrivons [Вот мы и добрались до сути (франц.)]. Возражая Плешивцеву, я упомянул о необходимости иметь точные сведения о географических границах. По моему мнению, вот вещь, необходимая для совершенно ясного определения пределов ведомства любви к отечеству, вот вещь, без точного знания которой мы всегда будем блуждать впотьмах.
– Так что, например, болгары, сербы... при настоящем положении границ Турецкой империи... должны считать Турецкую империю своим отечеством и должна любить ее?
– Позволь на этот раз несколько видоизменить формулу моего положения и ответить на твой вопрос так: я не знаю, должны ли сербы и болгары любить Турецкую империю, но я знаю, что Турецкая империя имеет право заставить болгар и сербов любить себя. И она делает это, то есть заставляетнастолько, насколько позволяет ей собственная состоятельность.
– Но это ужасно! стало быть, если граница России идет до Эмбы, я должен любить ее до Эмбы? а ежели эта граница идет только до Урала, то я должен любить только до Урала?
– C'est triste, mais e'est vrai [Печально, но это так (франц.)].
– Но Чебоксары?! Опомнись, душа моя! Ведь географические границы – дело наживное! Ведь таким образом Ветлуга, Малмыж, Чебоксары...
На этом наш разговор кончился. Мы пожали друг другу руки и разошлись. Но я уверен, что даже в холодной душе Тебенькова не раз после этого шевельнулся вопрос:
– Но Чебоксары?!
В ПОГОНЮ ЗА ИДЕАЛАМИ
Ежели мы, русские, вообще имеем довольно смутные понятия об идеалах, лежащих в основе нашей жизни, то особенною безалаберностью отличается наше отношение к одному из них, и самому главному – к государству. Даже люди культуры, как-то: предводители дворянства, члены земских управ и вообще представители так называемых дирижирующих классов, – и те как-то нерешительно и до чрезвычайности разнообразно отвечают на вопрос: что такое государство? Одни смешивают его с отечеством, другие – с законом, третьи – с казною, четвертые – громадное большинство – с начальством. Одни, чтоб отделаться от вопроса, прибегают к наглядным примерам: Швеция – государство. Великобритания – государство, Франция – государство и проч. Другие говорят: "Государство! смешно даже спрашивать, что такое государство!" Третьи таращат глаза, точно их сейчас разбудили. А если, сверх того, предложить еще вопрос: какую роль играет государство в смысле развития и преуспеяния индивидуального человеческого существования? – то ответом на это, просто-напросто, является растерянный вид, сопровождаемый несмысленным бормотанием. Одним словом, из всего видно, что выражение "государство" даже в понятиях массы культурных людей не представляет ничего определенного, а просто принадлежит к числу слов, случайно вошедших в общий разговорный язык и силою привычки укоренившихся в нем. А так как с подобного рода словами обыкновенно обращаются очень неряшливо, то выходит, что выражение, само по себе требующее определения, делается, вследствие частого употребления, определяющим, дающим окраску целой совокупности жизненных подробностей. Из коренного слова "государство" являются производные: "государственность", "государственный", которыми предводители дворянства щеголяют в клубах и на земских собраниях без малейшего стеснения, точно так, как бы слова эти были совершенно для них понятны.
Но ежели такая смута в понятиях о государстве господствует в дирижирующих классах общества, то что же должны мы ожидать от непросвещенной черни! Увы! здесь представление об этом важном предмете уже до такой степени отсутствует, что трудно даже вообразить себе простолюдина, произносящего слово "государство". Простолюдин, конечно, знает, что над ним поставлен становой пристав и что в известные сроки он обязан уплачивать подати и повинности; но какую роль во всем этом играет государство – этого он не знает. В этом отношении перед ним вечно стоит какое-то загадочное пространство, в которое он тревожно вперяет взоры, но ничего, кроме станового и повинностей, различить не может.
Благодаря этой путанице, мы вспоминаем о государстве (и даже не о государстве в собственном смысле этого слова, а о чем-то подходящем к нему) лишь тогда, когда нас требуют в участок для расправы. Что же касается до обыденной жизненной практики, то, кроме профессоров, читающих с кафедры лекции государственного права, да школьников, обязанных слушать эти лекций, вряд ли кто-нибудь думает о той высшей правде, осуществлением которой служит государство и служению которой должна быть всецело посвящена жизнь обывателей. Всякий живет и прозябает по-своему, сам по себе, и делает свое маленькое дело совершенно независимо от государственных соображений. Сапожнику, тачающему сапоги, даже и на ум никогда не придет, что его работа (да и вообще вся его жизнь) имеет какое-нибудь отдаленное отношение к тому общему строю вещей, который носит название государства. Много-много, ежели он сознаёт связь своей жизни с местным квартальным надзирателем, да и то не с квартальным надзирателем вообще, а именно с Иваном Иванычем, который поступил на место Петра Петровича и увеличил дани вдвое. Поэтому в таких захолустьях, куда квартальные не заглядывают вовсе, обыватели доходят до того, что вспоминают о своей прикосновенности к чему-то более обширному и для них загадочному только в минуты уплаты податей и повинностей. И вспоминают, конечно, невесело. В городах и в местах более населенных эта неряшливость сказывается, конечно, в меньшей степени; но ведь и здесь, как уже упомянуто выше, руководящею нитью обывательской жизни все-таки служат взгляды и требования ближайшего начальства, а отнюдь не мысль о государстве. Да и сами квартальные надзиратели, разве они, заставляя, например, обывателей очищать дворы от навоза, сознают, что этим удовлетворяют высшей правде, осуществляемой государством? Нет; они исполняют это, во-первых, потому, что так приказывает начальство, и, во-вторых, потому, что выполнение приказаний начальства есть их ремесло. А на вопрос: что такое государство? – и они могут, точно так же, как и прочие обыватели, отвечать только вздрагиванием. Начальство же с своей стороны...
Здесь я остановлюсь. Я знаю, мне могут сказать, что я отстал от своего века, что то, что я говорю об отсутствии чувства государственности в квартальных надзирателях, относится к дореформенному времени и что, напротив того, нынешнее поколение квартальных надзирателей очень тонко понимает, чему оно служит и какой идеи является представителем. На это я могу ответить следующее: я не выдаю своих мнений за безусловно истинные и первый буду очень рад успехам господ квартальных надзирателей на поприще государственности, ежели успехи эти будут доказаны. Но, признаюсь откровенно, я боюсь, что упомянутое сейчас возражение основано на недоразумении и что характеристическою чертою настоящего времени является не столько знание интересов и нужд государства и бескорыстное служение им, сколько самоуверенная и хлесткая болтовня, сопровождаемая знанием, где раки зимуют, и надеждою на повышение. Согласитесь, что между тем и другим имеется разница довольно существенная.
А между тем путаница в понятиях производит путаницу и в практической жизни. Тут мы на каждом шагу встречаемся и с взяточничеством, и с наглейшим обиранием казны, и с полным равнодушием к уплате податей, и, наконец, с особым явлением, известным под именем сепаратизма. И всё – следствие неясности наших представлений о государстве.
Обратитесь к первому попавшемуся на глаза чиновнику-взяточнику и скажите ему, что действия его дискредитируют государство, что по милости его страдает высшая идея правды и справедливости, оберегать которую призван сенат и Государственный совет, – он посмотрит на вас такими удивленными глазами, что вы, наверное, скажете себе: "Да, этот человек берет взятки единственно потому, что он ничего не слыхал ни о государстве, ни о высшей идее правды и справедливости". И действительно, все, что он знает по этому предмету, заключается лишь в следующем: 1) что действия его противоречат такой-то статье Уложения о наказаниях и, буде достаточно изобличены, подлежат такой-то каре;
2) что прежде нежели подпасть этой каре, нужно его судить, а прежде нежели судить, нужно еще предать суду;








