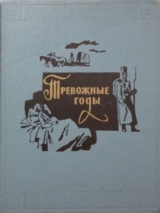
Текст книги "Тревожные годы"
Автор книги: Антон Чехов
Соавторы: Николай Лесков,Владимир Короленко,Михаил Салтыков-Щедрин,Всеволод Гаршин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 54 страниц)
– Это черт знает что! – фыркнул молодой генерал.
– Да, друг мой; еще я, благодаря пенсиону, могу кой-как концы с концами сводить... – заикнулся было старый генерал.
Но молодой генерал уже окончательно вышел из себя и не дал ему окончить.
– Вы! вы! "вы можете"! еще бы... вы! Вы посмотрите только, как вы живете... вы! это что? это что? – восклицал он бешено, указывая пальцами на хаос, царствовавший в комнатах, и на изрытый берег Вопли, видневшийся через отворенную балконную дверь.
Старый генерал ни слова не сказал в ответ. Он покорно понурил седую голову, словно сознавая себя без оправдания.
– Вы! – продолжал между тем молодой генерал, расхаживая тревожными шагами взад и вперед по кабинету, – вы! вам нужна какая-нибудь тарелка щей, да еще чтоб трубка "Жукова" не выходила у вас из зубов... вы! Посмотрите, как у вас везде нагажено, насрамлено пеплом этого поганого табачища... какая подлая вонь!
Наконец он остановился против отца и пустил ему в укор:
– Но объясните же наконец, каким образом это могло случиться? Говорите же! что такое вы тут делали? балы, что ли, для уездных кокоток устроивали? Говорите! я желаю знать!
– Мой друг! я... я... ты сам отчасти... В последнее время... требования денег...
– Ну да! вот это прекрасно! Я - виноват! Я – много требовал! Я!! Je vous demande un peu! [Прошу покорно! (франц.)] А впрочем, я знал зараньше, что у вас есть готовое оправдание! Я – должен был жить на хлебе и воде! Я - должен был рисковать своею карьерой! Я - должен был довольствоваться ролью pique-assiette'a [прихлебателя (франц.)] при более счастливых товарищах! Вы это, конечно, хотите сказать?
– Сохрани бог, мой друг! но...
– Без всяких "но"! Point de "mais", mon pere! [Никаких "но", отец! (франц.)] Я очень хорошо понимаю и вижу! Я зараньше знаю все, что вы можете сказать! О! я травленый зверь, mon pere, меня провести не так-то легко! Ионы... Агнушки! – вот куда дозволительно бросать деньги! Им дома покупают, им отдают домашнюю движимость, им – всё! А сын – что такое сын?! On l'engendre – et tout est dit! [Его родят – и кончено! (франц.)] И за это он обязывается почитать родителей и целовать у них ручки... ces chers parents! [дорогие родители! (франц.)] Нет, вы скажите, зачем вы, вместо того чтоб действовать, извлекать, добывать ценности, в нелепые пререкания с Стреловым вошли?
– Но, друг мой, он-то и есть та причина...
– Нет, вы, вы, вы! Он доставал вам деньги! он умел это! И, конечно, он сумел бы достать и теперь! он нашел бы, из чего извлечь пользу! Вы! разве вы имеете понятие о том, что у вас есть? Разве можно поверить, чтобы всё... чтобы не было... ну, пустоши какой-нибудь... une prairie... une foret... [какого-нибудь луга... какого-нибудь леса (франц.)] А он... в пререкания входит! Ему, изволите видеть, оскорбительно, что в виду его усадьбы поселился честный труженик... oui, un honnete travailleur [да, честный труженик(франц.)], который, быть может, потом и кровью...
Петенька так расчувствовался, что произнес последние слова почти дрожащим голосом ("au fond je suis democrate!" [в глубине души я – демократ! (франц.)] мелькнуло в его голове). В это же самое время он взглянул в окно.
– Э! да он там премило устроился! – воскликнул он, – целый городок... право!
– Он, друг мой, наш луг обманом...
– Обманом! а кто виноват! Вы, вы и вы! Зачем вы подписываете бумаги, не читая? а? На Иону понадеялись? а? И хотите, чтоб этим не пользовались люди, у которых практический смысл – всё? Mais vous etes donc bien naif, mon pere! [Уж очень вы наивны, отец! (франц.)]
В таком духе разговор продолжался около двух часов. Наконец это надоело Петеньке. Он оставил старика под бременем обвинений и, сказав: "il faut que je mette ordre a Гa" [мне придется навести здесь порядок! (франц.)], выбежал из дома во вновь разведенный сад. Там все смотрело уныло и заброшенно; редко-редко где весело поднялись и оделись листвой липки, но и то как бы для того, чтобы сделать еще более резким контраст с окружающею наготой. Желая пробраться в старый парк, который все еще сохранял прежнюю дикую прелесть, Петенька спустился было по заросшей дорожке к пруду, который в этом месте суживался, и через переузину был когда-то перекинут мост, но вместо моста торчали сгнившие столбики. Взбешенный, побежал он назад, прибежал на скотную – никого не нашел, потом на конный двор – опять никого не нашел, и наконец случайно набрел на мужика, спавшего под деревом, растолкал его ногою и дал волю сквернословию. К обеду пришел он усталый, озлобленный, с пересохшим горлом и без малейшего признака аппетита.
Обед прошел молчаливо. Петенька брезгливо расплескивал ложкой превосходные ленивые щи (старый генерал хотел похвастаться, что у него, несмотря на "катастрофу", в начале июля все-таки есть новая капуста) и с каким-то неизреченным презрением швырялся вилкой в соусе из телячьей головки. Вино тоже не понравилось ему, хотя это был добрый St-Julien, года четыре лежавший в подвале у генерала. Только по временам он прерывал тяжелое молчание (он, впрочем, не чувствовал его тяжести и фыркал совсем хладнокровно, как ни в чем не бывало), чтобы высказать поучение вроде следующего:
– Да-с, любезнейший родитель! Не могу похвалить ваши порядки! не могу-с! Пошел в сад – ни души! на скотном – ни души! на конном – хоть шаром покати! Одного только ракалью и нашел – спит брюхом кверху! И надобно было видеть, как негодяй изумился, когда я ему объяснил, что он нанят не для спанья, а для работы! Да-с! нельзя похвалить-с! нельзя-с!
– Они в это время отдыхают, мой друг, полдни... – попробовал оправдаться старый генерал.
– У вас, по-видимому, всегда полдни! И давеча полдни, и теперь полдни! Наспятся, потом начнут потягиваться да почесываться – опять полдни! Нет-с, этак нельзя-с! этак не управляют имениями! таким манером, конечно, никакого дохода никогда получить нельзя!
Генерал молча выслушивал эти реприманды, наклонив лицо к тарелке, и ни разу не пришло ему даже на мысль, что, несмотря на старость, он настолько еще сильнее и крепче своего пащенка, что стоило ему только протянуть руку, чтоб раздавить эту назойливую гадину.
После обеда, едва старик успел вымолвить: "Ну, теперь я пойду..." – как уже Петенька схватился за фуражку и исчез из дома.
Старый генерал удалился в спальную и, по обыкновению, лег отдохнуть. Но ему не спалось. Что-то горькое до остроты, до жгучести шевелилось в его душе, хотя он и сам ясно не сознавал, что именно. Сомнительно, впрочем, чтоб это было чувство негодования, возбужденное поведением сына при встрече после шестнадцатилетней разлуки; скорее это было чувство упорного самообвинения, Действительно, ведь он от отца своего получил полную чашу, а сам оставляет сыну – что? Правда, что через него прошла, так сказать, целая катастрофа; но все же, если б повести дело умненько... да, именно, если б умненько повести!.. если б не воевать с дворовыми, не полемизировать с Анпетовым, если б сразу обрезать себя по-новому, если бы не вверяться Антошке, если б... Генерал насчитал столько "если б", что об отдохновении нечего было и думать. Проворочавшись целый час с боку на бок, он встал с тяжелою головой и прежде всего спросил:
– Петр Павлыч не возвращался?
– Они к Антону Верельянову ушли, – услышал он в ответ.
Старик широко раскрыл глаза, словно сразу не понял.
А Петенька был действительно там, у того самого Антошки, которого одно имя производило нервную дрожь во всем организме старого генерала. Он решил этот вопрос очень скоро. Он сказал себе: "Все это вздор, в котором почтеннейший мой родитель может, если ему угодно, купаться хоть до скончания веков, но который я имею полное право игнорировать. Для меня ясно одно: что мне необходимы деньги и что на фатера надежда плоха. Антошка же человек оборотливый, у него должны быть деньги, и он обязывается снабдить меня ими. Прежде всего я должен знать наверное, нет ли еще каких-нибудь ресурсов... например, лес, земля... и если нет, то... ma foi! [ей-богу (франц.)] надо будет поступить решительно!"
Антошка словно предчувствовал, что молодой генерал посетит его, и едва лодка, перевезшая Петеньку, успела причалить к "Мыску", как уже Стрелов, облеченный в праздничный костюм, помогал ему выйти на берег.
– Если не ошибаюсь, Антон... – заговорил первый Петенька и остановился: он позабыл отчество Стрелова.
– Верельяныч-с, – поправил спокойно Стрелов, – вот и вы, ваше превосходительство, изволили в наши, можно сказать, Палестины пожаловать?
– Да, ненадолго. А вы тут премило устроились... право! – любезно беседовал Петенька, оглядывая ряд построек, выведенных Стреловым, – этот дом... двухэтажный... вы в нем, конечно, сами живете?
– Точно так, ваше превосходительство, благодарение богу-с. Всё от него, от создателя милостивого! Скажем, теперича, так: иной человек и старается, а все ему милости нет, коли-ежели он, значит, создателя своего прогневил! А другой человек, ежели, к примеру, и не совсем потрафить сумел, а смотришь, создатель все ему посылает да посылает, коли-ежели перед ним сумел заслужить! Так-то и мы, ваше превосходительство: своей заслуге не приписываем, а все богу-с!
– Гм... это похвально! Все должны бы так думать... Но вы, надеюсь, напоите меня чаем?
– Помилуйте, ваше превосходительство, с превеликим нашим удовольствием. Даже за счастие-с... как мы еще папаши вашего благодеяния помним... Не токма что чашку чаю, а даже весь дом-с... все, можно сказать, имущество... просто, значит, как есть...
– Да... вот видите! сейчас вы сказали, что помните добро, которое вам сделал отец, а между тем ссоритесь со стариком! Дурно это, Антон Валерьяныч, нехорошо-с! – не то укорял, не то шутил Петенька.
– Ваше превосходительство! Как перед богом, так и перед вами-с! С моей стороны, окромя, можно сказать, услуги... чтобы его превосходительству, значит, спокой был... Да помилуйте! кабы не они, что же бы я без них был? Червь-с, червяк – и больше ничего! Неужто ж я не обязан это помнить! Да я, можно сказать, и денно, и нощно... А что с ихней стороны – это действительно-с... Позвольте вам доложить! даже походя скверными словами обзывают! Иной раз, сядешь, этта, у окошка, плачешь-плачешь: "Господи! думаешь, с моей стороны и услуга, и старание... ну, крикни его превосходительство с того берега... ну, так бы... И за все за это награда – просто, можно сказать, походя..."
– Ну, ничего! я это устрою! я, собственно, и приехал... все эти недоразумения... Уладим, почтеннейший мой, уладим мы это!
– А уж как бы мы-то, ваше превосходительство, рады были! точно бы промеж нас тут царствие небесное поселилося! ни шуму, ни гаму, ни свары, тихо, благородно! И сколько мы, ваше превосходительство, вас здесь ждем – так это даже сказать невозможно! точно вот ангела небесного ждем – истинное это слово говорю!
Комната, в которую Стрелов привел Петеньку, смотрела светло и опрятно; некрашеный пол был начисто вымыт и снабжен во всю длину полотняною дорожкой; по стенам и у окон стояли красного дерева стулья с деревянными выгнутыми спинками и волосяным сиденьем; посредине задней стены был поставлен такой же формы диван и перед ним продолговатый стол с двумя креслами по бокам; в углу виднелась этажерка с чашками и небольшим количеством серебра. Стены были нештукатуренные, в чем, впрочем, Стрелов немедленно извинился, сказав, что еще "не изобрал времени".
– Вы ведь женаты, кажется? – спросил Петенька.
– В законе-с.
– Надеюсь, что познакомите меня с супругой.
– Помилуйте, ваше превосходительство! даже осчастливите-с! Авдотья Григорьевна! – крикнул он, приотворив дверь в соседнюю комнату, – чайку-то! да сами-с! сами подайте! Большого гостя принимаем! Такого гостя! такого гостя, что, кажется, и не чаяли себе никогда такой чести! – продолжал он, уже обращаясь к Петеньке.
Через минуту, с подносом, уставленным чашками, вошла или, вернее сказать, выплыла и сама Авдотья Григорьевна. Это была женщина среднего роста, белая, рассыпчатая, с сахарными грудями, с серыми глазами навыкате, с алыми губами сердечком, словом сказать, по-купечески – красавица.
– В Кашине у купца взял-с! – похвастался Стрелов, – старинные купцы их родители! Еще когда Москва всей Расее голова была – еще тогда они торговали!
– Очень, очень приятно, – любезничал Петенька, между тем как Авдотья Григорьевна, стоя перед ним с подносом в руках, кланялась и алела. – Да вы что ж это, Авдотья Григорьевна, с подносом стоите? Вы с нами присядьте! поговорим-с.
– Что ж, сядьте, Авдотья Григорьевна, коли его превосходительство такое, можно сказать, внимание к вам имеют! – поощрил Стрелов и, обращаясь к Петеньке, прибавил: – Оне у меня, ваше превосходительство, городские-с! в монастыре у монашены обучались! Какой угодно разговор иметь могут.
– Тем лучше-с, тем лучше-с, милая Авдотья Григорьевна! Вот мы и поговорим! Скучаете здесь, конечно?
– Нет-с, нам скучать некогда, потому что мы завсегда в трудах...
– Оне у меня, ваше превосходительство, к своему делу приставлены-с, потому, мы так насчет этого судим, что коли-ежели эта самая... хочь бы дама-с... да ежели по нашему месту без трудов-с... больших тут мечтаниев ожидать нужно-с!
– Да, это так; я это сам... А все-таки, милая Авдотья Григорьевна, сознайтесь, что скучно?
– Конечно, коли-ежели сравнить с Кашином... там одних церквей сколько! Опять же родители...
– А в Петербург хотелось бы? Ну, признайтесь, – хотелось бы?
– Нет уж, куда в Петербург! вот в Кашин... в Угличе тоже весело живут! ну, а Калязин – нет, кажется, этого города постылее!
– Ну, Углич там, Кашин, Калязин... А все, я думаю, сердечко-то так в Петербург и рвется?
– Нет уж... В одном только я петербургскиим господам завидую: что они царскую фамилию постоянно видеть могут!
– Это делает вам честь, сударыня. Что же! со временем, когда дела Антона Валерьяновича разовьются, может быть, вам и представится случай удовлетворить вашему похвальному чувству.
– Нет уж... А вот у нас, в Кашине, один купец в Петербурге был, так сказывал: каждый день, говорит, на Невскиим в золотых каретах...
– Ну, это-то он, положим, от себя присочинил, а все-таки... Знаете ли что? потормошите-ка вы Антона Валерьяновича вашего, да и махнем... а я бы вам всё показал!
– Нет уж... А вы и во дворце бывали?
– Сколько раз, милая Авдотья Григорьевна!
– И государя видеть изволили?
– Сколько раз! Однажды даже...
Петенька вдруг ощутил потребность лгать. Он дал волю языку и целый час болтал без умолку. Рассказывал про придворные балы, про то, какие платья носят петербургские барыни, про итальянскую оперу, про Патти; одним словом, истощил весь репертуар. Под конец, однако, спохватился, взглянул на часы и вспомнил, что ему надо еще об деле переговорить.
– А я ведь к вам, Антон Валерьяныч, между прочим, и по делу, – сказал он.
– Извольте только приказать, ваше превосходительство! Все силы-меры, то есть сколько есть силы-возможности...
– Скажите, неужели дела отца так плохи?
– Так плохи! так плохи! то есть как только живут еще его превосходительство! Усадьба, теперича, без призору... Скотный двор, конный... опять же поля... так худо! так худо!
– Да, и я уж заметил. Давеча бегал – нигде ни одной души не нашел. Один только мерзавец сыскался, да и тот вверх брюхом дрыхнет!
– Уж коли ваше превосходительство в короткую, можно сказать, минуту заметили, так уж нам-то что и говорить!
– А ведь знаете, генерал немного и вас обвиняет. Говорит, что вы весь лес за десять тысяч продали, тогда как...
– Первое дело, не десять, а пятнадцать тысяч я его превосходительству предоставил. Пять-то тысяч они на покупку Агнушке дома извели... Бог им судья, ваше превосходительство! конечно, маленького человека обидеть ничего не значит, однако я завсегда, можно сказать, и денно и нощно, словом, всем сердцем... Ваше превосходительство! позвольте вам доложить! что я такое? можно сказать, червь ползучий, а может быть, и того хуже-с! Стало быть, ежели теперича сказать про меня: "Антон, мол, Стрелов вор!" – кому в этом разе стыд будет? Мне ли, который, примерно, все силы-меры... или тому, кто меня обидел?
– Так-то так, голубчик, только вот отец говорит, что за одни Петухи можно было десять тысяч выручить, а вы там всего на четыре тысячи дров продали.
– А коли-ежели можно было десять тысяч выручить, кто же, позвольте вам доложить, им в этом препятствие делал? А при сем, позвольте, ваше превосходительство, еще одно слово сказать! Всё – от ихнего нетерпения-с. Может быть, возможно было бы и больше выручить, да что ж, ежели они внимать ничему не хотят! Кто я таков и кто они-с? позвольте вас спросить. Я раб-с, а они господин-с. Следственно, ежели теперича мой господин мне приказывает: "Антон! продай такую-то пустошь за пять тысяч!" И я, значит, видючи, что эта пустошь примерно не пять тысяч стоит, а восемь, докладываю: "Не лучше ли, мол, ваше превосходительство, попридержаться до времени?" И коли-ежели при сем господин мне вторительно приказывает: "Беспременно эту самую пустошь чтоб за пять тысяч продать" – должен ли я господина послушаться?
– Ну, все-таки... Впрочем, это дело прошлое, я не об том... Скажите, неужели же у отца совсем-совсем никакого лесу не осталось?.. Ну, понимаете, который бы продать было можно?
– Теперича, ваше превосходительство, ежели всю дачу наскрозь обшарить, кажется, ни одного путного дерева не найти. Для своего продовольствия кой-какой лесишко остался... Так, небольшое количество.
Петенька задумался.
– Ну, а земли? ведь есть же лишние?
– Земли, ваше превосходительство, по здешнему месту самый, значит, нестоющий товар. А при сем у папаши вашего в пустошах – один пенек-с. Даже поросли нет, потому что мужицкий скот бызвыходно теперича по порубке ходит.
Петенька задумался еще больше и испустил глубокое "гм"...
– Чудеса! – вымолвил он наконец.
– Уж так чудно! так чудно, ваше превосходительство! Первые, можно сказать, по здешней округе помещики были и вдруг...
– Ну-с, так я того... постараюсь как-нибудь вас со стариком уладить. Может быть, сообща что-нибудь и придумаем! – сказал Петенька, поднимаясь.
– Сообща – как же можно-с! сообща – завсегда лучше! Ладком да мирком – смотришь, ан шутя что-нибудь полезное и представится.
Петенька воротился домой довольно поздно. Старый генерал ходил в это время по зале, заложив руки за спину. На столе стоял недопитый стакан холодного чая.
– Там был? – спросил старик, указывая глазами на балкон.
– Там. А знаешь ли, фатер, ведь этот Антон – он вовсе...
– Ни слова, мой друг! – серьезно вымолвил старый генерал и, махнув рукою, отправился в спальную, откуда уже и не выходил целый вечер, прислав сказать сыну, что у него болит голова.
* * *
Несмотря на безмолвный протест отца, путешествия Петеньки на "Мысок" продолжались. Он сделал в этом отношении лишь ту уступку, что производил свои посещения во время послеобеденного сна старика. Вообще в поведении Петеньки и Стрелова было что-то таинственное, шли между ними какие-то деятельные переговоры, причем Петенька некоторое время не соглашался, а Стрелов настаивал и, наконец, настоял.
Дело в том, что Петеньке до зарезу нужно было иметь пятнадцать тысяч рублей, которые он и предположил занять или у Стрелова лично, или через его посредство, под документ. Стрелов и с своей стороны не прочь был дать деньги, но требовал, чтобы долговой документ был подписан самим стариком-генералом.
– Позвольте вам, ваше превосходительство, доложить! вы еще не отделенные-с! – объяснил он обязательно, – следственно, ежели какова пора ни мера, как же я в сем разе должен поступить? Ежели начальство ваше из-за пустяков утруждать – и вам конфуз, а мне-то и вдвое против того! Так вот, собственно, по этой самой причине, чтобы, значит, неприятного разговору промежду нас не было...
Петенька сделал еще несколько попыток к примирению отца с Стреловым, но всякий раз слышал один ответ: "Ни слова, мой друг!" – после чего старый генерал удалялся в спальную и запирался там.
Наконец Петенька решился: в одно прекрасное утро в кармане у Стрелова очутились четыре заемные обязательства, сроком на шесть месяцев, каждое в сумме пять тысяч рублей.
– Насилу уломал старика! – сказал молодой генерал, вручая документы Стрелову и получая от него, взамен их, пятнадцать тысяч рублей разношерстными пятипроцентными бумагами.
Миссия Петеньки была окончена, и он немедленно заторопился в Петербург. В последние два дня он уже не посещал "Мысок" и был почти нежен с отцом. Старый генерал, с своей стороны, по мере приближения отъезда сына, делался тревожен и взволнован, по-видимому тоже принимая какое-то решение.
Наконец наступила и минута разлуки. Экипаж стоял у крыльца; по старинному обычаю, отец и сын на минуту присели в зале. Старый генерал встал первый. Он был бледен, пошатываясь, подошел к сыну и слабеющими руками обнял его.
– Друг мой! – сказал он прерывающимся голосом, – служи! А это – вот...
С этими словами он сунул в карман Петеньки свое последнее выкупное свидетельство, с доверенностью на продажу его и на употребление вырученных денег по усмотрению.
Петенька поцеловал у папаши ручку, попробовал смигнуть с глаз слезу, но не смигнул, выбежал из комнаты и поспешно сел в экипаж.
* * *
Ровно через шесть месяцев генералу были предъявлены четыре документа, в которых значилось: "Я, нижеподписавшийся, повинен..." и в конце которых весьма отчетливо изображена была его собственноручная подпись: "Отставной генерал-лейтенант Павел Петров Утробин", с характерным росчерком, в форме вскинутой вверх лесы, к концу которой прикреплен крючок.
Генерал не сделал даже вида, что не понимает. Он спокойно признал документы за подлинные и предоставил приступить к описи и оценке Воплина.
Вечером того же дня он лежал в спальной, разбитый параличом.
ОПЯТЬ В ДОРОГЕ
Как-то не верится, что я снова в тех местах, которые были свидетелями моего детства. Природа ли, люди ли здесь изменились, или я слишком долго вел бродячую жизнь среди иных людей и иной природы, – как бы то ни было, но я с трудом узнаю родную окрестность.
С освобождением крестьян помещиками овладело какое-то страстное желание ликвидировать. Безденежье, неумелость, неприготовленность, гнет старых привычек и приемов – все соединилось, чтобы поддерживать в них это стремление. Выражение: "У нас все свое, некупленное" – сделалось уже преданием. Теперь у всех все купленное, и притом втридорога, потому что сделать нужные закупки оптом, в свое время и в своем месте, нет средств, а местный торговец-монополист на всё назначает цену по душе. Доходы же приходится собирать двугривенными и пятаками, да при этом иметь еще разговор с мировым судьей. Как будто впервые всех поразила мысль, что существует какой-то процесс, без которого пашня не производит хлеба, луга – травы. Прежде все это производилось без всякого процесса, так как-то, само собой; теперь – нет. Побьется-побьется помещик и придет к убеждению, что единственный для него выход – ликвидировать. А так как помещик здесь исстари был властелином лесов, полей, лугов и всего, что на земле, и всего, что под землею, то и выходит, что как будто вся местность разом ликвидирует...
В настоящее время все составляет бремя для помещика: и вода, и небо, и земля, и даже собственный, приходящий к разрушению дом. Пашни лежат запустелые, потому что хотя и пробовали сгоряча на первых порах пахать, но напахали себе в карман и бросили. Луга заезжены и потравлены, потому что прежнее властное слово "не сметь!" никого уж не сдерживает. Пустоши никому не нужны и поросли черт знает чем. Естественно, что при таком положении дела нет иного спасения, кроме ликвидации. Но – вопрос: как ликвидировать? Продать землю? – за землю дают грош, да и тот с рассрочкой. Воспользоваться выкупною ссудой? – она давно уж пущена в оборот, на затычку старинных помещичьих легкомысленностей. И вдруг все как-то разом прозрели: нашлась статья настоящая, серьезная – леса. Леса здесь были сплошные, береженые: на лес не было покупателя, потому что нечего было с ним делать. Лесом исключительно и притом беспошлинно пользовались крепостные крестьяне, которые курили смолу, сидели деготь, делали кадки, чашки, ложки и другой щепной товар. Теперь въезд в помещичий лес крестьянам возбранен, лесной промысел пал, и, конечно, надолго остался бы лес мертвым капиталом и для помещиков, и для края, если б на выручку не подоспели железные дороги, которые значительно приблизили пункты сбыта. Вместе с первым слухом о железных дорогах появились и личности из местных прасолов, кабатчиков, бывших приказчиков, бурмистров и прочего деревенского делового люда, которые начали неутомимо разъезжать на беговых дрожках от помещика к помещику, предлагая свое содействие по устройству ликвидации. Помещики ободрились. "Продать! продать! – завопили они хором, – продать, и затем бежать!"
Я еду и положительно ничего не узнаю. Вот здесь, на самом этом месте, стояла сплошная стена леса; теперь по обеим сторонам дороги лежат необозримые пространства, покрытые пеньками. Помещик зря продал лес; купец зря срубил его; крестьянин зря выпустил на порубку стадо. Никому ничего не жалко; никто не заглядывает в будущее; всякий спешит сорвать все, что в данную минуту сорвать можно. И вот, давно ли началась эта вакханалия, а окрестность уже имеет обнаженный, почти безнадежный вид. Пеньки, пеньки и пеньки; кой-где тощий лозняк.
– Нехороши наши места стали, неприглядны, – говорит мой спутник, старинный житель этой местности, знающий ее как свои пять пальцев, – покуда леса были целы – жить было можно, а теперь словно последние времена пришли. Скоро ни гриба, ни ягоды, ни птицы – ничего не будет. Пошли сиверки, холода, бездождица: земля трескается, а пару не дает. Шутка сказать: май в половине, а из полушубков не выходим!
И точно: холодный ветер пронизывает нас насквозь, и мы пожимаемся, несмотря на то, что небо безоблачно и солнце заливает блеском окрестные пеньки и побелевшую прошлогоднюю отаву, сквозь которую чуть-чуть пробиваются тощие свежие травинки. Вот вам и радошный май. Прежде в это время скотина была уж сыта в поле, леса стонали птичьим гомоном, воздух был тих, влажен и нагрет. Выйдешь, бывало, на балкон – так и обдает тебя душистым паром распустившейся березы или смолистым запахом сосны и ели.
– Помнишь, Софрон Матвеич, в прежнее время, бывало, в семицкий четверг девки венки завивали? – обращаюсь я к моему спутнику.
– Да и вы, чай, помните, как в троицын день в беленьких панталонцах, с цветочками в руках, в церковь хаживали?
Да, все это было. И девки венки завивали, и дворянские дети, с букетами пионов, нарциссов и сирени, ходили в троицын день в церковь. Теперь не то что пиона, а и дворянского дитяти по всей окрестности днем с огнем не отыщешь! Теперь семик на дворе, и не то что цветка не сыщешь, а скотина ходит в поле голодом!
– Вон она, Григорий Александровичева усадьба-то! – говорит между тем Софрон Матвеич, – была усадьба, а нынче смотри, как изныла!
В стороне стоит что-то длинное, черное, дом не дом, казарма не казарма. По одному наружному виду этого жалкого строения можно об заклад побиться, что в нем нет ни единой живой половицы, что в щели стен его дует, что на стенах этих обои повисли клочьями. Половина окон (в бывших парадных комнатах) закрыта ставнями; на другой половине ставни открыты, но едва держатся на петлях, вздрагивают и колотятся об стены, чуть посильнее подует ветер. Ни одного цельного стекла, а в иных местах вместо стекол вмазана синяя сахарная бумага. Нигде – ни плетня, ни изгороди. Бывший перед домом палисадник неведомо куда исчез – тоже, должно быть, изныл; бывший "проспект" наполовину вырублен; бывший пруд зарос и покрыт плесенью, а берега изрыты копытами домашних животных; от плодового сада остались две-три полувымерзшие яблони, едва показывающие признаки жизни...
Усадьба эта и в цветущие свои времена не могла назваться красивою, но зато она постоянно кипела млеком и медом. Григорий Александрыч Гололобов, старого закала помещик, не заботился ни о красоте, ни об удобствах, но зато его дом уподоблялся трактирному заведению, в котором всякий "прилично одетый" мог с утра до вечера пить и есть. Он даже не был особенно богат, и я очень хорошо помню, что соседи удивлялись, каким образом Григорий Александрыч от каких-нибудь ста душ мог так роскошествовать. Но он, по-видимому, слишком хорошо постиг тайны крепостного права и на все удивления относительно его житья-бытья объяснялся так:
– Сто душ – большое, батенька, дело! Сто душ – это сто хрибтов-с!
И продолжал кормить и поить до тех пор, пока не ударил грозный час...
– А жив еще Григорий Александрыч? – спрашиваю я.
– Живет! Вон окно-то – там и ютится. Был я у него намеднись, нагажено у него, насорено в горнице-то! Ни у дверей, ни у окон настоящих запоров нет; войди к нему ночью, задуши – никто три дня и не проведает! Да и сам-то он словно уж не в уме!
– Стар!
– Одно дело – стар, другое дело – разоренье. Теперь он, можно сказать, весь обнажился; ни у него хлеба, ни травы – хуже, не чем у иного мужика!
– Что так?
– Да сначала, как уставную-то грамоту писал, перестарался уж очень. Землю, коя получше, за собой оставил, ан дача-то и вышла у него клочьями. Тоже плут ведь он! думал: "Коли я около самой ихней околицы землю отрежу, так им и курицы некуда будет выпустить!" – ан вышло, что курицы-то и завсе у него в овсе!
– Чай, судится с крестьянами-то?
– Пытал тоже судиться, да смех один вышел: хоть каждый день ты с курицей судись, а она все пойдет, где ей лакомо. Надзору у него нет; самому досмотреть нет возможности, а управителя нанять – три полсотни отдать ему надо. Да и управителю тут ни в жизнь не углядеть, потому, в одном месте он смотрит, а в другом, гляди, озоруют!
– На чем же он порешил?
– Да не поймешь его. Сначала куда как сердит был и суды-то треклял: "какие, говорит, это праведные суды, это притоны разбойничьи!" – а нынче, слышь, надеяться начал. Все около своих бывших крестьян похаживает, лаской их донять хочет, литки с ними пьет. "Мы, говорит, все нынче на равной линии стоим; я вас не замаю, и вы меня не замайте". Все, значит, насчет потрав просит, чтоб потрав у него не делали.
– Ну, и что ж крестьяне... чувствуют?
– Нельзя сказать, чтоб очень. Намеднись один мужичок при мне ему говорит: "Ты, говорит, Григорий Александрыч, нече сказать, нынче парень отменный стал, не обидчик, не наругатель, не что; а прежнее-то, по-твоему, как?" – "А прежнее, говорит, простить надо!"
– Отчего ж бы и не простить, в самом деле.
– Отчего не простить! Вот и я в те поры тоже подумал: "Стар, мол, ты стар, а тоже знаешь, где раки зимуют! Прежнее чтобы простить, а вперед чтобы опять по-прежнему!" Да вот, никак, и сам он!








