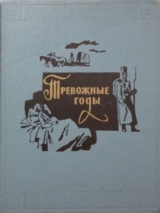
Текст книги "Тревожные годы"
Автор книги: Антон Чехов
Соавторы: Николай Лесков,Владимир Короленко,Михаил Салтыков-Щедрин,Всеволод Гаршин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 54 страниц)
– А ежели мужички не будут землю кортомить?
– Христос с тобой! куда ж они от нас уйдут! Ведь это не то что от прихоти: земля, дескать, хороша! а от нужды от кровной: и нехороша земля, да надо ее взять! Верное это слово я тебе говорю: по четыре на круг дадут. И цена не то чтобы с прижимкой, а самая настоящая, христианская...
– Да уж, Анисимушко! надо по-христиански! и их тоже пожалеть нужно!
– Известное дело, и их пожалеть, про что ж я и говорю. Дело хоть обоюдное, вольное, а все же по-христиански нужно. Потому, бог – он все видит. Ты думаешь, бог-от далеко, а он вон он! По-христиански – как возможно! не в пример лучше! И мужичкам хорошо, и тебе спокой! Так-то. Ты тужишь, что у тебя рублик-другой промеж пальцев будто ушел, ан бог-от тебя в другом месте благословит! А совесть-то и завсе у тебя спокойна. И уснул ты сладко, и встал поутру, никакого покору за собой не знаешь! Так ли я, сударыня, говорю?
– Так, Анисимушко! Я знаю, что ты у меня добрый! Только я вот что еще сказать хотела: может быть, мужички и совсем Клинцы за себя купить пожелают – как тогда?
– Что ж, сударыня, с богом! отчего же и им, по-христиански, удовольствия не сделать! Тысячу-то теперь уж дают, а через год – и полторы давать будут, коли-ежели степенно перед ними держать себя будем!
Опять минута задумчивости; глазки грустные-грустные; подбородочек вздрагивает.
– Так уж я куплю, Анисимушко, – вздохнув, решает Машенька.
– Купи, матушка! Ты моего мужицкого ума слушайся! Потоль и служу, поколь жив.
– А уж я-то как благодарна тебе, Анисимушко! так благодарна! так благодарна! Дети! Феогност! Нонночка! велите Анисимушку чаем напоить! С богом, Анисимушко!
В эту минуту у крыльца послышался звон колокольчика, и дети в зале всполошились.
– Дядя приехал! Дяденька! – кричали они.
* * *
Я не обманулся: это была действительно глыба. И притом глыба, покушавшаяся быть любезною и отчасти даже грациозною. Вошел он в гостиную как-то боком, приятно переплетая ногами, вынул из ушей канат, спрятал его в жилетный карман и подошел Машеньке к ручке.
– А вот и братец приехал! – рекомендовала меня Машенька, складывая губки сердечком.
– Приятно-с. Служить изволите?
– Нет, не служу, а так.
– Вот даже сейчас видно, что вы Марье Петровне родственником доводитесь! Оне тоже очень часто это слово "так" в разговоре употребляют.
Он улыбнулся и не без вожделения скосил глазами в сторону Машеньки, причем меланхолически склонил голову набок, так что я заметил под левою его скулой большой кружок английского пластыря, прикрывавший, очевидно, фистулу.
Однако замечание его смутило-таки меня. В самом деле, зачем я сказал это "так"? Что такое "так"? Что хотел я этим выразить? Вот Машенька – она действительно "так"; я и сам это давеча заметил. И для нее это нимало не предосудительно; ей это даже прелесть придает, потому что она женщина и притом вдова. Впрочем, и она, я подозреваю, больше ради прелести употребляет это слово, потому что Филофею оно нравится. А я-то зачем? Зачем я сказал: "так"? И может быть, я только не замечаю за собою, а на деле и частенько-таки этим словом щеголяю?
– Из Петербурга приехать изволили? – любезничал со мной Промптов.
– Из Петербурга.
– Большой город. Париж, говорят, обширнее; ну, да ведь то уж Вавилон. Вот мы так и своим уездным городом довольны. Везде можно пользу приносить-с. И океан, и малая капля вод – кажется, разница, а как размыслишь, то и там, и тут – везде одно и то же солнце светит. Так ли я говорю-с?
– Да, философы утверждают...
– Скажу хоша про себя: на нынешнее трехлетие званием председателя управы меня почтили. Дело оно, конечно, небольшое, а все же пользишку принести можно. Кто желает, и в таком деле пищу для труда найдет. А труд, я вам доложу, великая вещь: скуку он разгоняет. Вот и Марья Петровна трудятся – и им не скучно.
– Не скучно, а так... – как-то лениво промолвила Машенька, и на сей раз я положительно утверждаю, что она сказала это слово неспроста, а с желанием пококетничать с Филофеем.
– Вот видите: и сейчас оне это слово "так" сказали, – хихикнул он, словно у него брюшко пощекотали, – что же-с! в даме это даже очень приятно, потому дама редко когда в определенном круге мыслей находится. Дама – женщина-с, и им это простительно, и даже в них это нравится-с. Даме мужчина защиту и вспомоществование оказывать должен, а дама с своей стороны... хоть бы по части общества: гостей занять, удовольствие доставить, потанцевать, спеть, время приятно провести – вот ихнее дело.
Он опять меланхолически скосил глаза в сторону Машеньки и опять показал мне свою фистулу. "Знает ли она, что у него под скулой фистула?" – невольно спросил я себя и тут же, внимательно обсудив все обстоятельства дела, решил, что не только знает, но что даже, быть может, и пластырь-то на фистулу она сама, собственными ручками, налепляет.
– Следовательно, вам не скучно? – обратился я к нему.
– Докладываю вам: тружусь-с. Кабы не трудился, может быть, и скучал бы. Может быть, вино бы пить стал; может быть, в разврат бы впал...
– Ах, что вы, Филофей Павлыч! – испугалась Машенька.
– Не извольте, сударыня, беспокоиться: со мной этого случиться не может. Я себя очень довольно понимаю. Рюмка перед обедом, рюмка перед ужином – для желудка сварения-с... Я вот и табак прежде, от скуки, нюхал, – обратился он ко мне, – да, вижу, доброй соседушке не нравится (Машенька заалелась) – и оставил-с!
– И вы постоянно здесь живете?
– Оседлость имею – ну, и живу. Слава богу, послужил. Был в Т. советником губернского правления; теперь государя моего действительный статский советник в отставке – чего нужно! Не растратил, а, по милости божией, приобрел-с. На собственные, на трудовые денежки – наследственного-то мне родители не завещали! – купил здесь, поблизости, именьице, да и катаюсь взад да вперед: из имения в город, из города в именье. Вот к Марье Петровне на перепутье заезжаю. Чайком напоит, вареньицем полакомит, а иногда, грешным делом, и отдохнуть разрешит.
Он встал и опять, переплетая ногами, подошел Машеньке к ручке.
– Сегодня-то вы у нас ночуете? – спросила она.
– Всенепременно-с, ежели такая ваша милость будет. Я, сударыня, вчера утром фонтанель на обеих руках открыл, так боюсь: дорогой-то в шубе сидишь, как бы не разбередить.
– Давно уж я вам про эту фонтанель советовала... что ж, и удачно?
– Нельзя лучше-с. Сегодня утром рассматривал: материя идет – отличнейшая-с. И даже сейчас уж лучше на оба уха слышу!
– Ну, и слава богу!
Новое переплетанье ногами и новое чмоканье Машенькиной ручки.
– Так мы здесь и живем! – сказал он, усаживаясь, – помаленьку да полегоньку, тихо да смирно, войн не объявляем, тяжб и ссор опасаемся. Живем да поживаем. В умствования не пускаемся, идей не распространяем – так-то-с! Наше дело – пользу приносить. Потому, мы – земство. Великое это, сударь, слово, хоть и неказисто на взгляд. Вот, в прошлом году, на перервинском тракте мосток через Перерву выстроили, а в будущем году, с божьею помощью, и через Воплю мост соорудим...
– Ах, да, пожалуйста, устройте! Я намеднись чуть не провалилась! – пожаловалась Машенька.
– Ах, грех какой! А вы, сударыня, осторожнее! Вот изволите, сударь, видеть! всем до нас дело! Марье Петровне мосток построить, другому – трактец починить, третьему – переправочку через ручей устроить! Ан дела-то и многонько наберется. А вы, осмелюсь спросить, писательством, кажется, заниматься изволите?
– Да, пишу.
– И это полезно, ежели в учительном духе... Мы здесь, признаться, только "Московские ведомости" выписываем, так настоящую-то литературу мало знаем.
– Братец, кажется, больше по сатирической части, – вмешалась Машенька.
– Что ж, и сатира не без пользы, коли в пределах. Ridendo castigat mores [Смех исправляет нравы(лат.)] – так, кажется? Дело писателей – изображать, а дело правительства – их воздерживать. И в древности сатирики были: Ювенал, Персий, Кантемир. Даже Цицерон, временами, к сатире склонность выказывал, а Кантемира так сам блаженной памяти государь Петр Алексеич из Молдавии вывезти изволил. Современникам, конечно, не всегда приятны ихние стрелы были, а теперь, по прошествии времени, даже в средних учебных заведениях читать не возбраняется.
– А дорого, братец, за эти сатиры дают?
– Не знаю, как тебе сказать, голубушка, не считал.
– Писатели, сударыня, подробностей этих никогда не открывают. Хотя же и не отказываются от приличного за труды вознаграждения, однако все-таки желательнее для них, чтобы другие думали, якобы они бескорыстно произведениями своего вдохновения досуги человечества услаждают. Так, сударь?
– Ну, не совсем так, но, во всяком случае, ничего определительного на вопрос Машеньки ответить не могу. Вознаграждение за литературный труд так изменчиво, что точно определить его норму почти невозможно.
– А знаете ли, братец, ведь и у нас здесь прошлым летом чуть-чуть сатирик не проявился?
– Как же-с! молодой человек один, николо-воплинского иерея сынок. Кончил курс в семинарии, да вместо того чтоб невесту искать, начал здешний уезд в сатирическом смысле описывать. Однако мы сейчас же его сократили.
– Как так?
– В настоящее время он в дальние губернии, по распоряжению, выслан-с.
– Помилуйте! за что же!
– Возмущение от него большое выходило. Чуть что – сейчас опишет и начнет, это, распространять. Все мы, сударь, человеки и человеческим слабостям причастны, а он выше всех себя мнил. Вот мы его однажды подкараулили да к господину становому, вместе с писаниями, и представили.
– Однако трудненько-таки у вас сатирику жить!
– Жить у нас, сударь, всякому можно. И даже сатирами заниматься никто не препятствует. Вот только касаться – этого, действительно, нельзя.
Разговор принимал такой любопытный оборот, что я счел долгом своим поближе вглядеться в эту известковую глыбу. Слова Промптова пахнули на меня чем-то знакомым, хотя и недосказанным; они напомнили мне о какой-то жгучей задаче, которую я постоянно стирался обойти, но от разрешения которой – я это смутно чувствовал – мне ни под каким видом не избавиться. "Будь сатириком, но не касайся" – да ведь это оно, это то самое решение, которого никто до сих пор ясно не формулировал, но которое, несомненно, у всех на уме. В особенности в Петербурге на этот счет существует какое-то малодушное двоегласие. Язык говорит: "Кто же запрещает! обличайте! преследуйте! карайте!" – а в глазах в это время бегают огоньки. Ясно, что в результате такого двоегласия должно быть постоянное сатирическое беспокойство. Общечеловеческая слабость нашептывает сатирику: "Мужайся! верь словам! огоньки, – это "так"!" А опыт и подозрительность предостерегают: "Помни об огоньках, а слова – это "так"!"
И вот простой рыбарь, какой-то безвестный Филофей, взял на себя труд разрешить задачу ясно, просто и, главное, спокойно и без огоньков. "Будь сатириком, но не касайся!" – да, это оно, оно самое! Но вот вопрос: способен ли Филофей преподать надлежащие к выполнению своего афоризма наставления? Гм... конечно, с его точки зрения, он способен. Не он ли сейчас сказал: "Подкараулили да к господину становому, вместе с писаниями, и представили"? Вот вам и исполнение. Только разрешает ли оно самую задачу? Создаст ли оно такого сатирика, который и сатиры будет писать, и в то же время "касаться" не станет? В этом-то я и позволю себе усомниться. Да и в Петербурге, по-видимому, тоже сомневаются, а вследствие этого и допускают "огоньки" в виде пальятивной меры. Пусть, мол, до времени огоньки служат предостережением, а вот ежели... Что "ежели"?
Под влиянием этих мыслей я еще пристальнее взглянул на высившуюся передо мною известковую глыбу: не скажет ли она еще что-нибудь, не разъяснит ли? Но, увы! глыба так заурядно, почти бессмысленно покачивалась, вместе с креслом, в котором она сидела, и при этом так маслено косила глазами по направлению к Машеньке, что мне сделалось ясно, что она ничего не сознавала. Афоризм вырвался у нее из глотки "так", без понимания, и даже без малейшей претензий на дальнейшее развитие. Он представлял собою одну из тех "благонамеренных речей", которыми так изобилует среда рыбарей. Так что я, который намеревался просить разъяснений по этому поводу и даже не прочь был вступить в спор, я сразу же убедился, что самое лучшее в этом случае – это последовать мудрому правилу: не тронь навоза – не воняет.
– А знаете ли что, Филофей Павлыч, – догадалась между тем Машенька, – ведь Коронат-то у нас, пожалуй, сатириком будет?
– Разве расположение выказывает?
– Нет, вообще... Безнравственность в нем какая-то... из всех детей он какой-то... Вон и братец давеча видел...
– А вы бы, сударыня, березовой кашицей почаще... И я знавал эти примеры: в детстве не остепеняли, а со временем, от этой самой родительской слабости, люди злодеями делались.
– Ах, и я этого боюсь! боюсь я за него!
– Самое главное, сударыня, в этом разе – все силы-меры употреблять, чтоб из ребенка человек вышел. Чтобы к семейству привязанность имел, собственность чтобы уважал, отечество любил бы. Лоза, конечно, прямо этому не научит, но споспешествовать может.
– Да ведь и я тоже... вот и братец... Ах, кстати! ведь братец с Чемезовом-то кончать хочет!
– Что так-с! – огорчился Филофей, – а мы было думали, что вы здесь оснуетесь! С сестрицей бы, по соседству, видались! очень бы приятно!
– Неудобно мне.
– Очень, очень было бы приятно. А между тем и имение... хорошенькое у вас, сударь, именьице! Полезные местечки есть! Вот кабы вы "Кусточков" мужичкам не отдали – и еще бы лучше было!
– И я ему то же говорила...
– Да-с, близок локоть, да не укусишь. Это бы уж Лукьянычево дело вас предостеречь. Он обязан был разъяснить вам, что "Кусточки" – это, так сказать, узел-с...
– Слушайте! да как же я мог не отдать "Кусточков"? Ведь чемезовским крестьянам без этой земли просто жить нельзя!
– А они бы у вас кортомили ее. Вы бы христианскую цену назначили, а они бы пользовались. И им бы без обиды, и вам бы хорошая польза была.
– Да ведь они имели право на "Кусточки"! "Право" – ясно ли это, наконец! Вы сами сейчас говорили, что собственность уважать надо, а по разъяснениям-то выходит, что уважать надо не собственность, а прижимку!
Высказав это, я сейчас же догадался, что очень опрометчиво поступил, употребив слово "прижимка". Это было и слишком резко, и в то же время слишком мягко. Резко потому, что обличало во мне человека, с которым "попросту" (мы с ним "по-родственному", а он – и т.д.) объясняться нельзя; мягко потому, что Филофей, конечно, отлично понимает, что на уме-то у меня совсем другое слово было, да только не сказалось оно. Тем не менее слово произвело свой эффект: Машенька вдруг съежилась, Филофей отвратительно перекосил рот. Минуты на две разговор совершенно упал.
– А какая сегодня погода отличнейшая! – первый прервал молчание Промптов, – мягкость какая, тишина-с!
– Да, давеча, как молотили, я выходила – очень было хорошо! – отозвалась Машенька.
– Для меня, как путешественника, в особенности такая погода приятна, – с своей стороны присовокупил и я.
– Да вот и в прошлом году погода... – начала было Машенька, но не кончила, слегка зевнула и потянулась.
Молчание.
– А сколько бы вы за чемезовскую землю получить желали? – вдруг обратился ко мне Промптов, словно бы его озарила новая мысль.
– Я ведь с крестьянами в соглашение войти желаю.
– Так-с. С крестьянами – на что лучше! Они – настоящие здешние обыватели, коренники-с. Им от земли и уйти некуда. Платежи вот с них... не очень-то, сударь, они надежны! А коли-ежели по христианству – это что и говорить! С богом, сударь! с богом-с! Впрочем, ежели бы почему-нибудь у вас не состоялось с крестьянами, просим иметь в виду-с.
Он боком повернул голову в мою сторону и любезно искривил рот в улыбку.
– Ах, что вы! – вступилась Машенька, – братцу ведь Осип Иваныч пять тысяч давал!
– Слышали и об этом-с. Впрочем, это в прошлом году Осип Иваныч такую цену давал, а нынче вряд ли. Пять тысяч – много денег-с!
– А по-вашему какая же будет цена?
– По-моему, три с половинкой, много четыре. Нет спору, есть в вашей даче местечки полезные, да покупатель ведь надвое рассчитывает: будут прибыли – мои; а убытки будут – тоже мои,
– Поэтому-то я и думаю, что с крестьянами все-таки прямее дело вести. Если и будет оттяжка в деньгах, все-таки я не более того потеряю, сколько потерял бы, уступив землю за четыре и даже за пять тысяч. А хозяева у земли между тем будут настоящие, те, которым она нужна, которые не перепродадут ее на спекуляцию, потому что, как вы сами сейчас же высказались, им и уйти от земли некуда.
– Что говорить! с крестьянами кончить – святое это дело!
Машенька опять зевнула и потянулась; било девять часов.
– Ну-с, а теперь пора тебе, Машенька, и покой дать! – сказал я, вставая и отыскивая шапку. Машенька как бы встревожилась.
– Братец! куда же? а ночевать? Я ведь надеялась, что и вечерок вместе приятно проведем! – молвила она, выражая глазками знакомую мне грусть ни об чем.
Но я уклонился и даже настоял, чтоб она не провожала меня в переднюю, что она и исполнила, слегка, разумеется, покобенившись. Одеваясь, я слышал, как она произнесла в зале:
– А Анисимушко сегодня Клинцы для меня приторговал!
* * *
Возвратившись в Чемезово, я сообщил Лукьянычу, что Промптов мне за землю четыре тысячи надавал. Он даже лопатками передернул, словно спина у него зачесалась от этого известия.
– Пронтов-то этот, – сказал он, – и с Марьей Петровной, прошлым летом, все по грибы в Филипцево да в Ковалиху ездили. Раз с пяток были.
– Ну?
– То-то. Чудно мне это тогда показалось. Чтой-то, думаю, наши грибы им полюбились! Своих рощей девать некуда, а они всё к нам да к нам. А они вон что!
– Да, похоже на то, что присматривались.
– Так вот что, сударь. Сегодня перед вечером я к мужичкам на сходку ходил. Порешили: как-никак, а кончить надо. Стало быть, завтра чем свет опять сходку – и совсем уж с ними порешить. Сразу чтобы. А то у нас, через этого самого Пронтова, и конца-краю разговорам не будет.
НЕПОЧТИТЕЛЬНЫЙ КОРОНАТ
Прошло лет шесть после того, как я в последний раз посетил родное Чемезово, и я совершенно утерял из вида Машеньку. Два раза, впрочем, она сама напоминала мне о себе. В первый раз уведомила о своем вступлении во вторичный законный брак с Филофеем Павлычем Промптовым, тем самым, которому она, еще будучи вдовою после первого мужа, приготовляла фонтанели на руки и налепляла пластырь на фистулу под левою скулой. Во второй раз писала об отъезде в Петербург двоих старших сыновей: Феогноста и Короната, для поступления в казенные заведения, и просила меня принять их в свое "родственное расположение". "Поручаю тебе, мой родной, – писала она, – моих двоих молодцов, коих и прошу принять в свое родственное расположение; я же, с своей стороны, им лично внушала, чтобы они как добронравным поведением, так и прилежанием, всемерно старались оное заслужить. Как мать и христианка, я так рассудила, чтобы каждый из них тот путь избрал, который всего вернее к счастию ведет. И так как Феогностушка – мальчик характера откровенного, то я и заключила из сего, что он ближе всего найдет свое счастие в кавалерии; Коронатушку же, как мальчика скрытного и осмотрительного, заблагорассудила пустить по юридистической части. Что же касается до Смарагдушки, то пускай он, по молодости лет, еще дома понежится, а впоследствии, ежели богу будет угодно, думаю пустить его по морской части, ибо он и теперь мастерски плавает и, сверх того, имеет большую наклонность к открытиям: на днях в таком месте белый гриб нашел, в каком никто ничего путного не находил" и т.п.
И действительно, вслед за вторым письмом явились ко мне Феогност и Коронат, шаркнули ножкой, поцеловали в плечико и в один голос просили принять их в свое родственное расположение, обещаясь, с своей стороны, добронравием и успехами в науках вполне оное заслужить. При этом я узнал от них, что они, по приезде в Петербург, поселились у какого-то отставного начальника отделения департамента податей и сборов, с которым еще покойный отец их, Савва Силыч Порфирьев, состоял в связях по откупным делам, и что этот же начальник отделения обязался брать их из "заведений" по праздникам к себе.
Однако ж племянники не баловали меня визитами. Феогностушка еще заходил по временам; придет, брякнет саблею, скажет: "а меня, дяденька, вчера чуть в карцер не посадили" – и убежит. Но Коронат приходил не больше двух-трех раз в год, да и то с таким видом, как будто его задолго перед тем угнетала мысль: "И создал же господь бог родственников, которых нужно посещать!" Вообще это был молодой человек несообщительный и угрюмый; чем старше он становился, тем неуклюжее и неотесаннее делалась вся его фигура. Придет, бывало, сядет как-то особняком, закурит папиросу и молчит. Смотрит всегда исподлобья, иногда вдруг замурлычет или засмеется, словно хочет сказать что-то очень колкое, но ничего не выходит. К удивлению, я и с своей стороны чувствовал себя не совсем ловко в его присутствии. И угрюмое молчание, и отрывистые ответы, которые он давал на мои вопросы, – все явно показывало, что он тяготится присутствием в моем доме и что, будь он свободен, порог моей квартиры никогда не увидел бы ноги его. Сначала я думал, что он или неумен, или запуган, но впоследствии, по многим признакам, убедился, что отчужденность его обдуманная, сознательная. Очевидно, в голове этого юноши происходила какая-то своеобразная работа, но он считал ее настолько принадлежащею исключительно ему, что не имел ни малейшей охоты посвящать всякого встречного в ее тайны. А на меня он, по-видимому, именно смотрел как на "встречного", то есть как на человека, перед которым не стоит метать бисера, и если не говорил прямо, что насилует себя, поддерживая какие-то ненужные и для него непонятные родственные связи, то, во всяком случае, действовал так, что я не мог не понимать этого.
И вот в одно из воскресений (это было уже лет пять спустя после того, как он определился в заведение по "юридистической" части) Коронат пришел ко мне. На этот раз он явился еще загадочнее, нежели когда-либо. По обыкновению, отыскал дальний угол, сел и закурил папироску, но уже по тому, как дрожала его рука, зажигая спичку, я заключил, что он чем-то сильно взволнован. Некоторое время он молчал; но плечи его беспрестанно вздрагивали, и он то обращал ко мне свое лицо, как будто и решался и не решался что-то высказать, то опять начинал смотреть прямо, испытуя пространство. Наконец он вдруг выпалил:
– А я, дядя, в Медицинскую академию хочу!
– А школу как? побоку? – спросил я, несколько испуганный этим внезапным решением.
– Стало быть – побоку.
– Христос с тобой! что же за причина?
– Это было бы долго рассказывать, да притом и неинтересно для вас. Словом сказать – я решился.
Я был совсем озадачен. Меня всегда пугала та стремительность, с которою нынешние молодые люди принимают самые радикальные решения и приводят их в исполнение. Придет молодой человек (родственники у меня между ними есть), скажет: «Прощайте! я завтра за границу удираю... совсем!» Думаешь, что он шутку шутит, ан, смотришь, и действительно завтра его след простыл! Или скажет: «Прощайте! я на днях туда нырну, откуда одна дорога: в то место, где Макар телят не гонял!» Опять думаешь, что он пошутил, – не тут-то было! сказал, что нырну, и нырнул; а через несколько месяцев, слышу, вынырнул, и именно в том месте, где Макар телят не гонял. Словом, исполнил в точности: стремительно, быстро, без колебаний. Я сначала полагал, что это у них так делается: ни с того ни с сего, взял да и удрал или нырнул; но потом убедился, что в них это мало-помалу накапливается. Мы, старцы сороковых годов, видим, как они молчат (при нас они действительно молчат, словно им и говорить с нами не о чем), и посмеиваемся: вот, мол, шалопаи! чай, женский вопрос, с точки зрения Фонарного переулка, разрешают! А они совсем не о том: у них просто в это время накапливается. Накопится, назреет, и вдруг бац! – удеру, нырну, исчезну... И как скажет, так и сделает.
И все-таки повторяю: как ни обыденна в нынешнее время эта внезапность решений, она всегда меня пугает. И странно, и жутко. Он, молодой-то человек, давно уж порешил, что ему там лучше – благороднее! – а нам, старцам, все думается: "Ах, да ведь он там погибнет!" И в нас вдруг просыпается при этом вся сумма того теплого, почти страстного соболезнования к гибнущему, которым вообще отличается сердобольная и не позабывшая принципов гуманности половина поколения сороковых годов. Сколько раз я, на свою долю, принимался и уговаривать, и отклонять – и все напрасно.
– Послушайте, молодой человек! – говорил я, – что вам за охота гибнуть?
– Это было бы слишком долго объяснять, да для вас ведь оно и неинтересно.
– Но отчего же! Если б с вами говорил человек равнодушный или зложелательный, перед которым вам было бы опасно душу открыть...
– Извольте-с. Если вы уж так хотите, то души своей хотя я перед вами и не открою, а на вопрос отвечу другим вопросом: если б вам, с одной стороны, предложили жить в сытости и довольстве, но с условием, чтоб вы не выходили из дома терпимости, а с другой стороны, предложили бы жить в нужде и не иметь постоянного ночлега, но все-таки оставаться на воле, – что бы вы выбрали?
Вопрос странный, почти необыкновенный; но тем не менее, коль скоро он однажды стоит перед вами, то не ответить на него невозможно. Стараешься, разумеется, как-нибудь увильнуть, обратить дело в шутку, но ведь есть совопросники, с которыми даже шутить нельзя. "Отвечайте, сударь, прямо; не увертывайтесь, а прямо говорите: что бы вы выбрали, сытный ли дом терпимости или голодную свободу?" Ну и отвечаешь; отвечаешь, конечно, в таком смысле, чтобы самому себя лицом в грязь не ударить и аттестат себе хороший получить. Оно недурно, положим, в довольстве да в сытости пожить, да ведь дернула же нелегкая к хорошему-то житью дом терпимости пристегнуть. Дом терпимости! каково-с?!
– Стало быть, по-вашему, мы в доме терпимости живем? – попробуешь тоже ответить вопросом на вопрос.
– Стало быть-с.
– И следовательно, я, который...
– Следовательно-с.
И только. Ни отступления, ни раскаяния, ни даже самых общеупотребительных формул учтивости – ничего. Вот и старайся тут смягчать, да сглаживать, да компромиссы отыскивать! Что бы, например, стоило сказать: "Помилуйте! это я не об вас говорю!" или хоть так: "О присутствующих, дескать, не говорят и т.д.", – нет, так-таки и прет: "Стало быть-с!" Ничем, даже простою, ничего не стоющею вежливостью поступиться не хочет! Посмотришь-посмотришь на эту необузданность, да и скажешь себе: "Нет, лучше с этими господами не разговаривать! Подальше от них – да-с! Пускай они сами, как знают, карьеру свою делают, а мы, старцы, карьеру свою, уж сделали... да-с!"
А как бы покойно жить на свете, если б этой стремительности, этого самомнения не было! Шел бы всякий по своей части, один по кавалергардской, другой по юридической, третий по морской, а маменька Марья Петровна сидела бы в Березниках да умилялась бы, на деток глядючи! И сделался бы Коронатушка адвокатом, прослезился бы он в Мясниковском деле и уж наверно упал бы в обморок по делу о поджоге овсянниковской мельницы. И был бы он малый с деньгами, обзавелся бы домком, женился бы и вечером, возвратясь из суда, говорил бы: "А я сегодня, душенька, Языкова подкузьмил: он – в обморок, а я, не будь глуп, да выкликать начал!" И вдруг, вместо всего этого, – хочу в Медицинскую академию!
– Ты бы, однако ж, прежде обдумал свое решение, – обратился я к Коронату после минутного молчания.
– Отчего же вы полагаете, что я не обдумал его?
– Ты, конечно, знаешь, что мать предназначила тебя не в медики, а по юридической части...
– А ежели бы она меня по танцевальной части предназначила?
– Позволь, душа моя! Как ни остроумно твое сближение, но ты очень хорошо знаешь, что юридическая часть и танцевальная – две вещи разные. Твоя мать, желая видеть в тебе юриста, совсем не имела в виду давать пищи твоему остроумию. Ты отлично понимаешь это.
– Но я еще лучше понимаю, что если б она пожелала видеть во мне танцмейстера, то это было бы много полезнее. Я отплясывал бы, но, по крайней мере, вреда никому бы не делал. А впрочем, дело не в том: я не буду ни танцмейстером, ни адвокатом, ни прокурором – это я уж решил. Я буду медиком; но для того, чтоб сделаться им, мне нужно пять лет учиться и в течение этого времени иметь хоть какие-нибудь средства, чтоб существовать. Вот по этому-то поводу я и пришел с вами переговорить.
– А мать знает о твоем намерении оставить школу?
– Знает.
– Что же она пишет?
– А вот прочтите.
Он вынул из кармана и подал мне письмо, в котором я прочитал следующее:
"Любезный сын Коронат! Намерение твое оставить юридистическую часть и пойти по медицинской весьма меня удивило. Причину столь внезапного твоего предпочтения, впрочем, очень хорошо понимаю: ты и прежде сего был непочтительным сыном, и впредь таковым быть намерен. Ежели так, то пусть будет воля божия! Хотя нынче и в моде родителей не почитать, но я таковой моды не признаю, и правила мои на этот счет очень тверды. Я всегда была христианкой и матерью и всегда буду. Следовательно, ежели ты упорствуешь в непочтительности, то и я в своих правилах остаюсь непреклонною. И согласия моего на твою фантазию не изъявляю, а приказываю, как христианка и мать: продолжай по юридистической части идти, как тебе от меня и от бога сие предназначено. В противном же случае надейся на себя, а на меня не пеняй. За сим, да будет над тобой божие и мое благословение. Я же остаюсь навсегда неизменно тебя любящая -
Мария Промптова"
– Это – ответ матери на мое письмо, – объяснил Коронат, когда я окончил чтение. – Я просил ее давать мне по триста рублей в год, покуда я не кончу академического курса. После я обязуюсь от нее никакой помощи не требовать и, пожалуй, даже возвратить те полторы тысячи рублей, которые она употребит на мое содержание; но до тех пор мне нужно. То есть, коли хотите, я могу обойтись и без этих денег, но это может повредить моим занятиям.
Он остановился и взглянул на меня; я тоже глядел на него, волнуемый смутными подозрениями. Я знал, что Коронат не денег от меня хочет: на этот счет он всегда был очень брезглив. Один раз только, когда он был еще в первом классе, он прислал ко мне училищного сторожа с запиской: "для некоторого предприятия необходимо 60 копеек серебром, которые и прошу вручить подателю сего; я же при первом удобном случае возвращу". И возвратил. Но ежели ничто не угрожало моим капиталам, то явно, что существовало какое-то посягательство на мое спокойствие, что на меня возлагалась надежда, быть может, сопряженная с требованием вмешательства. А между тем идеал всей моей жизни именно в том и состоял, чтобы никогда ни во что не вмешиваться. Вмешательство! – при одном этом слове меня кидало в дрожь! Поди, разговаривай, выслушивай тупоумные возражения, старайся опровергнуть мысли, в которых даже ухватиться не за что, – сколько тут пошлого празднословия, мелочных уколов, дрязг, утомительной суетни! А я уж и стар, и устал. Состарелся – сам не знаю как; устал – сам не знаю отчего. Ах, лучше бы, во сто крат лучше бы, если бы он у меня денег попросил, – право, я с удовольствием пятьдесят, сто рублей отдал бы! Деньги – это, во-первых, не сопряжено ни с какими личными хлопотами: вынул из кармана, отсчитал – и пошел себе по Невскому щеголять; а во-вторых – это жертва, которую всякий оценить и сосчитать в состоянии. Давши деньги, можно, для облегчения сердца, кой-кому и пожаловаться. Вот, мол, самому были нужны, а бедный родственник пришел да и утащил из-под носа. Так нет же! не нужно ему, изволите видеть, денег, а поди хлопочи, переливай из пустого в порожнее, бей языком, расстроивай себе печень – и все ради того, чтоб в результате оказался пшик. Эх! сказано было: "Иди по юридической части – и иди! А если претит юридическая часть – ну, сам и устроивайся, а других не беспокой". Очень уж вы строги, господа, а между тем мало ли между юристами хороших людей! Да и не только между юристами – даже между шпионами бывают такие, которые возвышенную душу имеют. Я знал одного шпиона: придет, бывало, со службы домой, сядет за фортепьяно, начнет баллады Шопена разыгрывать, а слезы так и льются, так и льются из глаз. – Душа у него так и тает, сердце томительно надрывается, всемогущая мировая скорбь охватывает все существо, а уста бессознательно шепчут: "Подлец я! великий, неисправимый подлец!" И что ж, пройдет какой-нибудь час или два – смотришь, он и опять при исполнении обязанностей! Быстр, находчив, бодр, при случае глубокомыслен, при случае сострадателен, при случае шутлив. А потом – и опять Шопен, и опять слезы, томительные, сладкие слезы...








