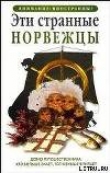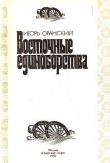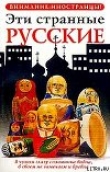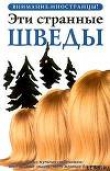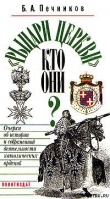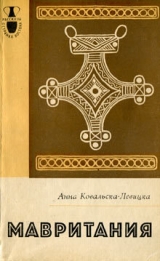
Текст книги "Мавритания"
Автор книги: Анна Ковальска-Левицка
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
В таких мастерских ничего нельзя купить. Все делается на заказ. Ничего нельзя приобрести и на стоянках, потому что кочевники возят с собой лишь жизненно необходимые предметы. Единственное место, где можно приобрести что-то для музея, – это базар какого-нибудь крупного ксара.Здесь есть все, что душе угодно: от предметов первой необходимости до уникальных украшений. При кочевом образе жизни имущество даже богатой семьи весьма скромно и настолько ограниченно, что собрать полную коллекцию мавританской утвари совсем нетрудно. Единственная проблема – это транспортировка таких неудобных вещей, как седла, особенно женские, поскольку только для перевозка одного такого «сооружения» необходим большой пикап.
Относительно скромное место в жизни мавританского общества занимают гриоты(на языке хасания игауэн,единственное число иггиу) – музыканты, певцы, поэты, импровизаторы и фокусники. Так же как и ремесленники, они принадлежат к обособленной касте. Нечего и думать о женитьбе гриота на женщине из другой общественной группы или о браке гриотки с мужчиной не из ее касты. Как и ремесленники, они относятся к презираемому клазсу, не имеют никакого общественного положения. Гриоты окружены суеверным страхом, подобно тем, кто занимается колдовством, и служит темным силам. Презрение к гриотам выражается в том, что их даже не хоронят на кладбищах. В пустыне их могилы находятся далеко за пределами ксара; в прибрежных районах гриотов оставляют в сгнивших пнях баобабов.
При дворах эмиров гриотов держали для развлечения повелителя, гостей, для прославления его дел. Отсюда и пошла их слава как мавританских историков, воспевавших в поэмах своего господина. Но в Мавритании, где историей занимались и ученые марабуты, гриоты не приобрели такого положения, как при мусульманских дворах Черной Африки. Там их роль состояла прежде всего в сохранении традиций династий и государства.
При дворе эмиров держали только самых талантливых гриотов. Большинство их вели независимую жизнь, а средства на существование добывали пением и танцами на свадьбах и других семейных торжествах, куда их приглашали. Основные музыкальные инструменты у гриотов – флейта и бубен. В настоящее время они начинают использовать и щипковые инструменты, но это только в городах. Роль гриотов не ограничивается музыкой, пением и танцами. Они одновременно выступают как бы организаторами развлечения, создают веселое настроение, песней прославляют хозяина и тех гостей, которые им щедро платят, высмеивают скупых. Женщины-гриоты тоже поют, играют и танцуют, развлекают собравшихся различными мимическими сценками. Они пользуются гораздо большей свободой, чем женщины высших классов.
Некоторые гриоты, особенно талантливые поэты и музыканты, прославились на всю страну. Их приглашали на все значительные торжества, чтобы придать им блеск импровизированными песнями. Говорят, в начале XIX века жил гриот, настолько знаменитый и пользовавшийся успехом, что одни из эмиров предоставил ему право взимания пошлин с проходивших караванов. По это случалось не так уж часто.
В новой Мавритании роль гриотов, несомненно, изменилась. Доказательством тому служит прославленный певец, которого можно постоянно слушать в передачах радиостанции Нуакшот. Однако не столь талантливые гриоты долго еще будут выполнять роль народных музыкантов, и общество не скоро избавится от смешанного чувства страха и презрения к ним.
Гриота можно узнать с первого взгляда. Хотя пи внешне, пи костюмом он не отличается от среднего мавританца, его выдает поведение. Одного гриота мы встретили на базаре в районе Реки и но обратили бы на него внимания, если бы он, увидев меня, вдруг не начал пародировать мои движения, вызывая удовольствие толпы. Потом молча разыграл какую-то трагическую сцену, смысла которой мы не поняли, но по реакции окружающих было ясно, что им она знакома. По окончании представления он начал собирать подаяние и наконец удалился смешной, шутовской, неестественной походкой. Признаюсь, в первую минуту мы приняли его за душевнобольного и только потом поняли, и это подтвердил наш провожатый, что мы видели гриота.
Очень интересную и малоизвестную группу мавританского общества представляют имрагены, единственные, кто на огромном мавританском побережье занимается рыболовством. Если на реке Сенегал рыбу ловят только негры, то здесь рыбаки, без сомнения, члены одного из мавританских племен. Существуют различные версии об их происхождении. Очень светлая кожа и европейский внешний вид наводят на мысль, что их происхождение связано с разбитыми голландскими войсками, которые в результате кораблекрушения были выброшены на мавританский берег. Поскольку здесь не было деревьев для постройки какой-нибудь шлюпки, а переход через пустыню был невозможен, они остались и смешались с одной из групп берберских кочевников, научили их плести сети, ловить рыбу. В следующих поколениях память об особом происхождении имрагенов стерлась, а после войны Шарр Бабба они попали и зависимость от хасанского племени улад сейид (1668 год). С тех пор они живут как его «клиенты», ежегодно поставляя определенное количество свежей и вяленой рыбы. Но они могут заниматься и другими делами по своему усмотрению. Сравнительно недавно они кочевали вдоль побережья Мавритании от дельты Сенегала до самого Аргена на севере. Сейчас их вытеснили негритянские рыбаки, которые от Сен-Луи продвигаются все дальше на север. В настоящее время эти рыбаки ведут лов рыбы на своих узких, но укрепленных досками парусных джонках уже в районе Нуакшота, поскольку увеличивающееся население столицы все больше нуждается в рыбе. Имрагены отступили перед конкурентами, сегодня они «курсируют» между Нуакшотом и Аргеном.
Культура имрагенов во всем отличается от культуры окружающих их мавританских племен. Прежде всего в отличие от остального населения страны они не занимаются скотоводством, а связали свое существование с морем. Правда, у них нет лодок, но из веток и стволов карликовых деревьев, растущих кое-где в пустыне, они сооружают нечто напоминающее небольшой плот и ложатся на него так, что ноги остаются в воде. Это позволяет рыбакам удерживаться на гребне волны. С этих маленьких илотов имрагены ловят рыбу шестом. Рыболовные сети они плетут из волокон титарика.Рыбу ловят все вместе. Мужчины идут по плоскому дну как можно дальше в море и оттуда гонят косяки рыбы к берегу. Серьезную опасность при такой ловле представляют акулы, которые часто встречаются у Атлантического побережья. Имрагены надевают на время лова кожаные штаны и считают, что они служат достаточной гарантией от этих морских хищников.
Группы рыбаков с семьями ходят вдоль морского побережья в поисках косяков, подходящих к берегу. Обнаружив, сразу приступают к лову. Пойманная рыба передается женщинам, которые занимаются ее дальнейшей обработкой: обрезают головы и сушат на специальных решетках из веток или просто на песке. Эти сушилки можно узнать по страшному запаху и тучам мух, что, впрочем, ни у кого не отбивает аппетита к такому ценному продукту. Вяленую рыбу укладывают в мешки, и время от времени женщины уходят в глубь материка на караванные пути и продают ее проходящим мимо торговцам, а те, в свою очередь развозят ее по всей стране.
Сегодня насчитывается всего 200–300 активных рыбаков-имрагенов, и, несмотря на столь примитивные способы лова, количество пойманной ими рыбы приближается к 100 тоннам в год. Конечно, это цифра оценочная (как и большинство статистических данных, касающихся Мавритании), тем не менее она основана на серьезных наблюдениях. В целом это дает представление о рыбном богатстве побережья Мавритании, как известно, самого богатого рыбного района Атлантики.
Имрагены не ставят палаток, они живут в крытых травой шалашах, сделанных из стволов карликовых деревьев. Их пища состоит только из рыбы, приготовленной в морской воде, ведь на всем морском побережье нет ни одного колодца. Оказывается, можно обойтись и без пресной воды.
Нетрудно догадаться, что имрагены были мишенью разбойничьих нападений различных вооруженных шаек кочевников. В первые годы XX века им удалось приобрести старый катер, уже непригодный для дальних странствий. Его доставили из Сен-Луи, но почти не использовали для лова рыбы. Он был своего рода укрытием. Если вдали появлялась группа наездников, не походивших на обычных торговцев рыбой, на этот кораблик спешно грузились женщины, дети и мешки с вяленой рыбой и отходили от берега на небольшое, но достаточное расстояние, чтобы всадники не могли до них добраться. Тем временем мужчины-имрагены убегали и скрывались в зарослях. Налетчики забирали оставшуюся свежую и вяленую рыбу и скрывались. Катер причаливал к берегу, мужчины выходили из укрытий, и жизнь, как всегда, продолжала идти своим чередом.
При современной системе лова судьба имрагенов как рыбаков, кажется, предопределена. Серьезными конкурентами для них, как мы уже говорили, становятся прежде всего негритянские рыбаки из района Сен-Луи, осваивающие все более удаленные участки мавританского побережья. Параллельно этому само государство стало проявлять заботу о более эффективном развитии рыболовства. В Нуадибу открыта школа рыбного хозяйства для мавританцев, приобретаются новые морские суда, предназначенные для лова в прибрежной зоне, но уже на морской глубине. Там же построены современные сушильни рыбы, оборудованные в соответствии с правилами гигиены и производящие значительно больше этой продукции, чем имрагены. Несмотря на это, и по сей день на рынках в пустыне самым большим успехом пользуется вяленая рыба, приготовленная имрагенами. Население традиционно считает ее самой вкусной и поэтому по сей день отдает ей предпочтение перед рыбой с современных сушилен.
Наконец, последняя группа, на которой следует остановиться, – это немади,кочевники-охотники. Охотой занимаются и воины, часто это помогает им продержаться в тяжелые сезоны года, но охотниками-профессионалами являются только немади. Они охотятся на крупного зверя и, что совершенно нехарактерно для остального мавританского общества, держат своры охотничьих собак. Немади отправляются в глубь пустыни в долгие, продолжающиеся нередко по нескольку месяцев походы, охотятся и тут же на солнце сушат мясо убитых животных. По внешнему виду вяленое мясо напоминает бурую толстую стружку, торговцы продают его прямо из больших мешков. Его можно хранить годами, только в сухом месте, а в этом Сахара не испытывает недостатка. Такое мясо обычно продается на базарах. Особенно много я его видела, например, в Атаре.
Еще перед второй мировой войной в Сахаре было довольно много животных, особенно антилоп. Но война и послевоенные годы отрицательно сказались на их поголовье. Во время войны через пустыню прокладывали дороги мобилизованные вооруженные сенегальцы. В условиях лагерной жизни, полной опасностей со стороны не только врага, но и природы, трудно было воспрепятствовать браконьерству солдат. Во время войн в 1957 году не был налажен подвоз продовольствия отрядам кочевников, и это катастрофически отразилось на поголовье диких животных. В настоящее время в связи с новым положением об охране природы и уменьшением личного огнестрельного оружия у мавританцев ситуация начинает меняться – количество животных из года в год увеличивается. Однако до положения, которое существовало в довоенные годы, еще далеко, и немади не могут рассчитывать только на охоту. Они вынуждены искать различные другие источники дохода, заниматься скотоводством или наниматься на работу на новые горнодобывающие предприятия в Сахаре.
Немади – это последняя из каст мавританского общества. Хотя их роль и незначительна, о них нельзя не упомянуть, если стремишься представить всю эту сложную общественную систему, которая, несмотря на новые демократические шаги молодого правительства, жива по сей день и всеми уважаема. И сегодня еще в Мавритании продолжают существовать классовые барьеры, которые невозможно переступить, разве что покинув свою страну. Но и в соседних странах действует та же система. Даже богатство не в силах скрыть происхождение. Наш знакомый фульбе весьма современных и либеральных взглядов, связанный с левым движением «Молодая Африка», как-то в разговоре признался, что, несмотря на свои весьма радикальные взгляды, он не смог бы примириться с тем, чтобы его дочь вышла замуж за человека, принадлежащего к другому классу. Не столь важен цвет кожи, главное – классовая принадлежность. Браки между хасанами и марабутами, даже между белокожими мавританцами и чернокожими свободными аристократками негритянских племен, проживающими в долине Реки, еще возможны, но браки между представителями свободных высших классов и каст кузнецов, гриотов, немади даже трудно себе представить. Скорее можно признать законными детей, появившихся на свет от «рабыни», чем заключить легальный брачный союз с представительницей одного из этих свободных и независимых высших классов.
Все в стране, население которой так невелико, знают, кому и какие следует оказывать почести, с кем как себя вести. В современной системе, основывающейся на служебной иерархии, образовании и богатстве, это часто ставит трудные проблемы перед молодыми руководящими кадрами. Никто, кроме самих мавританцев, не в состоянии ориентироваться в генеалогических дебрях его многослойного общества.
Его высочество эмир
Конечным результатом феодального строя и победы в войне Шарр Бабба явились арабские эмираты в Мавритании. Старейший из них возник на юго-западе страны в хасанском племени трарза. Первые следы племенной организации, близкой к более поздним эмиратам, встречаются здесь в XVI веке, то есть когда арабские макиль еще представляли собой одну из многих захватнических групп и только начинали укреплять свои позиции благодаря превосходству над племенами марабутов. Эмират Трарза окончательно сформировался после победоносной войны Шарр Бабба в середине XVII века и просуществовал до середины XX века. Эмиры выбирались из членов рода ахмед бен даман.
Второй эмират, Бракна, возник примерно в то же самое время, также на юге страны, но на ее восточных границах. Здешние эмиры происходили из рода улад абдаллах.
Эти два эмирата упрочили свою власть и значение благодаря богатству. Они находились на юге, на богатых землях субсахарской зоны. Особое место занимал самый старый эмират Трарза. Выдающиеся эмиры XVIII века добились того, что он получил исключительные права и достиг особого положения. Можно говорить, что в какой-то мере в его границы входила вся Мавритания. Дело так и не дошло до объединения всех эмиратов Мавритании, тем не менее по традиции представителем хасанов Западной Сахары считали эмира Трарзы.
Три других эмирата были созданы уже позднее, в XVIII веке. Это эмират Адрар, основанный родом ульд джаафрия из племени мгафра в 1740 году, и эмират Ход, который возник в 1712 году и принадлежал роду улад мбарек. Третий из эмиратов XVIII века принципиально отличался от всех вышеназванных тем, что он был единственным в Западной Сахаре эмиратом марабутов, созданным в Таганте идау иса, племенем, происходившим от лемтуна. Им руководил род Мухаммеда бен Хуна, который вел свое начало от одного из братьев Абу Бекра ибн Омара. Интересно отметить, что только этот эмират просуществовал до наших дней, пережив французское господство и социально-политические перемены, которые принесло с собой создание самостоятельного государства. Это еще одно доказательство того, насколько берберские племена марабутов превосходили хасанов, с каким искусством они проводили политику и приспосабливались к изменявшимся условиям.
Эмиров трудно воспринимать как типичных повелителей, управлявших определенной территорией и народом, населявшим ее. Право эмира до самых последних лет – это право победителя. Его общение с населением не выходило за рамки взимания различных податей, наложения новой дани, беззаконных грабежей и эксплуатации покоренных людей. Иногда эмир переставал собирать какие-то пошлины, однако это происходило только тогда, когда возникала опасность открытого бунта, или во время войны за престол, когда дело касалось популярности и привлечения на свою сторону как можно большего числа приверженцев, даже из низших слоев населения.
От повинностей был освобожден только двор эмира, который он содержал за свой счет. Эти оплачиваемые придворные и воины являлись мерилом великолепия и военного могущества повелителя. Они составляли группу его преданных и наиболее верных сторонников.
Эмиры – это военные предводители. В их обязанности входило водить племя на войну и в грабительские походы. Жертвами таких разбоев чаще всего оказывались земледельцы долины реки Сенегал, те, которые не выплатили ему высоких податей (или же заплатили их другому эмиру), затем караваны торговцев и, наконец, стада скота, принадлежавшие ленникам соседнего эмира. Непрерывные войны между эмиратами и отдельными племенами в пределах одного и того же эмирата – вот главный смысл существования как самих эмиров, так и целых племен хасанских воинов.
В мирное время, когда не было военных походов и некем было командовать, власть эмира была очень слабой. Эмират ничем не напоминал организованного государства с управлением, обеспечивавшим порядок и справедливость. Редко случалось, чтобы все племена данного эмирата признавали правившего эмира. Всегда были недовольные или даже враждебно настроенные.
Слабость положения эмира была обусловлена уже теми средствами, с помощью которых он приходил к власти. В каждом эмирате находилась одна семья, эмирская, из которой выбирался повелитель. Выбор совершала джемаа* или совет воинов. Как правило, первенство принадлежало самому старшему из членов эмирской семьи. Уже сам факт выбора ставил эмира в зависимость от своих выборщиков. В действительности дорога к власти была далека от той, которую провозглашало право. Каждый из эмиров, если он не умирал внезапно, назначал себе преемника, как правило своего сына, племянника или брата. Однако с его волей редко считались, и сразу же начинались войны между претендентами на трон. При жизни эмира тоже часто совершались перевороты, убивали эмира и его ближайших родственников, которые в будущем могли претендовать на трон. В таких условиях не истинные заслуги, а чаще всего интрига и кинжал решали, кому достанется власть. В течение четырех поколений из 32 членов эмирской семьи 15 были убиты. Поль Дюби, французский администратор и исследователь Мавритании, который в 1953 году опубликовал собранные им материалы, еще застал в живых некоторых из них.
Единственно почетной смертью для воина, а тем более эмира, считалась смерть на войне. Члена эмирской семьи, который умер естественной смертью, называли джиффа*.Не удивительно, что в «золотой век» эмирата – 1723–1827 годы – восемь эмиров погибли с оружием в руках.
Эмир, даже если получал власть, которую признавало большинство племен и групп, по-прежнему был лишен свободы управления. Все его важнейшие решения принимались лишь с согласия джемаа*.Случалось, что правители не считались с советом, в то время как другие, более слабые, нередко оказывались в полной зависимости от него.
Как отмечалось выше, военная знать и эмиры не имели ни собственного имущества, ни скота, ни плантаций, ни денег. Но они были убеждены, что вся земля вместе со всем, что на пей находится, – плантациями, животными, людьми и имуществом – их собственность и они могут всем этим пользоваться. В поздние времена, когда подданные отказались отдавать свое имущество и хасанам самим пришлось заводить стада, у них даже не оказалось знаков, которыми помечали животных. Они вынуждены были заимствовать их у своих вассалов. Это убедительное свидетельство того, что они никогда не занимались накоплением имущества, а жили только податями и добычей.
В XIX веке доходы эмира, в данном случае эмира Трарзы, были очень внушительными. Вместе с привилегиями, которыми пользовался каждый воин, такими, как право на треть воды, на содержание или на средства передвижения, у него было еще много других установленных обычаем источников дохода. Некоторые из них оставались правомочными до конца XIX века.
Эмиру принадлежало определенное число палаток, или семей зенага. Каждый правитель, вступавший на престол, получал право распоряжаться этими людьми, а также произведенными ими ценностями.
Арабские племена конфисковали у племен берберов и черного населения возделываемые территории. Все земледельцы Шеммамы в качестве арендной платы за землю, которой они пользовались, должны были выплачивать абах*,или бах, что составляло 30–120 килограммов проса в год в зависимости от размеров обрабатываемых полей. Помимо этого земледельцы были еще обременены податью массар*, или хорма зериба.Это был налог, который также выплачивался просом в количестве около 50 килограммов с поля. В данном случае размеры последнего не имели значения. За это эмир брал на себя защиту от других племен.
Оба налога, полностью парализовавшие развитие сельского хозяйства на юге страны, частично выкупались у эмиров французскими властями, частично самими земледельцами, которые в годы, предшествовавшие второй мировой войне, пользовались французским кредитом.
Все прочие племена, которые проходили по территории, принадлежавшей эмиру Трарзы, должны были платить ему подать гафер*. Взамен им обеспечивалась полная безопасность. Однако и соплеменники эмира, если хотели отправиться в другие, за пределами племени, районы, должны были платить ему определенную плату скотом.
Существовал разовый налог, который платили соплеменники, – мауна*, или мударра.Это был добровольно вручаемый подарок по случаю какого-либо события или в связи с большими расходами в семье эмира. Поводом для вручения мударрамогли быть женитьба эмира или кого-нибудь из его детей, дальнее и дорогостоящее путешествие, прием важной особы, военный поход, уплата крупных долгов или покупка дорогого коня. В действительности повод для вручения подарка, как и его размеры, определял сам эмир, причем вручали его чаще всего натурой: скотом, тканями, очень редко деньгами.
Во время войн, когда совершить государственный переворот было сравнительно легко, эмир старался снискать расположение своих подданных. В это время он не взимал податей с воинов, а, наоборот, делал видным и влиятельным особам богатые подарки. Но по окончании военных действий и беспорядков эмир восполнял утраченное, облагая новыми контрибуциями как соплеменников, так и подчиненные ему племена марабутов.
Вначале эксплуатация соляных копей в Сахаре была свободна от налогов. Со временем эмиры соответственно принципу, что вся земля, в том числе и копи, принадлежит им, установили плату на соль (по-арабски кубель эль-мельх).Платили не только за перевозку соли, что было давней традицией, но и за ее добычу.
Уже в конце XIX века один из эмиров Трарзы, который должен был разрешить спор двух групп, пришел к мысли, что примирение поссорившихся тоже может стать источником дохода. Он наложил на обе группы штраф тканями. С той поры уже действовало право миа даман, плата за урегулирование спора, которая вносилась в кассу эмира.
Упомянутые здесь источники дохода – только часть ценностей, пополнявших казну эмира. Населению приходилось платить много других налогов. Платили пошлину за проходившие караваны, за торговлю гуммиарабиком. В старые времена французы также обязаны были платить за разрешение торговать с Мавританией, за содержание торговых контор на реке Сенегал и т. д.
Жизнь эмиров – их палатка, одежда, времяпрепровождение, обычаи – немногим отличалась от жизни других воинов из группы хасанов. У эмира была большая по размерам палатка, больше прислуги, во время войны и грабительских походов он командовал армией, разрешал споры и налагал контрибуцию. Но все это не особенно выделяло его из массы соплеменников, его привилегии немногим отличались от привилегий какого-нибудь племенного царька. Однако существовали определенные регалии власти, которые мог использовать только эмир. В Трарзе к таким отличиям относилось право ношения белых шаровар.
История белых шаровар – символа эмирской власти – связана с началом XVIII века, когда один из самых просвещенных и выдающихся эмиров Трарзы, Али Шандора, вступил в конфликт с соседним эмиром Бракны. Оба эмирата соперничали друг с другом за первенство и вели нескончаемые войны. Али Шандора, искушенный дипломат и человек широких взглядов, решил выйти из этого спора дипломатическим путем, при поддержке двух сил, принимавшихся тогда в расчет в Западной Африке: Франции, распространившей свое торговое и политическое влияние в устье реки Сенегал, и Марокко, которым правил в те годы один из самых выдающихся его повелителей – Мулай Исмаил. Чтобы обезопасить себя с юга, Али Шандора отправил в Сен-Луи к французскому губернатору сына с поручением выразить дружеское расположение и одновременно предложить торговое сотрудничество. В результате этого визита вся торговля гуммиарабиком и рабами перешла в руки французов, а Трарзе была обеспечена дружба и поддержка Франции. Тем временем Али Шандора в сопровождении своих воинов и товарищей, в том числе шейха Шингетти, отправился в Марокко. Султан Марокко Мулай Исмаил принял гостей со всеми полагавшимися почестями, но, увидев представшую перед ним группу воинов в черном облачении, всех в одинаковых сандалиях и с одинаковым оружием, поинтересовался, действительно ли среди них присутствует эмир. Когда Али Шандора вышел вперед, султан выразил удивление, что правитель ничем не отличался от своих подданных. Тогда-то и было предоставлено эмирам Трарзы право ношения белых шаровар.
Визит в Марокко обеспечил Али Шандоре поддержку и дружбу такого могущественного и прославленного правителя. С того времени все эмиры Трарзы стали носить белые шаровары, а «коронация» заключалась в публичном облачении именно в этот предмет туалета, и, если кто-то из семьи эмира претендовал на трон и решался на государственный переворот, первое, что он делал, это надевал белые шаровары.
Второй регалией власти не только в Трарзе, но и во всех эмиратах был военный барабан, звук которого объявлял о начале войны.
Наконец, третьим известным признаком эмирской власти был махсар,небольшой королевский двор с сановниками, придворными, личной гвардией, куртизанками, с традиционным придворным церемониалом. Поль Дюби описывает махсарэмира Трарзы, умершего в 1944 году. В то время, когда Дюби занимался исследованием, все, что происходило при королевском дворе, совершалось в соответствии с традицией, насчитывавшей несколько веков. Воспользуемся его рассказом, чтобы представить себе образ жизни эмиров Трарзы, а вместе с тем и других эмирских дворов. Эмират Трарзы, как самый старый, насчитывавший три века, и одновременно самый великолепный, был образцом для других.
Эмир Трарзы Ахмед ульд Дейд, двадцать второй правитель данной династии, родившийся в 1880 году, осуществлял власть над воинами племен Трарзы и другими пленниками, под его властью находилось около 13 тысяч человек. Его махсарбыл расположен севернее населенного пункта Медердры. Двор состоял уже только из 50–60 палаток (к концу XIX века он насчитывал около 200 палаток). В центре лагеря стояла огромная палатка самого эмира, перед ней оставляли свободную площадь. Приезжавшие с визитами путешественники из высших сфер сходили с верблюдов, опускавшихся на колени тут же у входа в палатку эмира. Здесь вечером собирались семья эмира и приглашенные гости. Недалеко была площадь молитв, где в определенное время все жители махсарасовершали молитвы. Для защиты от ветра и чтобы отгородить площадь от остальной части лагеря, ее обносили забором из тростника или соломы. В противоположном конце площади молитв стояла палатка любимого гриота эмира, который должен был развлекать повелителя и его гостей музыкой, пением, импровизированными стихами и забавными фокусами. Он выполнял ту же роль, что и шуты при дворах европейских вельмож. В пределах лагеря имелся загон для коров, молоком которых питались жители махсара,рядом с ним – загон для вьючных волов и верблюдиц, а несколько дальше стояли палатки пастухов. Сразу же за палаткой эмира располагалось несколько палаток его личной прислуги. В определенных местах, установленных традицией, находились палатки учителя Корана и марабутов. Марабуты выполняли, с одной стороны, религиозные функции: сзывали на молитву, совершали ее, проводили процедуру погребения и т. д., с другой – административные. Стояли здесь и четыре палатки ремесленников, изготовлявших различные предметы первой необходимости, затем пятнадцать палаток харатинов, личной гвардии эмира. Ее задача заключалась в том, чтобы сопровождать эмира в военных походах, охранять его во время путешествий, собирать подати и т. д. Так же как и жители махсара, гвардия была на содержании у эмира. В пределах лагеря жили и куртизанки.
Около двенадцати палаток принадлежали колену улад регеиг, происходивших от зенага, но получивших статус «благородных». Со времени возникновения эмирата они входили в число придворных без определенных обязанностей. Они тоже находились на содержании эмира, ничем не занимались и вели жизнь тунеядцев, развратившихся от безделья. Столько же палаток занимала группа знати племени трарза, называвшейся улад ахмед бен даман. Из нее происходил сам эмир, и здесь же эмиры подбирали себе я «ен. У этой группы было собственное имущество, и в финансовом отношении она не зависела от эмира. Из улад ахмед бен даман часто выбирались эмиры, и существовало мнение, впрочем справедливое, что ни одно из убийств эмиров не обходилось без их участия. Третьей, столь же многочисленной группой были улад сейид – группа знати племени трарза. У них также имелось собственное имущество, они не зависели от эмира и имели право участвовать в выборе нового повелителя.
Помимо придворных вместе с эмиром кочевали его ближайшие родственники – братья с семьями, двоюродные братья, дяди. В знак уважения и солидарности другие группы племени трарза, признававшие управление данного эмира, присылали к его двору своих представителей, которые вместе с семьями увеличивали численность эмирского лагеря. Кроме того, во время военного похода каждая группа выставляла эмиру определенное число воинов. Их присутствие в махсаребыло обязательным. Уехать или перенести палатку на повое место можно было только с разрешения эмира.
То, что в пределах махсаражили все ближайшие родственники эмира, имело особый смысл. Это объяснялось не только расположением и симпатией к родственникам, желанием придать двору блеск; прежде всего родственников приходилось постоянно контролировать, потому что именно они чаще всего совершали государственные перевороты. Перенос палатки за пределы махсарабез разрешения эмира означал явный отказ повиноваться. Иногда убийство эмира и государственный переворот происходили в пределах махсара, но чаще всего тот, кто претендовал на трон, покидал махсарсо своими приверженцами и основывал как бы конкурирующий махсар,вокруг которого группировались недовольные. Между двумя лагерями иногда дело доходило до открытой войны, и власть доставалась победителю. Порой два таких махсарасуществовали бок о бок в течение нескольких лет, до тех пор, пока один из эмиров не умирал или не был убит, после чего Трарза снова объединялась.