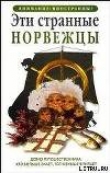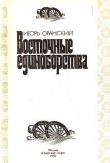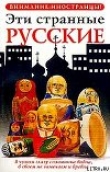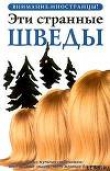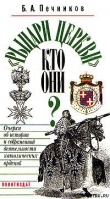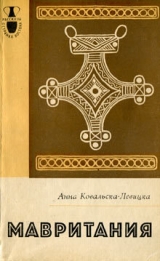
Текст книги "Мавритания"
Автор книги: Анна Ковальска-Левицка
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Все эти женщины принадлежали к местной элите, как мне потом рассказал Бальде. И как это типично для Мавритании: европеец может установить контакты с мужчинами, принадлежащими к любым кругам, с детьми, наконец, с женщинами больших кочевников, положение которых в определенном отношении почти соответствует положению мужчин. Общительны с посторонними и черные слуги, в то же время жительница ксараблагородного происхождения из племени марабутов или из общества аристократов-воинов избегает любых контактов с посторонними, будь то мужчины или женщины.
Ежедневно под вечер мы покидаем ксари возвращаемся в нашу уединенную резиденцию. Теперь ворота города уже не закрываются, большая часть стен и самих ворот разрушена. В селении стоит много заброшенных домов, на которые никто не польстился, а климат пустыни сохранил их в первозданном виде. Последняя мрачная деталь на нашем пути из ксара – это стоящая за чертой города виселица для ритуальных жертвоприношений животных. Каждый вечер мы проезжаем мимо возвращающихся в селение коз и верблюдов и опускаемся на дно батхи.Здесь еще кипит работа. Скрипят колодезные журавли. Вечером повсюду поливают сады. Затем мы взбираемся на противоположную сторону, к нашему временному дому, где нас уже ждут лохань воды – так называемая ванна, ужин и великолепный чай по-мавритански.
Я поднимаюсь на крышу, чтобы в последний раз в этот день посмотреть на Вадан. Как будто вымерший в эти часы город на другой стороне долины выглядит очень красиво. Скалы и прилепившиеся к ним дома пылают пурпуром в лучах заходящего солнца. Пальмы в долине кажутся еще более зелеными, а дюны вокруг нас и вокруг города еще более золотыми. Я стою как зачарованная; постепенно все гаснет и сереет. Издалека слышится блеяние коз, доносится трубный крик верблюда. Наступает тишина и опускается черное, расцвеченное звездами чужое небо.
Вадан – последнее постоянное селение на севере Мавритании. На северо-восток по линии, связывающей Фдерик на западе и Нему на юго-востоке, протянулась «земля без единого человека». Иногда пройдет туда какой-нибудь торговый караван с контрабандой, иногда группа «больших кочевников» в поисках лугов, появившихся после прошедшего дождя. Путешествие по этой территории не всегда кончается благополучно.
Мы говорили о коридоре, который представляет собой центр Мавритании. Его можно пройти с севера на юг между двумя безводными районами дюн – восточным, малийским, и западным, расположенным вдоль Атлантического побережья. Шестисоткилометровое Атлантическое побережье, принадлежащее Мавритании, более чем негостеприимно. Мелкое море у берега не позволяет причаливать судам: пет никаких заливов, за исключением бухты Нуадибу, защищенной мысом, который находится уже на самой границе Западной Сахары. Здесь построен единственный действительно удобный порт Мавритании, имеющий большое экономическое значение для страны, – Нуадибу. Берег покрыт песчаными дюнами, обычно еще не оформившимися. Из них наиболее опасны так называемые барханы, передвигающиеся дюны в форме полумесяца, обращенного обоими концами в подветренную сторону. С той стороны, откуда дуют ветры, склоны дюн некрутые, зато с внутренней стороны полумесяца – отвесные и сыпучие. Несколько лет назад между Нуадибу и Фдериком была построена железная дорога, соединившая рудники с портом. Перед началом строительства провели соответствующие исследования «жизни» барханов, через которые должен был проходить железнодорожный путь. Оказалось, что такие дюны высотой в три метра в течение года перемещаются на 63,8 метра.
Побережье совершенно лишено воды, а осадки минимальны. Случается, что в течение нескольких лет не бывает ни одного дождя. Несмотря на все это, там растут различные галофиты, в их числе тамарикс. Кочевники, занимающиеся разведением верблюдов и кочующие но западной части страны, ежегодно в мае ведут туда стада для «солевого лечения». Организм верблюда нуждается в соли, и выпас животных на соленых тамариксовых пастбищах придает им силы и делает их выносливыми. Так утверждают мавры.
Единственно, что облегчает жизнь в приморских городах, таких, как Нуакшот и Нуадибу, – это свежий ветер с моря. Благодаря ему средняя температура января колеблется в пределах 20–21° С, а августа – 27–29° С.
Казалось бы, маврам должен больше нравиться климат, изобилующий дождями, которые обеспечивают их животным корм и воду, а им самим благосостояние. Между тем это не так. Самый здоровый для людей, и животных – сухой климат Сахары. Те, кто живет на юге страны, вблизи Реки, часто болеют, и немногие доживают до глубокой старости. В самой же Сахаре люди и животные, если, конечно, не погибнут от песчаных бурь и испепеляющего зноя, здоровы и живут долго. Жизнь показала, что часто голодающие кочевники живут дольше, чем обитатели южных селений, пребывающие в достатке. Приводится такой пример: дерево, выросшее в пустыне, более крепкое, плотное, у него более интенсивный запах и меньше колючек, чем у того, которое выросло на юге субсахарского района. Также и гуммиарабик, собираемый с деревьев на севере Сахеля, намного лучшего качества, чем на юге.
Мавры рассказывают: один из мудрых старых шейхов, Лахбиб ульд Энтефи из Фендга, приказал привезти себе три одинаковых бревна: одно из дерева, которое выросло у Реки, другое из дерева, срубленного в центре субсахарского района, и третье – с северных границ пустыни. Он положил их на землю рядом. Через год бревно с юга стало совершенно трухлявым, его изъели термиты, бревно из Центрального Сахеля наполовину сгнило, а бревно с севера совершенно не изменилось.
Другой мудрец, эль-Фалл ульд Баба Ахмед из племени улад дейман, построил три зерибы*:одну на юге, другую в центре страны, третью на севере, в самой пустыне. Спустя некоторое время две первые развалились, третья сохранилась. Он сказал людям своего племени, что они должны переселиться на север, потому что только в пустыне будут здоровы и смогут жить долго. Так они и сделали.
В этих рассказах много правды. Я не знаю, есть ли на свете страна, где встречается столько стариков, которые бы так прекрасно выглядели. Учитывая, что медицинское обслуживание в пустыне отсутствует, а условия существования более чем трудны, можно считать, что именно в климате кроется тайна здоровья и долголетия.
Со времен зеленой Сахары до прихода арабских кочевников
В странах с влажным климатом и буйной растительностью природа тщательно скрывает следы культур когда-то живших здесь людей. Древние поселения, кладбища, мастерские чаще всего открываются перед нами случайно во время обвалов, земляных работ или глубокой пахоты. Тогда приступает к делу археолог и начинает внимательно изучать остатки древних цивилизаций. Во влажных экваториальных странах изучать прошлое намного сложнее, чем в умеренной зоне. Необычайно пышная растительность покрывает остатки прежних стоянок, кладбищ и даже когда-то процветавших городов. Предметы, состоящие из органических материалов, полностью разлагаются от влаги и жары. В Береге Слоновой Кости даже железные предметы съедаются коррозией менее чем за 100 лет. Совсем иное положение в пустыне. Сухой воздух сохраняет даже мельчайшие органические остатки, не говоря уже о древних памятниках. Места достаточно, и у человека нет необходимости уничтожать следы древних культур, чтобы создавать новые поселения, обрабатывать землю или прокладывать дороги. Единственная разрушительная сила – это ветер, но он одновременно и помогает обнаружить хранящиеся в глубине земли творения рук человеческих. В определенном смысле пустыня «бесстыдна», она ничего не пытается прикрыть, утаить. Даже то, что человек намеренно решил уберечь от повреждений или опасности и закопал глубоко в землю, спустя какое-то время оказывается обнаженным, извлеченным наружу, предстает человеческому взору.
Остатки древних культур можно встретить в Сахаре гораздо чаще, чем живых людей и животных. Это и мусульманские могилы последних двухсот лет, и отполированные ветром белые кости. Следы древнейшей истории, культур палеолита и неолита в этом обширном районе встречаются очень часто. Бедуинам известны места, где в нишах под скалами на плоских каменных стенах древние жители Сахары оставили изображения животных и сцен из своей жизни. Чаще всего контуры этих рисунков обозначены углублениями, а кое-где сохранились остатки красной и белой красок, которыми были раскрашены изображения. Мы постоянно сворачивали с основной дороги, чтобы осмотреть то могильный холм из старательно уложенных камней, то закругленные стены каких-то строений и т. д. Среди гравия и особенно в дюнах довольно часто попадаются наконечники стрел и прочих каменных орудий, а в селениях на юге – и остатки керамики. И все это буквально на поверхности, как будто сегодня взяли и бросили. Пастухи собирают древнее оружие, которое хорошо сохранилось, главным образом мастерски отточенные маленькие наконечники. Их набираются целые мешки.
Мавритания – подлинный рай для археологов, она скрывает в себе не одну тайну. Многочисленные памятники еще ждут интенсивного археологического исследования. В стране пет научных учреждений, которые бы их организовали. Кроме того, любые, даже самые небольшие изыскания требуют серьезных экспедиций, связанных с доставкой воды, продовольствия, а также обеспечением радиосвязи с миром. Археологические экспедиции предпринимаются только при наличии всего необходимого в пустыне снаряжения и рабочей силы. В их распоряжении должны находиться все современные технические средства. Археологические изыскания в широком масштабе в течение многих лет проводит здесь Сенегальский университет в Дакаре. Ежегодно на автомашинах, самолетах археологи, фотографы и чертежники, снабженные радиостанциями, трогаются в путь. Раскопки ведутся в местности Тегдауст, где были обнаружены руины средневекового города. Возможно, это был известный из истории Аудагаст. Когда-то он славился как торговый центр, так как находился на пути с берегов Средиземного моря и Западного Магриба в страны Черной Африки. Из других археологических раскопок следует отметить развалины Кумби-Сале, средневековой Ганы, в Юго-Восточной Мавритании, недалеко от границ Мали. Эти работы проводил поляк Шумовский [6]6
Г. Шумовский провел первую археологическую разведку на городище Кумби-Сале еще до второй мировой войны. Основные же раскопки здесь были осуществлены французскими исследователями Р. Мони и П. Томассе в 1949–1950 гг . – Примеч. ред.
[Закрыть]. В публикациях ИФАНа можно встретить сообщения об археологических исследованиях, проводимых и в других районах страны. Однако все это результаты отдельных исследовательских работ, детали сложной мозаики, из которой когда-нибудь будет воссоздана правдивая картина истории Мавритании.
Современные белые жители Мавритании – берберы и арабы – прибыли с севера и овладели страной, которая уже была заселена. Мавр – воин и завоеватель, путь грабежа для него самый благородный, точнее говоря, единственный для приобретения богатства и власти. То обстоятельство, что страна была завоевана, дает ее сегодняшним жителям, по их собственному убеждению, больше нрав на эти земли, чем если бы они жили на них тысячелетиями.
Древние жители, бафуры, вызывают у мавров чувство благочестивого страха. Никто точно не знает, кем они были, а сохранившиеся о них сведения довольно противоречивы. Им приписывают черты всех древних культур – от неолита до XVI века. Руины старинных домов и могил, наскальные рисунки – все это остатки их былых творений. Бафуры укрывались в гротах под Баданом и обитали в домах, прижатых к склонам потухшего вулкана. Их развалины стоят там и по сей день. Отец кади,живущего в Шингетти, обнаружил на кладбище могилу бафура, а шейх Мустафа ульд л’Кеттаб отвез нас на могилу бафура, находящуюся далеко от ксара.Сопровождавшие нас мавры были очень взволнованы поездкой в места, принадлежавшие некогда бафурам. Измерения могилы, произведенные старым способом – с помощью размотанных тюрбанов, дали поразительные результаты: рост бафуров достигал пяти метров!
Считают, что оборонительные валы таинственной крепости в современном селении Азуги, расположенном в нескольких десятках километров от Атара, также возведены бафурами. Здесь, по-видимому, располагался их главный укрепленный пункт от нашествий берберского племени лемтуна. Легенда рассказывает, что у бафуров были злые собаки, от которых приходилось спасаться даже самым храбрым берберским воинам. Только святейший имам, мусульманский миссионер, уроженец Хадрамаута (Южная Аравия), который прибыл в Мавританию через Марокко, чтобы обратить «неверных», положил конец их могуществу. Как явствует из легенды, свершилось чудо. Животные, вместо того чтобы броситься на святейшего мужа, начали ластиться к нему. Конечно, этим воспользовались приближенные имамаи уничтожили бафуров. В данном случае, согласно сведениям, сохранившимся в истории, бафуры – это неисламизованные или частично исламизованные берберы, которые выступали против Альморавидов. Тот, кто с оружием в руках поддержал миссию имама,был не кто иной, как сам вождь мавританских Альморавидов Абу Бекр. Благодаря этой победе Адрар был окончательно покорен. И поныне на кладбище в Азуги находится могила имамаэль Хадрами, к которой нескончаемым потоком идут паломники. Естественно, нам, как «неверным», вход на кладбище был запрещен, и только после длительных переговоров удалось получить разрешение запечатлеть на пленке с расстояния в несколько десятков метров гробницу святого. Гробница скромная, напоминает небольшой жилой домик, сделанный из необработанных каменных плит, и производит впечатление полного запустения. Но это только на первый взгляд. Кажущаяся заброшенность отнюдь не означает, что святилище малоизвестно, что сюда не стекаются странники из всех уголков страны, удаленных на сотни и тысячи километров, из Мали, Западной Сахары и Марокко.

Могила святого марабута на кладбище в Аэуги
Если верить рассказам жителей Вадана, то часть бафуров выжила и продержалась здесь почти до последнего времени. Говорят даже, что в представителях отдельных родов и сейчас течет кровь бафуров, а некоторые и вообще их прямые потомки. Это не считают достоинством, поэтому предпочитают об этом не говорить.
Кем же на самом деле были легендарные бафуры? Были ли они властителями Мавритании? На этот вопрос не могут дать определенного ответа не только приверженцы мавританских традиций, но и современные европейские ученые. Тема соблазнительна, и многие ученые посвятили ей свои исследования, по до сих пор ничего определенного о бафурах сказать нельзя. Существует несколько гипотез об их происхождении. По мнению одних, это первые черные жители Сахары, осевшие здесь еще во времена неолита, завоеванные впоследствии берберами, а затем арабами. Другие связывают их с каким-то праберберским народом, появившимся в Сахаре перед самой волной обращения берберов в ислам. Имеются даже приверженцы теории, по которой бафурами именовались группы португальцев, прибывшие в Мавританию в XV веке в поисках золота и основавшие торговые конторы. Потом опи осели здесь и смешались с местным населением. Впрочем, это наименее правдоподобная из версий, поскольку Валентин Фернандш, писавший в 1506–1507 гг. об Адраре, уже тогда называл его Землей Бафуров, но ни словом не упоминал о том, что жителями этих мест были португальцы. Азуги, по одним источникам, был их основной крепостью, по другим – укрепленным монастырем Альморавидов. Это лишний раз свидетельствует о том, как мало мы знаем о древней истории этой страны.
Несмотря на нагромождение вопросительных знаков в древней истории Мавритании, мы все-таки можем в общих чертах воссоздать историю земель, на которых расположено современное мавританское государство.
Многочисленные следы древних культур в Сахаре неопровержимо свидетельствуют о том, что в прошлом она была более заселена. Как случилось, что сегодня, при довольно высоком уровне культуры, пустыня часто не в состоянии прокормить даже немногочисленные группы кочевников? Ответы следует искать в климатических изменениях, которые происходили на протяжении тысячелетий. На заре человечества, в эпоху палеолита, в Западной Сахаре имелось значительное количество влаги, и по зеленым просторным плато могли свободно кочевать группы первобытных охотников и собирателей. Особенно много их следов – остатки стоянок, каменные орудия – мы встречаем в Адраре. В середине каменного века Сахара начала высыхать, и людям пришлось отойти к ее границам. Но климат опять изменился: дожди становились все обильнее, и пустыня превратилась в саванну. Ее территорию пересекали многочисленные реки, следы которых – уэды – еще и сегодня можно увидеть. Образовались большие озера, похожие на озеро Чад, полные крокодилов, с берегами, поросшими папирусом. В саваннах паслись жирафы, слоны, антилопы. Вернулись в эти места и люди. Новые, негроидные жители Сахары были носителями культуры неолита. Вблизи рек и озер они возделывали поля, их стада коров и коз паслись в саваннах. Они оставили после себя наскальные рисунки, в которых передали нам особенности своей кочевой жизни, сцепы охоты и изображение повозок, на которых они колесили по Сахаре с севера на юг.
Благодаря использованию так называемого радиоуглеродного метода для определения возраста находок [7]7
Радиоуглеродный метод датировки основан на том, что, зная период полураспада радиоактивного углерода, можно определить возраст органических остатков, найденных при раскопках, с точностью до нескольких сотен лет в пределах до 60 тыс. лет назад. – Примеч. ред.
[Закрыть]мы знаем, что наивысшая степень развития земледелия и скотоводства в Сахаре приходится примерно на 3000 год до нашей эры. К этому периоду относится наибольшее количество поселений и кладбищ, наскальных рисунков с изображениями людей и животных. Тогда же многочисленные охотники «усеяли» землю наконечниками стрел, которые сегодня выносят на поверхность движущиеся пески.
В эпоху расцвета климат снова стал меняться. Не хватало осадков, высыхали озера, и реки наполнялись водой только в период дождей. Население перемещалось к югу, на обеспеченные водой земли, где оно могло заниматься сельским хозяйством. Тем немногим, кто остался в долинах бывших рек, приходилось копать колодцы, чтобы добраться до водоносных слоев, скрытых под землей. Так возникли сахарские оазисы, заселенные черными потомками жителей времен неолита.
Высыхание Сахары разделило Африку на два мира – северный, связанный с культурами бассейна Средиземного моря, и южный, тропический. Последний в определенной мере был изолирован от того, что происходило в цивилизованном мире, включавшем юг Европы, Ближний Восток и северо-восточные страны Африки. Единственным естественным связующим звоном средиземноморской и Тропической Африки был Нил. Но этот район весьма удален от страны – объекта нашего изучения.
Однако и в Западной Сахаре сохранились древние пути, ведшие от Средиземного моря в тропические страны Черной Африки. Главный путь начинался у Южного Марокко, пересекал плоскогорье Адрара, Таганта и нынешнюю провинцию Мавритании – Восточный Ход – и доходил до изгиба Нигера. У этой дороги были ответвления, но ими редко пользовались. Одно из них шло от Адрара к реке Сенегал. Путь через Сахару, названный «дорогой колесниц», можно проследить по наскальным рисункам. На них изображены повозки, в которые запряжены быки или кони. Рисунки с быками, возможно, более старые, поскольку бык – типичный представитель животного мира африканского неолита. Лошадь же появилась в Сахаре только за полторы тысячи лет до нашей эры. И тому и другому животному нужен обильный корм и прежде всего вода, следовательно, еще во II тысячелетии до нашей эры влажность здесь была выше, чем в настоящее время.
В этой удивительной стране все долговечно. И «дорога колесниц» времен неолита продолжает жить в современных караванных путях из Южного Марокко через Адрар и Тагант к Мали, на рынки к берегам Нила. Сахара высохла, место лошади занял завезенный в Африку около первого столетия до нашей эры верблюд. Караваны везут теперь другие товары, а погонщики верблюдов – белые арабо-берберские торговцы, но дорога проходит по тому же самому древнему тракту.

«Дорога колесниц» периода неолита, взятая с наскальных рисунков
Дорога трехтысячелетней давности – разве такое постоянство не достойно восхищения? Ее долгая история полна драматизма. С того времени, как высохла Сахара, это был единственно возможный в Западной Африке путь от «белого» севера к «черному» югу. Он проходил по уже упоминавшемуся коридору между совершенно безводным районом, трудным для преодоления дюнам Северо-Восточного Адрара, и дюнами вдоль Атлантического побережья. На этом маршруте попадались оазисы и колодцы, позволявшие караванам верблюдов преодолевать сотни километров пустыни. По этой дороге осуществляется вся транссахарская торговля, происходят все значительные военные вторжения с севера, волны миграции захлестывают североафриканские народы. Этим путем с юга на север шли товары из тропических стран: золото, слоновая кость и черные рабы. История караванов, которые столько тысячелетий исхаживали «дорогу колесниц», – это история самой страны. Все, что происходило в Западной Африке, не обходилось без участия этой дороги.
То, о чем мы говорили до сих пор, касалось предыстории Мавритании. Только к концу первого тысячелетия нашей эры эта страна выходит на историческую арену.
«Эта страна выходит на историческую арену». Но какая страна? Ведь Мавритания, какой мы ее знаем сегодня, возникла не так давно, ее самостоятельность была провозглашена в 1960 году, а границы, которые она получила, чисто условные. Они соответствуют прежнему колониальному внутреннему делению Французской Западной Африки. Саванны и пустыни занимают такую же территорию, как земли соседних государств: Западной Сахары – с запада, Алжира – с севера и Малийской Сахары – с востока. Население ни по расовым признакам, ни по языку, религии и характеру культуры не отличается друг от друга. Группы пастухов-кочевников постоянно переходят никак не обозначенные государственные границы: то идут в Мали, то в Западную Сахару, в зависимости от того, где рассчитывают найти пастбища для скота. Пограничные посты, как мавританские, так и соседних государств, порой удалены на сотни километров от границы. Так, первая пограничная таможня Мавритании на пути из Марокко находится в Атаре, то есть примерно в тысяче километрах от самой границы. Сахарская часть страны – всего лишь искусственно отрезанный кусок Западной Сахары, а области ее, расположенные вдоль реки Сенегал, заселенные неграми, ничем не отличаются с этнической точки зрения от территорий, относящихся уже к другому государству – Сенегалу. И здесь, на мавританском и сенегальском берегах пограничной реки, мы видим расовое, национальное, языковое и религиозное единство, ту же самую культуру скотоводства у фульбе и сельского хозяйства у волоф, сараколе (соннике), тукулер и других народностей.
Интересно отметить, что если не считать Атлантического океана, единственная естественная граница Мавритании – река Сенегал – с этнической точки зрения скорее объединяет Мавританию с государством Сенегал, чем разделяет их.
Если быть точным, следовало бы написать две истории Мавритании, хотя они бесспорно тесно связаны между собой. Одна из них, мавританская, которая посвящалась бы субсахарской зоне, кочевникам пустыни, а вторая – негритянская, земледельческая, была бы связана с Черной Африкой. Но Мавритания – единый государственный организм, и ее жители хотят создать единый народ.
И здесь снова следует сделать отступление. Для европейца понятия «государство» и «народ», за некоторым исключением, совпадают. Известно, что в Польше живут поляки, во Франции – французы. Есть, правда, многонациональные государства, такие, как СССР или Чехословакия, но уже в самом названии заключено равенство народов, входящих в один политический и административный организм. В Европе существует проблема национальных меньшинств, но и в данном случае понятие «меньшинство» указывает на то, что это небольшие национальные группы, живущие в пределах государства, которое создано другим народом. Они сохраняют свою индивидуальность, их окружают заботой и им помогают беречь и развивать собственные традиции. В современной Африке, особенно в Черной, вопрос стоит совсем иначе. Новые государства возникли как искусственные административные образования в результате колониального раздела. При этом руководствовались либо интересами различных колониальных государств (например, Испанская Сахара была испанской колонией, а Мавритания – французской), либо в пределах колонии одного государства географическими и экономическими критериями. Кроме того, Африка – континент, где перемещения народов, характерные для Европы первого тысячелетия нашей эры, еще не закончились. Переселение целых больших народностей, занимающихся не только скотоводством и по характеру своей деятельности всегда кочующих, по и земледелием, продолжает оставаться обычным явлением. Большие «ничьи» пространства, низкая плотность населения, малочисленные языковые и культурные группы, еще недавняя вера в то, что можно двинуться в любом направлении в поисках благоприятных условий существования, войны между племенами, вызывавшие перемещение целых пародов, торговля рабами, бегство целых деревень и даже племен в глубь недоступного континента, проникновение кочевников и земледельцев – все это вместе произвело такое смешение народов, что сегодня нет не только государств, провинций, городов, а в некоторых районах Африки даже селений с жителями одной национальности. В качестве примера приведу соседний с Мавританией Сенегал, где только крупных этнических групп насчитывается шесть, а кроме них еще более десяти мелких. Под «группой» подразумевается общность людей, владеющих особым языком, со своими традициями и способом ведения хозяйства, а в сущности, в псе входят самостоятельные народы. У этих групп есть соплеменники в соседних государствах, с которыми они поддерживают семейные и межплеменные отношения. Поэтому политические границы, если подходить к ним реально, – это еще не границы в прямом понимании, то есть не линии, которые делят два государства с собственными, непохожими историческими традициями. Они – просто административная необходимость, подчеркивающая самостоятельность каждого государства. Местные жители еще не осознали, что принадлежат к какой-то определенной территории, отделенной от других границами.
Положение Мавритании с национальной точки зрения исключительно благоприятно. Население здесь очень однородно, более 80 процентов составляют белые, мавры арабо-берберского происхождения. Остальные 20 процентов – негроидные народы. Эти 80 процентов (за исключением берберской группы зенага в несколько тысяч человек, сохранившей язык, на котором объяснялись до прихода арабов) говорят на одном арабском диалекте, называемом хасания. На нем объясняются и проживающие в Мавритании негры. Важную роль в государственной и частной жизни мусульман играет религия. Не без основания в официальном названии государства Исламская Республика Мавритания подчеркнуто его религиозное единство. Большое значение для современной сплоченности страны сыграл тот факт, что она была завоевана вначале берберами, а затем белыми арабами-хасанами, которые силой навязали всем населявшим страну племенам свою власть. Они создали единую общественную структуру, при которой каждая национально-культурная группа сохраняла определенные традиции, хотя эти группы и были неравноценны. Таким образом, были заложены основы арабо-берберо-негритянского единства, при этом национальный или расовый, даже племенной вопросы в значительной степени подменялись социальным.
История Мавритании – история многих этнических групп, которые создавали свои государства на ее нынешней территории, воевали друг с другом или вступали в дружественные союзы. Они завладевали частью мавританской земли, чтобы потом вновь ее потерять, наконец, они признали древнюю «дорогу колесниц» самым удобным караванным путем из районов Средиземноморья в Тропическую Африку. Этим же путем проникали сюда новые культуры. Только изучение бурной истории этой земли поможет нам понять современную Мавританию.
Анализируя историческое прошлое страны, мы можем выделить два течения. Первое, которое мы назовем северным, связано с арабо-берберскими миграционными волнами. Они пришли с севера, принесли ислам и способствовали формированию современного облика страны. Второе течение, южное (негритянское), шло со стороны Черной Африки. Оно охватывало южную субсахарскую Мавританию, редко достигало севера и было связано с возникновением трех негритянских империй: Ганы, Мали и Гао, которые процветали здесь с IX по XVI век. Все три возникли в основном в районе современного Судана, а Южная Мавритания была лишь их частью. Богатые негритянские империи, хозяйство которых основывалось на земледелии, торговле и золотодобыче, были прекрасно организованы административно, уровень их культуры был высоким. Все они пришли в упадок под натиском северных воинственных племен берберов и арабов. В итоге за два последних тысячелетия на территории Мавритании, кроме весьма разрозненных союзов – племен берберов из группы санхаджа (последним из них был союз Альморавидов), не было создано ни одного сильного государства берберов или арабов. Такими способностями обладали только черные в VIII–IX веках. Зато на долю кочевников севера выпало распространение в Западной Африке ислама, который в значительной мере содействовал росту культуры и сближению негрских народностей юга со средиземноморскими очагами культуры.
Чтобы сохранить хронологическую последовательность событий, нам придется перемещаться то на север, то на юг страны, занимаясь сначала историей берберов, потом арабов, затем вновь черных негритянских государств. Истории этих двух течений взаимосвязаны, и их невозможно рассматривать в отрыве друг от друга.
В Северо-Западной Африке на заре истории поселились люди, получившие общее название «берберы». Оно происходит от греческого barbaroi – так греки именовали все народы, не говорившие по-гречески. От греков это определение перешло к римлянам, назвавшим так коренное население Северной Африки. Эти берберы были народом подвижным и выносливым. Одна часть берберов заняла плодородные земли Северной Африки и начала заниматься сельским хозяйством, другая переместилась к югу, чтобы в пустыне и полупустыне вести жизнь скотоводов-кочевников. В доисторические времена некоторые берберы доходили морем даже до Канарских островов, где они появляются под названием «гуанчи» в XV веке, в период открытия этих островов. Их язык продержался до XVI–XVII веков и был записан испанцами, поселившимися на Канарских островах. Часть берберского населения, проживавшего в районе Средиземного моря, подверглась романизации и после введения христианства была обращена в эту веру. Они активно участвовали в создании христианской культуры Африки. Знаменитый философ и богослов св. Августин был берберского происхождения. Но большинство берберов, особенно пастухов-кочевников, живших вдали от центров цивилизации, противились всем внешним влияниям. Они придерживались старых традиций. Испытывая давление администрации североафриканских римских провинций, свою экспансию они направили на юг, в глубь пустыни. Очевидно, уже тогда берберы захватили много оазисов, изгоняя или принуждая к работе на себя веками жившее там негроидное население. Эти первые малочисленные группы берберов смешались с черным населением Сахары и потом уже вместе оказывали сопротивление новым, принявшим ислам берберским захватчикам.