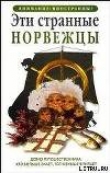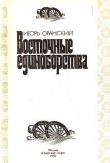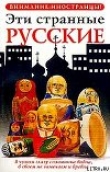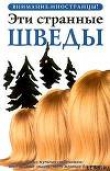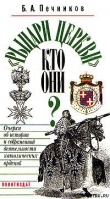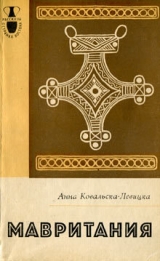
Текст книги "Мавритания"
Автор книги: Анна Ковальска-Левицка
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
У каждого своя судьба
Итак, что же представляла собой Мавритания на протяжении многих веков, прежде чем произошли события, которые привели к созданию сегодняшнего общества.
В стародавние времена, когда Сахара дважды покрывалась зеленью, хозяевами этих земель были черные жители. Скотоводческие племена берберского происхождения, а еще раньше – праберберского, жившие на севере, смешивались с коренным населением. Они постепенно оттесняли его на юг или брали в плен и принуждали работать на себя.
В VII веке появились первые группы уже исламизованных берберов. VIII и IX века – это период массовой исламизации берберов в Западной Африке и их активной экспансии, частично вызванной прибытием с севера арабов. Берберы в Сахаре становились все активнее, что предопределило судьбу черных жителей пустыни. Им оставалось только отступать на юг или сдаваться в плен. В то время берберы держались главным образом за оазисы Адрара и Таганта и занимались древней транссахарской караванной торговлей. Но они не отказывались и от завоеваний. Делать им это было легче, поскольку у них уже были верблюды.
Тем временем на юге Мавритании в долине реки Сенегал и в субсахарской зоне развивались карликовые земледельческие государства негров. Укрепление их внутренней власти и военной мощи было направлено на защиту от растущего могущества берберов, угрожавших со стороны Сахары. Основу экономики суданских государств составляли сельское хозяйство и обмен товарами между Сахарой и Средиземноморьем, с одной стороны, и тропической зоной – с другой. Вначале образовались небольшие государства в долинах рек Сенегал и Нигер, которые трижды объединялись в крупные империи: Гана (X–XI века – период наивысшего расцвета), Мали (XIII–XIV века) и Гао (XV–XVI века). Каждая из них независимо от занимаемой территории Черной Африки включала часть Южной Мавритании, и каждая последующая империя не столь глубоко, как предыдущая, проникала в Сахару. Это свидетельствует о продвижении на юг и укреплении позиций сахарских кочевников. Все негритянские государства имели большое экономическое, а позднее, в период их исламизации (Мали и Гао), и культурное значение для северных соседей. Прямо или косвенно они были уничтожены северными арабо-берберскими народами.
Период более или менее спокойного формирования черных суданских империй был прерван в XI веке Альморавидами. Более полувека Альморавиды объединяли сахарские группы кочевников, представляя собой сильную, фанатичную армию, позднее даже недолговечное государство, которое распалось вместе со смертью повелителя Абу Бекра. Нашествие Альморавидов уничтожило культурные центры Ганы. Народ Западной Сахары окончательно принял ислам, в наследство ему была оставлена традиция военного великолепия и единственного в его истории политического объединения.
В течение тысячелетий жизнь Сахары не нарушается какими-либо серьезными событиями: пастухи скитаются в поисках пастбищ, в оазисах идет караванная торговля, коренное население, а позднее и берберы постепенно вытесняются набегавшими с севера новыми волнами кочевников. Все это сопровождается непрекращающимися межплеменными войнами. История не очень привлекательная и богатая, в течение столетий не происходит ничего значительного, да и уровень экономики и жизни населения, их материальная культура и обычаи веками остаются без изменений. В VIII–XI веках ислам принес с собой перестройку идеологии населения, а в определенном смысле и самого образа жизни, после чего она вновь застыла в той форме, которую ей придал период Альморавидов.
Только XIV век внесет определенные перемены, по их результаты скажутся лишь спустя три столетия.
В XIV веке на Мавританию начинается нашествие кочевников-макиль.
Арабское племя макиль, жившее тогда в Египте, вместе с другим арабским племенем, хилаль, использовалось египетскими Фатимидами [13]13
Фатимиды – халифская династия, возводившая свое происхождение к дочери пророка Мухаммеда Фатиме и правившая в Египте и на большей части Магриба в 909–1171 гг. Примеч. ред.
[Закрыть]в их войнах против зиридов. (Это были их давние наместники в Северной Африке, которые взбунтовались и вышли из повиновения.) Макиль и хилаль – дикие кочевники, единственным занятием которых кроме скотоводства была война, а единственным источником богатства – военный грабеж. Поощряемые Фатимидами, с 1049 года они начали продвигаться на запад с целью покорения Магриба. Нашествие этих племен продолжалось много лет, то усиливаясь, то ослабевая. Первые миграции устремились в плодородные средиземноморские долины, но правители Магриба оказали им решительное сопротивление. Более поздним военным миграциям племен макиль и хилаль пришлось продвигаться по пустынным и полупустынным районам. Вдоль сахарского подножия Атласа они дошли даже до Южного Марокко, до областей Дра и Тафилальт. Эти события происходили в XIII веке. К тому времени численность макиль очень возросла и они представляли собой силу. Поскольку сопротивлявшееся Марокко исключало возможность экспансии на север и восток, они направились на юг. Особенно заманчивыми для них были горы Адрара и Таганта с многочисленными колодцами и пальмовыми рощами.
Основная группа макиль была объединена потомками их полулегендарного предка Хасана и поселилась на территории, называемой сейчас Западной Сахарой. Остальные хасаны, а именно удайя, вторглись в Северную Мавританию и небольшими группами продолжали двигаться к югу. Это проникновение арабов в Мавританию начинается около 1400 года и продолжается в следующие века. Арабы, которых мы будем называть макиль или хасанами, продолжали вести жизнь кочевников-воинов. Однако им, окруженным мусульманами, не с кем было вести священную войну. У них не было никакого имущества, поскольку они привыкли жить военными грабежами, а немногочисленные стада верблюдов не могли обеспечить их существования. Кроме того, в Мавритании все лучшие пастбища и водопои оказались собственностью берберов. С момента распада государства Альморавидов берберов постоянно раздирали внутренние распри. Тем не менее для прибывших с севера арабских кочевников они были здесь старожилами и сравнительно богатыми. Им принадлежали большие стада, они занимались торговлей, в их руках находились оазисы, на них работали черные рабы. Берберы со времен Альморавидов стали ортодоксальными мусульманами, строго придерживались религиозных правил и большое значение придавали образованию, умению писать, знанию молитв и священных книг. Они чувствовали свое превосходство в области культуры перед макиль, большей частью неграмотными, и не собирались уступать им территорию. Группы арабов также жили в полной изоляции от берберов на своих немноголюдных стоянках.
Но вскоре произошли столкновения между пришельцами и старыми хозяевами этой страны. Арабы-воины своей организованностью, военными традициями и постоянной боевой готовностью превосходили берберов, которые после завоевания страны почти совсем утратили былой военный пыл. И все же в начале XVI века племена хасанидов еще не представляли собой единого организма с политической точки зрения. Опи по-прежнему были бедны, хотя к тому времени уже составляли довольно многочисленную группу.
К концу XVI века макиль постепенно начали подчинять себе отдельные племена и селения берберов, принуждая их выплачивать дань. Единственным спасением для берберов, по крайней мере в это время, были постоянные раздоры между арабскими племенами и нескончаемые братоубийственные войны, что ослабляло силы захватчиков. Однако одному из арабских племен, мгафра, удалось разбить и оттеснить на север другое арабское племя – улад ризг. Это позволило ему стать единственным властителем юга. Среди мгафра особенно выделялись трарза и бракна, позднее так же стали называться земли, где они жили; в настоящее время это провинции на юге Мавритании. Тогда же кочевники Юго-Западной Мавритании, многочисленные и богатые берберские племена зенага, находились под гнетом победоносных мгафра, которых дальше мы будем называть хасанами, хотя они и не представляли всей группы хасанидов. Недовольство берберов росло. Для них, особенно южных, ежедневно сталкивавшихся с агрессивными мгафра, все чувствительнее становилось присутствие непрошеных гостей, они все чаще были вынуждены уступать им. В первой половине XVII века положение в стране в целом, и особенно на юго-западе, было крайне напряженным. Назревал вооруженный конфликт. Берберы зенага, доведенные до предела, начали военные действия против хасанидских племен мгафра.
Большинство вождей берберов, в основном южных племен, пришли к соглашению. Берберские племена сосредоточились на юго-западе, чтобы общими силами ударить по ненавистным хасанам. Во главе армии берберов зенага встал человек, чей религиозный и военный авторитет был непререкаем. Он известен под именем Насер эд-Дин, что значит «Защитник религии». Его подлинное имя – Абу Бекр Ульд Абхом, он был из племени улад деиман. Популярность этого предводителя возросла еще больше, когда он запретил платить дань хасанам, а вместо нее ввел подати – закат*, которые взимал со своих приверженцев. Именно отказ от выплаты дани и явился причиной разразившегося в 1644 году вооруженного конфликта между хасанами и берберами. Разгоревшаяся война получила название «Шарр Бабба». Происхождение этих слов до конца неясно. Народная традиция объясняет их следующим образом: повелитель берберского племени ташедбит убедил одного из своих вассалов, по имени Бабба, отказать хасанам в выплате дани. Это стало той самой пресловутой каплей, которая переполнила чашу взаимной неприязни, и в результате разразилась война. Если исходить из данной интерпретации, то Шарр Бабба – это «война некоего Бабба» или «война за некоего Бабба». Более научной и более правдоподобной представляется другая концепция, а именно: название происходит от слова, взятого из языка зенага, на котором говорили берберские воины, где «шорбоббих» означает «издать военный клич».
Эта страшная война длилась 30 лет и в конце концов могущество мавританских берберов было повержено. В Мавритании был учрежден новый общественный порядок.
Насер эд-Дин собрал многочисленную армию и попел ее прежде всего на негритянские племена, жившие в долине Сенегала. Характерно, что во время военных действий, как правило, прежде всего били и грабили не принимавших участия в конфликте племена земледельцев, которые жили по берегам Реки. Для армии это имело и моральное и материальное значение: неся небольшие потери, она сразу одерживала победу и захватывала богатую добычу.
Победы над черным населением юга были не единственным успехом армии имамаНасера эд-Дина. Она одержала также ряд небольших побед в столкновениях с арабскими племенами, которые тогда еще окончательно не объединились. Только через шесть лет после начала военных действий, около 1650 года, произошло первое крупное сражение между двумя опытными армиями. Место этой битвы – Тиртиллос – находилось в Трарзо, между современным Нуакшотом и Росо. По преданию, во время завтрака перед боем, когда Насеру эд-Дину подали миску прекрасного шафранного соуса, он отодвинул ее от себя со словами, что его сегодня в раю ждет пища намного великолепнее. Битва закончилась блестящей победой берберов, по Насер эд-Дин, как он сам себе предсказал, погиб. Берберы понесли большую утрату.
К концу тридцатого года войны произошла последняя встреча обеих армий. Берберы были истощены долгими годами борьбы, союз берберских племен уже давно распался. Не удивительно, что сражение в Тен-Яфдаде закончилось для них страшным поражением. В нем погиб их последний имам,погибли все мужчины, способные носить оружие и оказывать сопротивление. Разгромленные, понесшие жестокий урон, разоренные берберы, те, что остались в живых после поражения и перенесли ужасные лишения, выпавшие на их долго, безоговорочно сдались на милость победителей.
Отказавшаяся сдаться немногочисленная группа берберов перешла реку Сенегал и поселилась среди негритянских племен на территории современных Сенегала и Мали. Здесь они разбогатели. В настоящее время им принадлежат огромные владения, массы негров-арендаторов зависят от них. Эти марабуты, якобы ведущие родословную от потомков пророка и обладающие барака – святой благодатью, стали, особенпо в Сенегале, влиятельной политической силой.
Тем временем победившие хасаны ввели беспощадное и жестокое правление. Только они имели право носить оружие, а берберам это строго-настрого запрещалось. Победители поделили между собой берберские племена, превратили их в своих вассалов и заставили выполнять различные повинности. По новым законам, если у берберского колодца появлялись хасаны, берберы должны были доставать им воду. Кроме того, они обязаны были предоставлять приют каждому воину и его семье в течение трех дней, кормить его и его животных, а затем отправлять в следующий лагерь. К этому еще добавились различные пошлины на животных, на обработку полей и ведение торговли, которые выплачивались натурой. Хасаны взимали пошлины с караванов, и часто один и тот же караван вынужден был платить нескольким группам хасанов, встречавшимся в пути.
Война Шарр Бабба коренным образом изменила роль берберов-марабутов. Из былых хозяев Мавритании они превратились в подданных. В определенном смысле берберы даже утратили собственные названия племен и принимали те, которые носили их повелители, добавляя к ним лишь свое традиционное наименование. Им было оставлено право эксплуатировать рабов, вольноотпущенников и собственных вассалов, разрешалось заниматься торговлей, а также наукой и религией, они могли увеличивать свое богатство, по все это при условии своевременной уплаты податей. Марабуты, потеряв власть, а также возможность вести войны, с увлечением занялись накоплением богатства и учебой, пытаясь таким путем выйти из унизительного положения, в котором они оказались.
Обычно принято говорить, что война Шарр Бабба сформировала мавританское общество таким, каким мы видим его сегодня. Если верить мавританским традиционалистам, оставившим потомкам историю своего народа, то в Мавритании еще до войны существовал определенный общественный порядок. Во времена появления первых арабов берберское общество Мавритании состояло из нескольких племен, относившихся к народу санхаджа: лемтуна, годдала, масуфа и др. Это были берберы и немногочисленные арабские племена, которые первыми достигли мавританской пустыни и ассимилировались. Они приняли обычаи и общественно-племенной порядок местной среды. Из трех упомянутых племен лемтуна играли самую важную политическую роль. Общество делилось на три класса. К первому, зуайя,относились набожные люди, ученые и знатоки мусульманских законов. Они проводили службы в мечетях, занимались обучением молодого поколения, разрешали споры, опираясь на законы Корана; были хранителями традиций племени, в какой-то мере историками своего народа, к ним мавры и по сей день относятся с почтением. Сегодня четырнадцатилетию! мальчик-зуайя может перечислить своих предков до двадцатого колена, назвать все племена и группы своего района, он знает наиболее серьезные события и войны и т. д. Ко второму классу относилась группа людей, которая вела священную войну и защищала территорию племени. Она называлась муджахедини в некоторой степени напоминала средневековое дворянство. Третий класс назывался лахма*; его представители занимались сельским хозяйством, скотоводством и торговлей, одинаково платили как воинам, так и ученым налог закат.
Зуайя не принимали участия в войне Шарр Бабба. Их идеология набожных ученых не позволяла им браться за оружие даже в целях защиты порядка, блюстителями которого они являлись. Поэтому хасаны предоставили им исключительные права: разрешили продолжать заниматься богослужением и наукой. Они единственные, кто сохранил как древнее название зуайя, так и марабут. Здесь следует сделать небольшое отступление: перед войной Шарр Бабба марабутами называли всех санхаджа, после войны – только зуайя. Однако сегодня, если речь заходит о племенах марабутов, совсем не обязательно имеют в виду потомков зуайя, подразумеваются все племена санхаджийского происхождения, т. е. неарабского.
Новое мавританское общество состояло из четырех основных классов, равновесие между которыми было уже серьезно нарушено. На верхней ступени общественной лестницы теперь стояли воины-аристократы, хасаны, ведущие начало от арабов. Выполняли свои обязанности они сурово, нередко их жестокие порядки вызывали возмущение остальной части общества. Небольшую вначале группу составляли прежние зуайя, или марабуты, занимавшиеся наукой и торговлей. Сохранился третий класс, лахма, в который вместе с бывшими вассалами вошли и все воины-берберы, поднявшие оружие против хасанов и разгромленные ими. Этот класс наиболее многочислен. Кроме того, как и при общественном строе берберов, остались «рабы» [14]14
Слово «раб» используется здесь для обозначения нескольких категорий неполноправною населения, находящихся в разной степени зависимости от кочевников. Лишь очень немногие из их числа были рабами в привычном для нас смысле слова; большинство находилось скорее в крепостном состоянии, если пользоваться русской терминологией. – Примеч. ред.
[Закрыть]и вольноотпущенники. Судьба этих людей не претерпела больших изменений.
Помимо данной классической схемы: воины-хасаны, ученые, торговцы – марабуты, лахма и «рабы» – несколько за пределами общества, связанного рядом зависимостей и обязательств, стояли и продолжают стоять свободные ремесленники, гриоты, немади – племя, промышлявшее охотой, и имраген, занимавшиеся рыболовством. Каждому из этих общественных групп – ремесленникам, гриотам и другим – мы уделим внимание, рассмотрим их положение уже после войны Шарр Бабба, то есть с конца XVII века по нынешний день.
Кратко хасанов можно охарактеризовать следующим образом: обособленный класс феодалов, воинов и аристократов, нечто подобное европейскому рыцарству средневековья, арабского происхождения, прибыли в Мавританию как завоеватели, покорили ее, подчинив себе все народы, населявшие эту страну. Они одни имеют право на ношение оружия.
Хасаны – это люди, у которых любая работа вызывает самое глубокое презрение. Их «историческая миссия» состоит в том, чтобы воевать и управлять. Теоретически, правда, они в основном защищают трудящееся население страны, а именно торговцев, пастухов, крестьян от нападения других племен. За это все вынуждены платить им щедрую дань. Хасаны даже не стремятся накапливать богатство. Непосредственная их собственность – одежда и домашняя утварь, оружие и несколько верблюдов для верховой езды. Они могут себе позволить не накапливать имущество, поскольку повинности, которые возложены ими на население, удовлетворяют все их потребности. Пастухи поставляют им молоко, масло, мясо и шкуры, крестьяне – просо и финики, торговцы отдают соль и часть привозимых ими товаров, племена марабутов кормят воинов в своих лагерях, поят их животных, предоставляют средства передвижения. Сами же хасаны могут заниматься только войной. Когда после войны Шарр Бабба врагов не стало, поскольку берберские и негритянские племена не оказывали больше сопротивления, начались войны между отдельными племенами. Правда, сразу после войны Шарр Бабба каждому племени была предоставлена определенная территория, на которой они могли пасти стада. Но всегда находятся охотники занять чужие пастбища и колодцы, особенно в период засухи. Причин для споров было много, а хасанам, привыкшим постоянно воевать, только этого и надо было.
На будущем класса хасанов отрицательно сказалось их презрение к труду. Столь же пренебрежительно относились они и к науке, которая в мавританском обществе самым тесным образом была связана с религией. Большинство воинов до последнего времени оставались неграмотными и уж ни в коем случае не давали образования девушкам, что было и остается повсеместным явлением среди марабутов. Незнание ислама вело за собой незнание основ религии, несоблюдение основных положений учения Магомета. Отсюда всеобщее мнение о хасанах как о «неверных» и «нечестивых», распространяемое особенно марабутами.
В создании Мавритании как единого государства хасаны сыграли, хотя и бессознательно, очень важную роль. Они стремились навязать жителям этих земель арабский диалект, носящий название «хасания». До войны Шарр Бабба почти все племена берберов говорили на языке зенага, или по-берберски. Сегодня этот язык известен лишь небольшому числу марабутов Трарзы. В настоящее время их насчитывается несколько тысяч, и с каждым годом эта цифра уменьшается. Раз уж мы заговорили о языках Мавритании, следует упомянуть, что в отдельных ксарах,таких, как Вадан, Тишит, Валата, проживающее там черное население говорит на языке азаир, или азер, родственном языку соннике, с многочисленными берберскими наслоениями. Этот язык – культурное наследие древнего черного населения Мавритании.
Языковое единство – важный фактор единства государства Мавритании, он во многом облегчает взаимопонимание и помогает распространению ислама. Арабский язык как язык литургический, с одной стороны, и государственный – с другой, знают и негритянские народности долины реки Сенегал. Создалось совершенно парадоксальное положение: хасанидские племена, известные своим равнодушием к религии, благодаря внедрению своего языка оказали содействие распространению и утверждению ислама. Кроме того, повсеместное использование языка хасания в Мавритании приблизило эту страну к другим странам арабского мира и в определенной степени отдалило от государств Черной Африки.
Зуайя, толба («учитель»), иначе мрабтин, или употребляемое сейчас название марабуты, – это второй из основных классов мавританского общества. Сюда входят многочисленные племена, в настоящее время или совершенно независимые от хасанов, или подчиненные им в незначительной степени. Зуайя еще до XVII века посвящали себя религии и приобретению знаний, поэтому запрещение носить оружие и вести войны не коснулось их в такой степени, как воинов, и существенно не изменило их образа жизни. С еще большим усердием, чем до войны Шарр Бабба, они обратились к паукам и другим мирным занятиям. Они продолжали оставаться учителями, служителями храмов, проповедниками, кадиили судьями. Умение писать позволяло им заняться торговлей в международном масштабе. Марабуты не чуждаются мирских занятий, таких, как разведение скота, обработка земли, рытье колодцев. Всем этим занимаются не они сами, а зависимые от них харатины и «рабы». Об отношении в Мавритании к наукам, о том, насколько недешево было получить знания и с каким почтением относились к ученым, свидетельствует такой факт: в племени улад дейман за обучение ребенка Корану в конце XIX века учителю платили в год 30 телок или 180 баранов. Впоследствии вознаграждение уменьшилось до 60 баранов и учителя содержали лишь во время обучения. Тем не менее это была большая сумма. Ученик, завершивший обучение, должен был до конца жизни ежегодно делать учителю подарки в благодарность за полученные знания. Служба в храмах и выполнение обязанностей кадиприносили марабутам значительные доходы. Их прибыли намного выше прибылей марабутов-торговцев. Можно было выполнять обязанности имамаи кадии одновременно заниматься торговлей. И по сей день нередко эти люди – миллионеры, хотя их образ жизни мало чем отличается от жизни их братьев. Они также живут в низких и тесных каменных или глиняных домах ксаровили в палатках, так же одеваются, спят на овечьей шкуре, брошенной на глиняный пол, едят тот же самый кус-кус* из муки проса, размолотого на примитивных ручных жерновах. Незадолго до нашего прибытия в одном из ксаровв полночь умор человек, который оставил сыновьям около шестисот верблюдов, двадцать одного «раба», около двух с половиной миллионов африканских франков наличными и более четырех миллионов в недвижимости – сады, дома, товары. Дом его был таким же, как все остальные в этом селении, и жизнь семьи не свидетельствовала об огромном богатстве. Один из сыновей был учителем неполной средней школы в Атаре, второй – сержантом мавританской армии, остальные занимались торговлей.
Марабуты безоружны, и их единственное оружие, как сами они любят говорить, – это «вера во всемогущество Аллаха». Невозможность защищать интересы своего класса с помощью оружия развила в них такую ловкость и сноровку, что они сумели преодолеть все превратности судьбы и жестокость хасанов. Бесспорное интеллектуальное превосходство над воинами, огромное богатство, которое они накопили, роль посредников между людьми и Аллахом – всего этого еще было мало для упрочения своего исключительного положения. Марабуты постарались приобрести более высокий авторитет, ссылаясь на свое происхождение от пророка. На самом деле большинство племен марабутов происходит от берберских племен санхаджа, прибывших в эти места с севера еще в конце X века. Однако существует много племен и родов, якобы ведущих свое происхождение либо непосредственно от пророка, – они называются шорфа*, либо от племени пророка – корейш*,есть еще потомки родов, которые первыми признали учение Магомета и оказывали ему поддержку в войнах за снискание сторонников, – их называют ансар.В числе этих племен есть такие, которые, по мнению, бытующему в данных местах, действительно имеют право на свои названия, но рядом с ними существуют и другие, узурпировавшие право на благородное происхождение, что, однако, не отражается на всеобщем уважении к ним, а у потомков пророка к этому еще добавляется и материальная выгода, поскольку верные обязаны приносить им хидийя*. Если такой марабут-корейш наделен еще благодатью барака, которая позволяет ему совершать чудеса, и само прикосновение к его одежде – уже благо, хадийятечет так щедро, что семье не приходится заботиться о других источниках доходов.
Благочестие и учение особенно развились в Мавритании. Дети из семей марабутов с малых лет учатся чтению, письму, молитвам Корана, большую часть которого выучивают наизусть. Это в равной мере относится к мальчикам и девочкам. Если семья бедна и в одиночестве или с малочисленной группой кочует вдали от крупных центров, не имея возможности нанять учителя, а дети не посещают кораническую школу, тогда сама мать учит их писать и читать священные книги. Но каждый старается, чтобы его ребенок получил образование. Традиция посвящать себя учению переходит из поколения в поколение.
Примером может служить известный мавританский ученый Моктар ульд Хамидун. Он рассказывал нам, что отец за его обучение платил учителю 60 баранов в год. Это нас не удивило, если принять во внимание, что в этой семье были живы старые традиции. Прадед Ульд Хамидуна Маханд Баба (1771–1860) был автором более тридцати научных трудов. Дед Мохаммеден (1815–1901) был кадии также автором многих произведений. Отец Хамидуна (1895–1945) известен как выдающийся кади,преподаватель логики и прежде всего видный юрист, слава которого далеко распространилась в мусульманском мире. Он оставил после себя много юридических трудов. Моктар ульд Хамидун, воспитывавшийся в атмосфере науки, также посвятил себя научной работе. Получив традиционное образование, он какое-то время преподавал в коранической школе, затем в высших мусульманских школах. С 1943 года он – профессор медресе* в Атаре. Последующая его карьера была ужо нетипичной для членов этого рода. Он занялся не только историей Мавритании в широком смысле этого слова, так, как это понимают мавританские традиционалисты, то есть генеалогией родов и племен, биографией выдающихся личностей, но и изучением и описанием фольклора, обычаев своей страны, ее повседневной жизни. Он оказался также знатоком берберского языка, на котором еще говорят в его племени. Моктар Ульд Хамидун не ограничился тем, что писал свои произведения по-арабски, он прекрасно владел французским языком и приступил к совместной работе с отделом Мавритании ИФАНа, который публиковал его работы. Наука многим обязана бескорыстной помощи этого ученого, его сообщениям, на которые он не скупился и передавал всем, кто стремился узнать больше о жизни страны.
Ученые и торговцы марабуты много путешествуют. Первые посещают своих правоверных, их приглашают в качестве преподавателей в школы высшей ступени в другие селения, даже другие государства, они выступают в роли миссионеров среди еще не исламизованных негритянских племен. Торговцы проходят с караванами сотни и тысячи километров от Средиземного моря до тропических стран. Мы встречали их на базарах пограничной зоны Гвинеи и Сенегала, в Марокко, в Алжире. Такие переходы расширяют их кругозор, учат общению с другими народами. Многие селятся в далеких от родины странах, но контактов с родными местами не порывают. Мы уже упоминали о том, что часть марабутов перешла реку Сенегал во время войны Шарр Бабба и поселилась среди негрских народностей. Сегодня это богачи, владельцы крупных латифундий, осуществляющие религиозную и гражданскую власти над огромными массами подданных, которые платят им подати натурой, деньгами, работой. Влияние мавров на мусульманские «черные» страны огромно, хотя внешне оно ограничивается только областью религии.
Хасаны внешне несколько отличаются от марабутов. Бесспорно, это не правило, но среди них часто можно встретить людей с матовой светлой кожей, тонким орлиным носом и худым, аскетическим лицом. Если они и отличаются от европейцев, то, пожалуй, только своей исключительной красотой. У марабутов-берберов, прибывших в Мавританию значительно раньше, было немало возможностей смешаться с коренным негроидным населением. Кожа многих из них темно-бронзовая, что подтверждает присутствие в них негритянской крови. В мусульманской религии, а тем более в предмусульманских традициях не было никаких расовых предрассудков, поэтому и в настоящее время решающим является происхождение, а не цвет кожи. Если у знатного марабута рождается черный потомок, который достигает высокого звания, соответствующего его происхождению, никого не шокирует цвет его кожи. Однажды шейх одной из групп племени и в то же время руководитель благочестивого братства, красивый светлокожий мужчина, попросил нас взять с собой в Атар его брата. Мы согласились. На следующий день перед нами предстал пожилой, исполненный достоинства мужчина, и мы были поражены – абсолютно черный. На всем пути, где только нам встречались люди (а в Сахаре все знакомы друг с другом в радиусе тысячи километров), к нему относились с религиозным почтением, отвешивали поклоны, просили благословить.
Хасаны и марабуты образуют элиту; она направляет жизнь всей страны. В их руках сосредоточена власть, которой они завладели благодаря умной многолетней политике. Им принадлежат пастбища с многочисленными стадами и поля, где работают черные арендаторы и сельскохозяйственные рабочие, как бы мы их назвали у нас в Европе. Остальные общественные классы представляют собой «клиентов» этих двух господствующих классов (клиенты в понимании классического мира, то есть античного) [15]15
Сам по себе термин «клиент» для обозначения зависимого населения в кочевом обществе мало соответствует тому, что понималось под этим словом в древнем Риме, прежде всего потому, что там связь клиента с патроном была индивидуальной. В Мавритании же зависимость имела прежде всего коллективный характер. – Примеч. ред.
[Закрыть], они вынуждены отрабатывать повинности, платить подати и т. д. Все прочие зовутся аиаль*, они находятся или «под книгой», как говорят мавры, то есть принадлежат к марабутам, пли «под стременем», то есть принадлежат к хасанам. Такая структура мавританского общества поразительно напоминает структуру европейского общества раннего средневековья или структуру арабских племен остальной части мира.