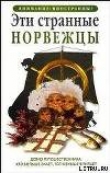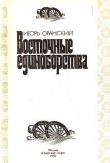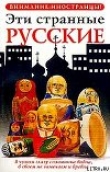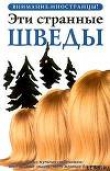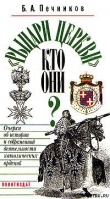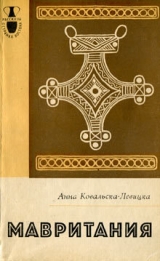
Текст книги "Мавритания"
Автор книги: Анна Ковальска-Левицка
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Переходы больших кочевников непостоянны, они совершаются в том направлении, где в данный момент есть надежда найти небольшое количество корма – прошел кратковременный дождь и пустыня на несколько дней покрылась зеленью. Поэтому кочевники сами называют себя «улад эль мазен» – «сыновья дождевых туч», тучи указывают их походам направление.
Вся жизнь больших кочевников проходит в труде и опасностях, часто смертельных для людей и животных. Постоянно, изо дня в день, им приходится преодолевать огромные пространства в поисках пастбищ и воды. Порой достаточно потерять ориентацию, пойти по ложному следу, чтобы расстаться с жизнью. Поэтому кочевник должен владеть многими знаниями, большим опытом, чтобы защитить себя и своих животных от гибели. Так, к примеру, он должен знать следы всех животных, уметь определять по ним, давно ли животное прошло здесь, какого оно было пола и возраста. Прежде всего кочевник должен обладать способностью определять масштабы территории, которую предстоит пройти, безошибочного определять расстояние между двумя местами водопоя, знать, смогут ли люди и животные преодолеть это безводное пространство. Ему нужно знать направление ветров, уметь предвидеть как песчаные бури, так и дожди. Ему необходимо знание не только метеорологии, но и астрономии: по созвездиям и направлению движения звезд, по их расположению определять время. Одновременно он должен держать в памяти карту огромных пространств с имеющимися на них водопоями и пастбищами – без этого, как и без умения найти их, нечего и думать о переходе через пустыню. Каждая ошибка здесь приводит к смерти. Наконец, кочевник обязан все знать о животных, которых ему доверили, у него должны быть элементарные знания по ветеринарии и народной медицине, потому что ему приходится лечить не только животных, но и членов своей семьи.
Чтобы постичь все тайны науки о пустыне, необходимо родиться и жить в обстановке постоянных походов и опасности. Сыновья кочевников, которых отдали в школу в ксаре,уже не в состоянии вернуться в пустыню: они не смогли бы прожить в столь тяжелых условиях.
Все меньше остается больших кочевников. Франция проводила в Сахаре испытание ядерного оружия, и большая часть пустыни была закрыта для кочевников. Нехватка пастбищ заставила людей переместиться на юг, поближе к селениям. Многие из них связали свою жизнь с ксарами,у них там есть свои дома или шалаши, и теперь они совершают только небольшие переходы в радиусе нескольких десятков километров от оазисов.
Постоянное перемещение с места на место, неизменный контакт с опасностями пустыни развили в маврах любовь к свободе, неприязнь к подчинению кому бы то ни было и одновременно любовь к приключениям и риску. Во время переходов, часто совершаемых от Сенегала на юге до гор Атласа на севере, от Мали на востоке до Атлантики на западе, кочевники встречают другие племена, знакомятся с жизнью Мавритании, Марокко и Алжира. Для них не существует политических границ, не существует понятия государственных различий, почти везде они встречают таких же, как они сами, кочевников, ту же религию и похожий язык. В результате своих широких контактов большие кочевники были в известном смысле космополитами, слабо связанными с идеей государства и мавританского народа. А в их самой молодой истории это имело серьезные политические последствия.

Женщины и дети из племени регейбат на фоне традиционной палатки из черной шерсти
Здесь следует упомянуть еще об одной форме кочевого образа жизни, не попавшей в схему, – полукочевники, средние и большие кочевники. Имеется в виду кочевой образ жизни жителей ксаровв оазисах Адрара и Таганта. Население живет здесь в каменных или глиняных домах, занимается торговлей, возделывает сады, орошаемые из колодцев, разводит скот. Стада верблюдов и коз пасутся под присмотром пастуха в радиусе 50–100 километров от селения.
Самым известным и многочисленным (около 40 тысяч человек) из племен, ведущих большой кочевой образ жизни в Сахаре, является племя регейбат. Оно живет в Западной Сахаре, в мавританском Адраре и частично на территориях, относящихся к Мали. Регейбат живут небольшими группами, насчитывающими от десяти до двадцати семей, они пребывают в постоянных походах по громадным пространствам пустыни. Считаются людьми свободными, не зависящими ни от какой власти. Откуда они пришли на территорию нынешнего кочевья и откуда ведет свое начало их название – неизвестно. Уже в XIV веке о них говорят как в пастухах, воинах и разбойниках. Вся история племени – это история вечных войн с соседями, налетов на караваны и оазисы. Как гласит легенда, предок этого племени Сиди Ахмед Регуби купил у племен, живших здесь раньше, земли от Сегиет-эль-Хамры до Атлантического океана. Это случилось примерно в XII веке. На этом основании регейбат считают, что все и всё, что находится на данной территории, должно принадлежать им. Грабежи, исходя из этого принципа, были лишь возвратом утраченного собственного имущества. Они так далеко распространяли свое «право собственности», что грабили даже суда, которые оказывались выброшенными морской стихией на «их» берег.
Регейбат часто считают хасанским племенем, однако они являются берберами и по происхождению марабуты, что подтверждается их внешним обликом и обычаями. Более того, они считают себя шорфа,то есть прямыми потомками пророка. Однако это не мешает им вести мирской образ жизни и не соблюдать многие религиозные правила. И все же они фанатичны и прочно связаны с исламом.
После появления в Мавритании французов регейбат направили свой воинственный пыл против колониальных властей, а когда начало складываться молодое мавританское государство – против его правительства. Частые и тесные контакты с Марокко, где они продавали верблюдов, побудили регейбат высказаться за присоединение Мавританской Сахары к Марокко. В связи с этим в 1957 году разразилась очередная война, продолжавшаяся несколько месяцев. Она была направлена против французов и мавров юга, стремившихся к созданию самостоятельного мавританского государства. Весь Адрар был охвачен огнем. Воина с неуловимыми воинами на верблюдах была почти невозможна, и положение представлялось безнадежным. Только в 1958 году сенегальские и французские отряды заняли с воздуха все места водопоев и таким образом вынудили кочевников, отрезанных от источников воды, сложить оружие. После этого поражения регейбат ограничивались лишь демонстрацией против государственной власти, и в основном в пустыне преобладает покой. Только многочисленные могилы тех лет, попадающиеся в самых неожиданных местах, и благочестивый страх, с каким говорят об этом племени, напоминают о недавнем прошлом.
На излучине Амокжаа, одном из самых трудных переходов через очередной скалистый порог Адрара, мы встретили кочующую группу регейбат. Впереди шли верблюды, навьюченные большими торбами и длинными шестами для установки палаток. На одном из верблюдов в женском седле, которое скорее напоминало носилки, чем то, что мы привыкли понимать под этим словом, сидела женщина с группой маленьких детей и множеством узелков. Другой верблюд в таком же седле вез больного мужчину. Остальные шли пешком – о ужас! – босиком. Острые скалы, раскаленные солнцем, не производили на них никакого впечатления. Группа женщин, одетых в черное, легко ступала по камням, как по гладкой дороге. Самая старая из них, девяностолетняя, как мы узнали позднее, мать предводителя группы, первая заметила среди пас Сиди Моктара. Радостные восклицания свидетельствовали о том, что он был известен и популярен. Караван остановился, чтобы поговорить и послушать, какие новости в бруссе.Сиди Моктар, конечно, тотчас высек огонь и приступил к завариванию чая. Нам оставалось только наблюдать эту сцену, потому что компания не обращала на нас внимания. Болтали по меньшей мере час, за это время подошло стадо верблюдов, которое следовало за людьми. Верблюды шли под присмотром пастухов, одетых в сильно выгоревшую, когда-то светло-синюю одежду. Верблюдицы с малышами беспокойно фыркали, проходя мимо нашего «лендровера». Крупные, белые, величественные, они выглядели великолепно.
Когда наконец закончился обмен всеми новостями и кочевники начали готовиться к продолжению путешествия, Сиди Моктар подошел к нам с вопросом, пе могли бы мы взять с собой одного мальчика. Они что-то забыли в лагере и теперь, пользуясь случаем, мальчик мог с нами вернуться, а потом пешком догнать своих. Мы, конечно, согласились. Он застенчиво закрыл лицо концом тюрбана и разместился под брезентом. Мы проехали тридцать восемь километров, когда он внезапно постучал по кабине водителя, выскочил и быстро, ни слова не говоря, исчез среди скал. Подумать только, он должен был еще дойти до предыдущего лагеря, а потом пешком, без капли воды вернуться, преодолев несколько десятков километров, к своим и еще найти их новый лагерь. Выносливость этих людей вызывает подлинное восхищение!
Мы решили воспользоваться многочисленными знакомствами Сиди Моктара, его известностью и дружелюбием, с каким его везде встречали, и поселиться на время прямо в лагере регейбат, чтобы познакомиться с их повседневной жизнью, которую знали только по случайным встречам в пути.
Лагерь, в который мы должны были ехать, располагался в сравнительно населенной части Сахары, всего лишь в нескольких десятках километров севернее Атара. Туда не было никакой дороги, но паши проводники прекрасно знали путь. Мы проезжали мимо многочисленных могил. Это были круглые стены, сложенные из отдельных камней, которые ничем не соединялись друг с другом. Никто из жителей этих мест не знал, к какому времени они относятся, но совершенно очевидно, что они были сложены еще до принятия ислама. Конечно, их считают могилами бафуров, как все, что возникло в незапамятные времена. Земля в этих районах плодородна и сравнительно хорошо орошается, кое-где среди скал поднимаются анемичные деревца и колючие кусты. Всюду, где есть зелень, можно встретить признаки жизни, здесь мы дважды объезжали стада пасущихся коз.
Наконец вдали на сером, слегка волнистом пространстве показались палатки – признак того, что мы приближаемся к стоянке. Нас здесь ждали, тем не менее прибытие «лендровера» вызвало всеобщее замешательство. Встречать нас высыпала вся детвора, медленно подходили взрослые. Начались приветствия и, конечно, обязательный чай, который постепенно растопил лед недоверия.
Лагерь был маленький, как большинство стоянок в этом районе, в нем было всего три палатки. Две из них занимали семьи регейбат, каждая состояла из мужа, жены и нескольких детей. В третьей, меньшей палатке, жили их харатины. Одна из семей регейбат была «владельцем» девушки, другая – молодого человека. Они поженили своих слуг и с этого времени уже везде кочуют вместе, причем молодой харатин выполняет все мужские работы для обеих палаток, его жена помогает и той и другой хозяйке; их дети также помогают обоим хозяевам. Одиннадцатилетний сын пасет стада коз, принадлежащие обеим семьям регейбат, старшая девочка занимается своими братьями и сестрами и детьми своих благодетелей. Козы и верблюды пасутся вместе, но доят их хозяева каждый у своей палатки, кухня также отдельная. У харатинов есть несколько собственных коз и свой очаг.
Палатки, как все в Мавритании, сшиты из узких шерстяных полос, сотканных женщинами на очень примитивных ткацких станках. Плотная шерсть не пропускает дождя, а в холодные ночи спасает от холода. Одна из палаток была уже современной: сшита из купленных хлопчатобумажных полотнищ. Преимущество такой палатки – легкость, ее проще поставить и свернуть, легче перевозить с места на место. Но она менее прочна, промокает, да и покупать ее нужно за деньги, тогда как шерстяные палатки ткут из шерсти собственных животных. Крыша палатки поднята над землей на деревянных шестах. Ее стены остаются открытыми. Только на ночь стены из того же материала, что и крыша, прикрепленные к ней длинными шипами акации, опускаются. В палатке становится тепло и уютно. Днем стены поднимаются, чтобы проветрить палатку, нагретую солнцем.
Вместе с остальными я села в тени палатки на положенную на землю циновку. Прислонившись к кожаной подушке, попивая чай, я стала с интересом присматриваться. На земле кроме циновки и кожаной подушки, которую предложили мне, чтобы я устроилась поудобнее, лежала еще большая овчина, ею в холодные ночи укрывается вся семья. В углах стояла всевозможная утварь – большая с квадратным дном торба, скорее, мешок для одежды, кухонной посуды, одеяла и др. Рядом меньшие по размеру и менее красочные кожаные мешки для мужского имущества. Еще было женское седло, которое выполняло роль полки. На нем лежали бурдюки с маслом, кислым молоком и финиками, кожаный мешок с просяной мукой и другие запасы, такие, как полоски вяленого мяса, кусочки сухого молока, какие-то семена, листья, порошки – все приправы для кухни. В палатку через открытые стены входили козлята. Это от них прячут запасы пищи на возвышении. В углу стояла деревянная миска для дойки верблюдиц, деревянная посудина с ручкой для дойки коз, большой деревянный ушат для водопоя животных и деревянная воронка для наливания молока в кожаные бурдюки. Весь этот набор дополнял жестяной чайник для воды и тщательно накрытый набор для заварки и подачи чая – единственный дорогой предмет, который можно увидеть в этих небогатых помещениях. У палатки в песке лежали седло для езды на осле и красивой формы мужское седло для верблюда. На двух столбиках, вбитых в землю, висел растянутый бурдюк с водой, и среди всего этого беспорядка вертелись козлята и кувыркались дети. В двадцати метрах от палатки, под колючим кустарником находился очаг, на котором хозяйки сейчас вместе с прислугой готовили для нас угощение. Быстро зарезали козу, и кучка детей наблюдала за сложной процедурой снятия шкуры. А это следует делать так, чтобы было как можно меньше порезов; из нее потом сошьют бурдюк.
Если кого-то хотят особо вкусно попотчевать, то забивают козу и из целого животного готовят блюдо под названием мешуи*.Эго большая роскошь. Самые лучшие куски предназначаются гостям и хозяину, зато голова обычно отдается харатинам. Робкая служанка-метиска взяла козью голову в свою палатку и вечером также приготовила угощение для своей семьи: кус-кусс мясным соусом.
Тем временем мы приступили к пиршеству. На круглом латунном подносе с поднятыми краями, выложенном «хлебом», или блинчиками из ячменной муки, в густом пряном соусе плавали куски козьих потрохов, приготовленных в кипящем масле, и куски мяса с костями, зажаренного на огне. Я ждала, пока другие начнут есть, чтобы не совершить какой-нибудь оплошности. Надо было правой рукой (без помощи левой) оторвать кусочек блина и уже им набирать соус. Правда, пока я донесла до рта импровизированную ложку из блинчика, половина соуса вытекла. Тем не менее мне удалось оценить превосходный вкус. Мясо было очень жестким, но аппетитно пахло дымом и ароматными приправами. В конце пиршества хозяин подал финики. Он сам извлекал из них косточки и «фаршировал» шариками масла из козьего молока. Традиционный порядок, который предписывает начинать прием финиками, на сей раз был изменен. Видимо, Бальде сообщил хозяевам о европейском обычае подавать сладкое на десерт. Конечно, женщины не принимали участия в приеме, и, только когда мы отодвинули еще довольно полный поднос, они унесли его и за палаткой устроили себе и детям пир.

Наш проводник Сиди Моктар из племени регейбат неразлучен с ружьем
Мешуи,которым нас потчевали в лагере регейбат, было подобием «банкета», на который мы были приглашены в Атаре. Там нашим хозяином был Сиди Али, один из самых богатых людей в ксаре.Хозяин принял нас в национальном костюме: в белых туфлях с поднятыми кверху носками, в широких шелковых вышитых черных штанах, просторной белой одежде и голубом тюрбане. Так же прекрасно, хотя и скромнее, чем отец, были одеты три его сына, самые старшие из десяти, которые допускались к «столу». Мы оставили сандалии у порога и вошли в просторную комнату, двери и окна которой выходили во внутренний двор. Пол был устлан матрацами и ковриками, у стен лежали кожаные подушки с красочным орнаментом. Мебели не было. Во всем чувствовалось богатство и изысканность. Когда мы уже уселись в кружок на матрацы, один из сыновей внес миску, чайник и полотенце. Он подходил по очереди ко всем присутствовавшим и поливал на руки над миской. После того как все вымыли руки, внесли нейлоновую скатерть в цветах и расстелили на полу, затем на нее поставили поднос с едой. В густом ароматном соусе плавали куски верблюжьего мяса. Вторым блюдом был кус-кусв жирном томатном соусе. С мясом я еще кое-как справлялась. Я просто брала куски и обгладывала кости. Но как есть рукой рассыпчатые, со стекающим жиром «клецки»? Сопровождавший нас Сиди Моктар показал, как следует это делать. Он набирал пальцами горсточку «клецок» и ловко подбрасывал ее на ладони, образуя небольшие шарики, которые отправлял себе в рот. Я пыталась делать то же самое, но безуспешно. Шарики никак не желали удерживаться, разваливались и превращались в кашицу. Все общество внимательно наблюдало за моими беспомощными усилиями, давало мне советы, но я продолжала оставаться непонятливой ученицей. Чтобы разрядить неловкую атмосферу, я начала смеяться над своей неуклюжестью и отсутствием сноровки. Все весело стали поддакивать. В конце концов не выдержавший Сиди Моктар еще раз выступил в роли покровителя и сам взялся за скатывание шариков, которые потом вкладывал мне в рот. Я была ему искренне благодарна, потому что кус-кусоказался великолепным блюдом. Манера есть руками и вкладывать гостю в рот вкусные куски уже давно перестала вызывать у меня удивление. Ведь я жила в иной цивилизации, и к ней следовало приспосабливаться. Изящество, с которым мавры едят руками, как, впрочем, и все их поведение, совершенно отличается от нашего, но не кажется чем-то неэстетичным. Если же говорить о гигиенической стороне дела, то здесь не остается ничего другого, как положиться на судьбу. Я пила воду из сахарских колодцев, пользуясь никогда не мытыми ковшами, задерживая зубами куски какого-то мусора, пила зрик,который делали в никогда не мытых бурдюках, и старательно размешанный также никогда не мытой рукой гостеприимной мавританки, ела из общей миски, покупала на базаре лепешки из фиников, густо усиженные мухами, – и вернулась такой же здоровой, какой уехала. Следует доверять солнцу пустыни и сухому климату, которые, как говорят, убивают все микробы.

Дойка верблюдицы
Пиршество у Сиди Али приближалось к концу. Гости стряхнули с рук остатки пищи над подносом, еще раз обмыли ладони (роскошь! воду надо покупать по высоким ценам у водовозов), после чего разлеглись на матрацах и начали чистить зубы маленькими палочками, специально для этого купленными на базаре. Сиди Моктар лежал на спине, высоко упершись ногами о стену, – видимо, он считал, что это полезно для пищеварения. Беседовали вяло. В это время слуга внес небольшую печку с раскаленными углями и банку с вязкой как смола массой. Хозяин слепил из нее шарик и бросил в огонь – все помещение наполнилось голубоватым дымом и приятным ароматом. В конце приема еще раз подали чай и трубки.
Я была единственной женщиной в обществе. Только в связи с моим присутствием хозяйка дома появилась на минуту и, заглянув в нашу комнату через открытое окно, произнесла несколько традиционных доброжелательных слов в мой адрес. Как все жены обеспеченных мужей, она была очень толстой, с фальшивой, неприятной и кислой улыбкой на лице, которую я постоянно встречала у знатных женщин. Очевидно, такое выражение лица считается хорошим тоном. Молодые сыновья хозяина не сказали за все время ни одного слова, им не полагалось принимать участие в разговоре старших.
Вернемся, однако, в палатки лагеря. Прием здесь был более скромным, но проходил в приятной обстановке и затянулся до вечера. Становилось темно, издалека доносился трубный хрип верблюда. Это стада возвращались с пастбища. Козлята бросились к маткам, с которыми их разлучили на целый день. Но их успели отогнать, и мужчины приступили к дойке. Они подходили к каждой козе, приседали на корточки и выдаивали молоко в деревянные подойники. Все это проделывалось бесшумно, почти в полной темноте, и я не могла понять, как они в таком мраке способны опознать свою козу, да еще ту, которая не выдоена. Потом молоко взяли женщины и через воронку слили в бурдюки, где ему предстояло киснуть.
Около полуночи, когда мы давно уже лежали в постелях, начали доить верблюдов. Я наблюдала за этим из-под приподнятой стенки палатки. При свете луны к верблюдице подошли два человека, сняли с ее вымени этакий верблюжий «бюстгальтер», который надевается, чтобы на пастбище верблюжата не сосали молоко матери, и начинали одновременно доить ее с обеих сторон. Верблюдов доят в самое позднее время, чтобы взять молока как можно больше. Остаток выпивает верблюжонок. Хозяин, увидев, что я не сплю, пришел в палатку и угостил меня полной миской еще теплого молока. Оно было вкусным, сладким, очень напоминало коровье. Мавры считают его лакомством, лекарством от всех болезней, особенно от простуды и болезней легких, которым здесь подвержены многие. Это объясняется огромной разницей дневных и ночных температур. У мавров нет никакой теплой одежды: в одном и том же платье они переносят дневной зной и ледяные сахарские ночи. В некоторых палатках нет даже овчин, и люди по ночам дрожат от холода. В результате – постоянная простуда, из палаток часто слышится кашель.

Продавцы воды наполняют свои бурдюки у колодца в оазисе
День как кончается, так и начинается с доения животных, после чего пастухи уходят с ними на водопой. Колодец находился в нескольких километрах от лагеря. Мы поехали туда на машине, взяв с собой все бурдюки, какими располагала стоянка, чтобы немного помочь хозяевам и хотя бы на какое-то время обеспечить их водой. Приехали мы задолго до прихода животных. Трудно было найти место, где находился колодец. Едва различимое, небольшое колодезное отверстие прямо на уровне земли было скрыто скудными кустиками. Мавры доставали воду кожаным ведром на длинном канате; конечно, это делал харатин. Он выливал воду в жестяную лохань – свидетельство вторгающейся в пустыню цивилизации. Следует, однако, учесть, что лагерь находился недалеко от Атара, большого торгового центра, а наши хозяева были людьми богатыми, связанными семейными узами с ксаром.Верблюды, козы и ослы, которые как раз подошли, пили долго и жадно. Мы тоже наполнили все привезенные с собой бурдюки и собственные канистры. Вскоре у колодца появилось несколько «соседей» со своими животными, которые расположились по другую сторону колодца. Мы им также предложили доставить воду. Это позволило нам побывать в другом лагере, в десяти километрах от колодца.
Невдалеке от колодца, отделенная от него золотой дюной, находилась небольшая пальмовая роща. Более десятка финиковых пальм и грядка проса в их тени вырисовывались зеленым пятном на однообразном фоне пустыни. Рядом с рощей жил ее арендатор. Она принадлежала богатому жителю Атара, а здесь жила семья бедных харатинов, которые за поливку и уход за плантацией имели право на определенную часть урожая. Маленький шалаш из соломы с куполообразной крышей был их домом. Вблизи паслось небольшое стадо их коз.
День в лагере тянулся лениво. Только мужчины, ушедшие с животными в бруссу,были действительно заняты. Присмотр за животными, которые разбредаются по большой территории и легко могут потеряться пли стать жертвой прожорливых шакалов, затем водопой, пригон на ночь в лагерь, дойка – все это большое напряжение и ответственность. В это время женщины, оставшиеся в палатках, готовили будничную, скромную и однообразную еду из просяной муки и молока, делали масло, занимались самыми маленькими детьми. Иногда кто-нибудь из них что-то шил, убирал палатку. Мужчины, которые остались дома, ничего не делали. Их обычное времяпрепровождение в лагере – это разговоры, сон, прогулки в бруссе.Женщины разговаривали, разговаривали не переставая. Порой я задумывалась, откуда у них столько тем для разговоров? Почти постоянно кочуя вместе, они уже, вероятно, могли все рассказать друг другу!
Пожалуй, счастливее всего протекала жизнь детей. С утра до ночи они возились вокруг палаток, устраивали какие-то игры, «наели» верблюдов – это были остроконечные камни, действительно слегка напоминавшие одногорбых верблюдов; «стадо» располагалось у выхода из нашей палатки. Играя здесь, они постоянно держали нас в поле зрения, и ничего не упускали из того, что у нас происходило. Поездка «лендровера» за водой произвела на них большое впечатление, с этой минуты каменные верблюды были забыты, вся детвора бегала, гудя и пыхтя, что должно было изображать езду на машине.
У взрослых палатку господ от палатки прислуги отделяла определенная дистанция, но среди детей царила полная демократия, и вся компания резвилась вместе.
Здесь, в 30 километрах от Атара, жители нашего лагеря вовсе не были изолированы. Каждый день их кто-нибудь посещал. Другое дело, что гостей, возможно, привлекало наше присутствие. По странному стечению обстоятельств все они уже знали, что в лагере живут иностранцы. Однажды приехал какой-то тощий, совершенно невероятного вида мужчина, который вот уже неделю искал верблюда. Только сейчас он нашел пропажу и на обратном пути в свой лагерь заглянул сюда на минуту. На следующий день прибыли торговцы, перегонявшие стадо в сто с небольшим коз, купленных у кочевников в глубинных районах страны и предназначенных для продажи на базаре в Атаре. Оттуда уже другие торговцы должны были перегонять их в Нуадибу. Затем появился караван из десятка ослов, несших из пустыни связки травы, которую используют в ксарахдля покрытия каменных домов. И так постоянно кто-нибудь наведывался, пил чай в палатке наших хозяев и уезжал, обогащенный нашей биографией, осмотром машины и дорожного снаряжения.
Мы уезжали с сожалением. Если бы позволило время, мы охотно бы двинулись с нашими хозяевами к их следующей стоянке. Увы, нас ждала новая дорога, и не в том направлении, в котором двигались регейбат. Прощание было искренним. Муж пожимал руки мужчинам, я посетила палатку за палаткой, вручая подарки трем матерям семей. Вероятно, было бестактно, что я одинаково сердечно распрощалась с хозяевами и с прислугой, но так глубоко проникнуть в местные обычаи я не смогла. Женщины, получившие в подарок сахарные головы, пачки зеленого чая и алюминиевые кастрюли (они вызвали бурю восторга), долго еще махали на прощание концами своих черных тюрбанов.
Женщины – это особая тема разговора о мавританском обществе. О них следует сказать несколько слов.
Наш проводник Сиди Моктар, хотя и был полон сил и энергии, уже перешагнул семидесятилетие. В его бурной жизни, в течение которой он был пастухом, разбойником, членом гумашейха Атара, позднее проводником многих научных экспедиций, не было недостатка в сердечных переживаниях. Многочисленные приключения с девушками из оазисов и бруссы,больших кочевников, среди которых пронеслась его жизнь, конечно, не сделали его мораль пуританской – у него поочередно было восемь легальных жен и определенное количество детей, о судьбе которых он был не очень осведомлен. Его нынешняя, восьмая жена – Шайя Минти Бузейд – обладала всеми данными, чтобы стать последней. Уже сам возраст Сиди Моктара давал ей надежную гарантию верности, хотя при долголетии мавров всего можно ждать.
Шайя (ей было около тридцати) была красива, очень толстая, а, следовательно, все еще привлекательна, и, что самое главное, она подарила мужу детей, самому старшему из которых было тринадцать, а самому младшему – год. Все это, подкрепленное сознанием происхождения из группы, известной своей храбростью, и тем, что ее муж носил почетный титул «сиди» (что означает «господин мой», но еще не обесценено повсеместным употреблением), ставило Шайю в особое положение. Она держалась с должным достоинством.
Одной из привилегий ее общественного положения была праздность. Шайя не занималась ничем. Весь день она сидела в палатке и сплетничала с соседками из того же лагеря. На коленях у нее лежал самый младший сын, по и его она часто отдавала под присмотр маленькой служанки или старшей дочери. Животными занимались мужчины, они же доставляли поленья для костра и воду из дальнего колодца, готовили лагерь к отъезду, водили караваны. Домашним хозяйством, приготовлением пищи, уборкой палатки и прочими мелкими делами занималась «рабыня». В период сбора фиников, когда семья возвращалась в родной оазис, Шайя Минти Бузейд ткала шерстяные полосы для шалашей, но в бруссене делала и этого.
Шайя не являлась исключением. Мавританскую женщину из высших слоев общества, из группы воинов-марабутов и даже богатых семей зенага с детства готовили к тому, чтобы она была украшением палатки, предметом особой гордости семьи, а после замужества – мужа. С пяти лет девочка начинает посещать вместе с мальчиками кораническую школу, где учит молитвы, учится писать и читать, а также зубрит на память какое-то количество стихов из Корана. После нескольких лет обучения ее образование завершается, и тогда она переходит на полное попечение матери. В наиболее просвещенных семьях образование продолжается в домашнем кругу. Главным образом оно состоит в чтении священных книг. С семи лет, так же как и мальчики, девочка должна произносить молитвы пять раз в день, а девочки из благочестивых семей марабутов – громко повторять и стихи Корана. В дальних районах Сахары религиозных правил придерживаются намного слабее, а во многих родах воинов их и вовсе не соблюдают. Во время пребывания в лагере регейбат я ни разу не видела мужчин, а тем более женщин, совершающих молитвы. Считается, однако, что жены ученых марабутов должны быть примером набожности.
Девочка после окончания коранической школы приобретает различные навыки, которые будут ей необходимы в последующей жизни, когда она станет женой и «хозяйкой дома». Это – умение ткать, шить, готовить, овладение церемонией заваривания чая. Ее учат хорошим манерам, тому, как себя вести в обществе.
Девочка до двенадцати лет называется азбаи пользуется большой свободой. Она бегает по ксаруили лагерю со своими сверстницами и даже не должна покрывать голову. Но уже с десяти лет девочка начинает заботиться о своей внешности. Стремление казаться взрослой, как мы могли бы это назвать, выражается в заплетании волос в тонкие тугие косички и закреплении их надо лбом в плотные коки с вплетенными в них бусами, украшениями из кожи и ракушек каури, которые кокетливо свисают на лоб. Даже двухлетние малыши, бегающие еще голышом, носят браслеты и скромные ожерелья из цветных бус.