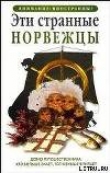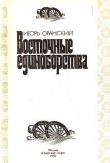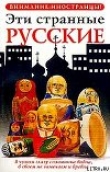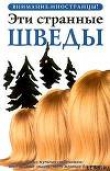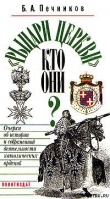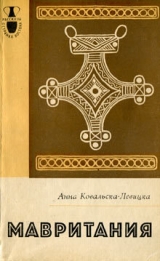
Текст книги "Мавритания"
Автор книги: Анна Ковальска-Левицка
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Дорога ведет в пустыню
Вдоль берегов реки Сенегал находится зона аллювиальных почв, увлажняемых здесь более обильными, чем где бы то ни было, осадками. Она называется Шеммама. В отдельных районах население использует воды Реки, строя примитивные оросительные каналы. На сенегальском берегу сельское хозяйство развито намного лучше, чем в Мавритании. Там можно увидеть большие площади, занятые под одну культуру, главным образом рис, с современной оросительной системой, которая находится в ведении государства. На мавританской стороне все еще тысячи мелких землевладельцев обрабатывают свои маленькие поля. И тем не менее эта в полтора десятка километров шириной зона – житница Мавритании. Достаточно сказать, что 5/ 6производимого в стране проса, которое служит основной крупяной культурой, производится в Шеммаме.
Крестьяне, живущие у Реки, – негры – ничем не отличаются от своих соплеменников на сенегальской стороне. От Сен-Луи до населенного пункта Боге страна заселена в основном волоф, дальше вверх по Реке – тукулер, от населенного пункта Каэди начинается территория сараколе, пришедших с северо-востока, из сахарского района Ход. Эти народы составляют большинство на некоторых участках долины. Однако это не означает, что население, живущее вдоль Реки, как, впрочем, на территории почти всей Западной Африки, однородно. В селениях кроме преобладающих народностей проживают также представители других негроидных групп, а также берберы, смешанные с арабами, которые занимаются здесь преимущественно торговлей, приобретают у крестьян продукты и с выгодой продают в глубинных районах страны.
Климат долины Реки тяжелый, и не потому, что слишком жаркий. Температура в общем не превышает 30 °C, однако влажность воздуха чрезвычайно высока, а душные ночи не приносят облегчения. Влажность благоприятствует буйной растительности. Здесь возделывают прежде всего просо и сорго, причем десятки их разновидностей. Просо, как я уже говорила, – это настоящее богатство долины и составляет основную статью вывоза в отдаленные районы страны. Кроме него высевается небольшое количество ячменя и пшеницы, кое-где кукурузы и даже риса. Сажают фасоль «небе», батат, дыни и арахис, из которого получают столь популярное в африканской кухне масло.
К северу от Шеммамы осадки еще сравнительно обильны, и в период дождей в низинах собирается вода. Влаги хватает на то, чтобы засеянное здесь просо выросло и созрело. Обычно эти поля небольшие, и не каждый год они получают достаточно влаги, чтобы можно было собрать урожай. В районе Лкжужта я видела пустыню, где сравнительно недавно колосились поля проса, но вот уже четыре года не было дождя, и вся растительность погибла.
Дальше на север, уже на территории самой Сахары, возделывание продовольственных культур возможно только в искусственно орошаемых оазисах. Здесь в тени финиковых пальм выращивают на грядках просо, овощи, другие культуры. Площадь таких садов измеряется даже не в арах, а в квадратных метрах.
Одним из самых страшных бедствий для крестьян в долине Реки являются птицы квеле-квеле*. Еще их называют пожирателями проса. Они похожи на наших воробьев, но крупнее. В этом районе на всех деревьях полно гнезд. Подсчитано, что в годы, когда птиц особенно много, они съедают 1/ 5урожая зерновых. Не помогают ни чучела, ни другие средства отпугивания. Квеле-квелеобрушиваются на просяные поля целыми тучами и молниеносно уничтожают созревшие метелки проса. В 1959 году Мавритания и Сенегал объединили свои усилия и с помощью армии, использовавшей огнеметы, провели кампанию против крылатого врага. Было уничтожено около 40 миллионов птиц. Эта цифра свидетельствует о масштабах бедствия, которое преследует крестьян. Нам, привыкшим к охране диких животных и птиц, такая мера может показаться жестокой, но в Мавритании человек еще не подчинил себе природу и вынужден принимать меры для самозащиты. Впрочем, квеле-квелеразмножаются так быстро, что через 10 лет они восполнили свои потери. Другая опасность для прибрежного сельского хозяйства – это саранча. Она появляется нерегулярно, но в годы, когда саранча особенно размножается, это становится еще большей угрозой урожаю, чем птицы. Не удивительно, что ⅓ бюджета, выделяемого на сельскохозяйственные мероприятия, отводится для борьбы с этими двумя действительно серьезными бедствиями.
Во время нашего путешествия, уже в самой Сахаре, как-то мы увидели приближающуюся, низко висящую над землей тучу. Характерный треск, который сопровождает ее приближение, заглушил шум мотора нашего автомобиля. Через минуту мы оказались в гуще низко летящей саранчи. Тяжелые тела больших кузнечиков разбивались о переднее стекло автомашины, другие попадали внутрь через открытые боковые стекла. Пришлось остановиться и переждать какое-то время, пока туча не пройдет. На земле осталось только небольшое число убитых и замешкавшихся насекомых, которые, видно, отстали от общей массы и теперь лениво цеплялись лапками за нашу обувь. Хотя в эту минуту они для нас не представляли опасности, трудно было освободиться от чувства какого-то первобытного страха перед этой массой. Непрекращающееся движение насекомых, сухое шуршание крыльев походили на какой-то дурной и навязчивый сон. Представляю, какое впечатление должна производить саранча там, где ее появление вызывает экономическую катастрофу и голод.
Уезжаем из Росо. С чувством облегчения мы покидаем тропическую долину Реки. Солнце только-только поднимается, но влажная жара уже висит над буйными зарослями. Воздух кажется липким, дышать трудно. Буквально через несколько минут езды природа совершенно меняется. Травы выше роста человека, колючие кусты, образовавшие заросли, сквозь которые до сих пор пробиралась наша машина, сменяются низкой высохшей травой и кое-где разбросанными кустами «баобаба шакала» с крупными бесформенными стволами и ветками, покрытыми неожиданными на этом фоне красивыми розовыми цветами. Это единственное цветовое пятно в окружающем нас однообразии.
Мы пересекаем море холмов с невысокими склонами. Эти песчаные дюны уже давно сформировались, они поросли травой и кое-где лесами акации. Между скупой растительностью проглядывает песок. Его естественный золотистый цвет «испорчен» примесью перегноя. Такое впечатление, что все вокруг покрыто пылью. Серо-зеленые редкие листочки акации, серожелтая высохшая трава, серо-золотистый песок. Только месяц назад кончился период дождей, а зелень уже утратила свою свежесть. Еще немного, и исчезнут последние ее следы.
До чего же относительны впечатления, которые производит на нас окружающая действительность. Те же самые места, когда мы проезжали их на обратном пути из Сахары, предстали перед нами в радостной зелени, многолюдными, полными жизни. Так воспринимают мавры окружающий их пейзаж. Им неизвестна сочная зелень умеренной полосы, поскольку большую часть жизни они проводят в пустыне. Для них территория Сахеля, пролегающая от границ Шеммамы, приблизительно от Нуакшота до Немы, – это край зеленых почти в течение полугода пастбищ, где можно увидеть редкие кусты и одиноко стоящие деревья. Кое-где растут леса. Они довольно далеки от того понятия, с которым связано наше представление о лесе. Большие массивы низкорослых акаций с невероятным количеством колючек (у отдельных разновидностей колючки достигают 12 сантиметров), спутанные с таким же колючим кустарником подлеска, образуют заросли, через которые не пробраться. Здесь гнездятся многочисленные птицы, среди них – известные нам цесарки. Благодаря серому оперению они почти незаметны на фоне такой же серой почвы. Время от времени стайки этих пятнистых подвижных шариков перебегают нам дорогу и исчезают в зарослях. Случается, что «лес» напоминает саванну, деревья стоят редко и между ними можно передвигаться… Здесь пасутся стада коров, овец и коз, которые ощипывают и без того чахлые веточки деревьев. В районах, близких к Реке, деревья выше, и на концах толстых веток качаются шарообразные птичьи гнезда, напоминающие большие темные капли. Самое зеленое пятно пейзажа – это кусты, выше человеческого роста. Они похожи на наш можжевельник, с маленькими, едва заметными зеленоватыми цветами и с запахом жасмина. Всюду, куда бы ни ступил человек, его подстерегает неприятность похуже, чем змеи и скорпионы. Это – крам-крам*, невзрачная на вид трава. Семена ее с острыми крючками цепляются ко всему, даже к сандалиям, не говоря уже об одежде и коже. Именно в это время семена дозревают и особенно агрессивны. Крам-крамвсюду: в машине, в пище, они впились в наши одеяла. Мы с ног до головы ими облеплены. По меньшей мере еще месяц после возвращения в Дакар я вытаскивала их из нашего экспедиционного снаряжения и одежды. И все же некоторые из них добрались с нами даже до Польши, вызывая уже не раздражение, а самые приятные воспоминания. По мнению мавританцев, крам-крамопределяет границу пустыни. Там, где кончается эта трава, начинается настоящая Сахара.
Предсахарская зона Мавритании когда-то изобиловала дикими животными, по сейчас она довольно густо заселена. Большие стада скота и охота (она приняла особенно широкие масштабы в годы последней войны, когда в стране временно находились сенегальские войска, которые использовались на строительстве дорог) послужили причиной уменьшения числа диких животных. Здесь еще живут, хотя и в небольшом количестве, львы, пантеры, гепарды и леопарды, гиены, шакалы, различные виды антилоп и даже стадо слонов, которое охраняется. Много также мелких животных, птиц и различных видов пресмыкающихся. Около Нуакшота встречаются кабаны, на которых с удовольствием охотятся европейцы, мавританцы же никогда не едят их мяса. По законам Корана кабан считается грязным животным.
Дорога из Росо в Бутилимит, а затем из Бутилимита в Нуакшот дает полное представление о Южной Мавритании. Мы проезжаем леса акаций, степь, превращенную в парк, дюны с редкой растительностью; их крутые склоны нависли над топкими озерами, которые сейчас покрыты коркой засохшей грязи. Минуем высохшие поля проса, колодцы и еще не высохшие естественные водопои – небольшие озера. Едем мимо ленивых коров-зебу, овец и коз, вдоль стоянок и временных селений. За стадами скота присматривают пастухи, чаще всего негры-вольноотпущенники.
Дорога, которую мы выбрали, отмечена на карте как «местная, без дорожных знаков». Сопоставление такого определения с действительностью позволяет задуматься и над другими данными, касающимися средств сообщения, которые содержатся в справочниках о Мавритании и в официальных отчетах.
Например, нас заверили, что в Шингетти имеется аэродром. При ближайшем знакомстве это оказался участок плоской графито-черной пустыни с «флюгером», показывающим направление ветра. Он грустно свисал с какого-то уродливого одинокого деревца. Вдобавок аэродром находился примерно в 40 километрах от селения, куда после посадки нам следовало доехать на верблюде или добраться пешком, поскольку никакого иного сообщения не было.
Возвращаясь к дороге Росо – Бутилимит, можно сказать, что легенда на карте была правдива лишь в отношении дорожных знаков, которых действительно не существовало. Но, как оказалось, не было и самой дороги. По широкому пространству дюн, степей и редких лесов расходились следы колес грузовиков, которые проехали здесь со времени последнего периода дождей. Расстояние между колеями порой достигало нескольких километров. Каждый искал более удобную дорогу, выбирал только одному ему известный кратчайший путь или сворачивал к знакомым стоянкам. Выбор правильной дороги в такой неразберихе был делом отнюдь не легким. Временами колеса «лендровера» то увязали в песке и машина с огромными усилиями проходила пять километров в час, то вновь оказывались на утрамбованном степном грунте и тогда можно было ехать со скоростью шестьдесят километров. В первом случае нам угрожало свариться внутри металлического кузова, нагретого не только солнцем, но и тяжело работавшим мотором, во втором – и машина и мы бывали исхлестаны колючими ветками деревьев и кустов, между которыми Бальде демонстрировал безумный слалом.
К счастью, этот район страны густо заселен, и через каждые полтора десятка километров мы встречали селение, колодец или пастухов. Здесь можно было расспросить жителей и проверить правильность выбранной нами дороги. Среди людей чувствуешь себя более уверенно. Рядом с палатками, боковые стены которых часто сделаны из циновок, нередко встречаются куполообразные опрятные шалаши. Их крышу венчает торчащий в небо пучок соломы. Во время обработки участков проса и в период засухи, когда стада отводят на юг, в шалашах живут, а в период дождей люди и животные отправляются в дальний путь на север, и шалаши пустуют до их возвращения. Нам встретилось селение, в центре которого стояли дома, покрытые гофрированной жестью и побеленные известью. Это была зоотехническая станция, одна из тех, которые молодое государство начинает строить в районах интенсивного животноводства. Ею руководит зоотехник, он помогает скотоводам и делает животным прививки. Здесь держат племенных быков и баранов для улучшения породы скота. Таких центров еще мало, капля в море, учитывая потребности развивающейся страны. По они свидетельствуют о происходящих изменениях.
Обычно селения группируются вблизи больших, сейчас высохших озер. Крутые склоны окружающих их дюн и сами озера, топкие в период засухи и полные воды в период дождей, представляют одно из самых серьезных препятствий для сухопутного сообщения. Как только вода спадает, жители засевают просом дно озера и уходят в глубь страны. Возвращаются они только ко времени сбора урожая. У одного из таких высохших озер мы увидели колодец, построенный еще французскими колониальными властями. Насосы уже давно не действуют, но колодцем продолжают пользоваться традиционным способом. Воду достают с помощью ведра, сшитого из кожи, и привязанного к нему длинного каната, тоже кожаного. Ведро опускают в колодец до погружения, а затем один из пастухов привязывает канат к рогам быка и, стегая животное кнутом, отгоняет его от колодца. Канат, протянутый через блок, расположенный над колодцем, вытягивает ведро. Воду выливают в корыто, которое служит поилкой для скота. Бык возвращается к колодцу. По мере его приближения ведро снова опускается. Стадо в несколько сот коров терпеливо ожидает водопоя, а пастухи пригоняли все новых животных. В таких условиях эта процедура занимает у пастухов ежедневно несколько часов. Но из большинства колодцев воду достают без всяких приспособлений. Иногда над колодцами сооружают примитивный деревянный помост с блоком, который облегчает подъем ведра с водой. Однако колодцы, особенно в самой Сахаре, ничем не выделяются на фоне пейзажа. Это просто глубокая скважина, достигающая подземного водного горизонта, неогражденная и никак не обозначенная. Можно пройти в нескольких метрах, даже не заметив ее. Кочевникам Сахары очень важно знать расположение колодцев на территории многих сотен квадратных километров, а также признаки, по которым их можно найти. На каждой стоянке у любого пастуха, перегоняющего стадо, в караване и у одинокого путника должны быть при себе кожаное ведро и соответствующей длины канат. В противном случае они рискуют умереть от жажды, даже находясь у самого колодца.
Поскольку мы уже уделили внимание колодцам, остановимся ненадолго на самой проблеме воды в Мавритании. Проблема эта, пожалуй, самая важная, с ней связана жизнь человека и всего государства. От воды зависит благосостояние и даже существование людей и животных. Без пресной воды невозможно строительство городов, развитие горнодобывающей промышленности и промышленности в целом, не говоря уже о сельском хозяйстве.
Мы знаем, что в Мавритании есть только одна невысыхающая река, по которой проходит южная граница страны. Вся же остальная огромная территория государства воды лишена. На юге, в субсахарской зоне, правда, есть озера и болота, по почти все они высыхают в период засухи, и проблема воды разрешается только на несколько месяцев в году. В самой Сахаре остались русла рек, которые текли во времена, когда климат здесь был влажным. Они называются у эды*,в Мавритании такая высохшая река называется батха*.В период дождей они наполняются водой, но уже через несколько часов, самое большее несколько дней, дно батхивысыхает; в течение всего года там не набирается и капли воды.
Несчастье Мавритании не только в скудности осадков, но и в их распределении во времени. На юге страны, где осадков больше, в период дождей начинается внезапный торнадо*. Чаще всего ото происходит во второй половине дня, иногда случается и утром. Небо внезапно затягивают темные тучи, поднимается сильный ветер, и обрушивается ливень. В считанные минуты вода затопляет улицы ксаров. Батхипревращаются в стремительные потоки, а любые впадины – в озера. Буря длится 15–30 минут, после чего так же быстро появляется солнце. Дождь закончился, все плавает в воде, но вскоре она впитывается в почву, а остатки влаги испаряются в лучах жаркого солнца. Если взять минимальное среднегодовое количество осадков, то только в Шеммаме их выпадает 300–400 миллиметров, в Алеге, на юге страны, – еще 270 миллиметров, но уже в Бутилимите – 189, в Нуакшоте – 162, в Атаре – 81, в Шингетти – 52, на побережье в Нуадибу – 32 миллиметра. Эти скромные запасы воды низвергаются на землю в виде одного или нескольких ливней в год, что еще больше ухудшает положение. Основная масса воды впитывается в песок без какой бы то ни было пользы для человека. Положение осложняют регулярно повторяющиеся засухи, когда в течение года, двух лет и более в определенных районах, а иногда и на территории всей страны дождей не бывает совсем. Растительность, даже та, которая приспособлена к пустыне, исчезает. После длительного периода засухи понижается уровень грунтовых вод, много колодцев высыхает, в других воды не хватает, чтобы оросить сады или напоить большие стада скота. В это время сокращается площадь обрабатываемой земли, исхудавший и измученный скот гибнет от голода и жажды.
Когда в стране в период полного расцвета рабства было еще достаточно рабочих рук, в батхахпытались строить дамбы, которые задерживали бы дождевую воду. Ее удавалось задержать до 20 дней, это зависело от почвы. Легко впитывающаяся вода настолько увлажняла почву, что ее хватало на весь вегетационный период возделываемых культур. В настоящее время государство проектирует и финансирует строительство именно таких дамб. Это – полумера, по благодаря подобным дамбам уже сейчас на юге удалось увеличить площадь обрабатываемых земель.
Все, о чем мы говорили, относится главным образом к южным границам субсахарского района. В Сахаре все живое существует исключительно благодаря колодцам: они – единственные источники пресной воды.
Если говорить о грунтовых водах, то здесь дела обстоят не так уж плохо. На самом юге страны бурение показало, что вода находится примерно на тридцатиметровой глубине. В треугольнике городов Алег, Подор и Каэди вода в избытке на глубине 40–60 метров. На самом севере ее иногда приходится доставать с глубины и 100 метров. В округе Трарза грунтовые воды в общем располагаются неглубоко, но это небольшие водяные «карманы», слишком маленькие, чтобы их можно было использовать для строительства водопровода или обеспечения водой крупного поселка.
Таким образом, строительство колодцев стало необходимостью. Мавры достигли большого искусства в этом деле. По характеру растительности они научились отыскивать места, где вода находится относительно неглубоко. Мавры умеют и строить колодцы. Их края они выкладывают камнем или обмазывают специальной глиной, которая через определенное время становится твердой, как цемент, и предохраняет шахту от обвалов. Существуют колодцы извечные, никто уже не помнит, когда и кем они были построены. Это колодцы для всех, и никто не может присвоить право на них. Есть колодцы, о которых традиция гласит, что их построил предок такой-то группы или племени, благодаря чему они являются исключительно их собственностью. Существуют частные колодцы отдельных родов и, наконец, колодцы – религиозные пожертвования. В Мавритании принято, чтобы набожный мусульманин для вящей славы Аллаха выкопал колодец. Это делает ему и его роду честь и приносит пользу всем, кто сюда приходит. Бедняки не в состоянии строить колодцы, по перед своим домом в ксареони выставляют для томимых жаждой прохожих горшок, деревянную миску – любую посуду с водой. Я видела такую посуду в местах, куда прибывают паломники, вблизи известных мечетей и гробниц марабутов-чудотворцев. Каждый может здесь утолить жажду. Теоретически. На самом же деле ни в одном из таких сосудов мы не видели воды. Возможно, их наполняют только во время праздников и гетны*, когда приходят люди из дальних районов.
Несмотря на то что некоторые колодцы частные, пользоваться ими могут все, и это не вызывает возражения владельцев. До споров, даже драк за колодцы дело доходит только в годы катастрофической засухи, когда нигде нет воды или ее слишком мало. Тогда племена покидают свою традиционную территорию отгонных перекочевок и отправляются в пустыню на поиски водопоя и корма для животных. Появление у полувысохшего колодца чужого стада может лишить воды его законных владельцев. Вот тут и начинается борьба за источники воды.
Все эти колодцы, о которых я рассказала, находятся в саванне или пустыне, и служат они прежде всего для того, чтобы поить проходящие мимо караваны и стада животных. Совсем другое дело – колодцы в оазисах.
Классический край оазисов в Мавритании – это горы и возвышенности Адрара и Таганта. В сплошной пустыне при минимальных осадках встречаются районы, где испокон веков зеленеют пышные плантации финиковых пальм, а в тени их растут зерновые и овощи. Пальмовые рощи обычно вырастают на берегах высохших русел рек, во впадинах, у подножия гор или дюн. Здесь нигде пет воды, выходящей на поверхность земли в виде источника или небольшого озера, и тем пе менее растительность буйная и свежая. Это возможно только благодаря глубоким колодцам и постоянному орошению садов. Каждый сад, состоящий из полутора десятков или двадцати пальм и маленького участка обрабатываемой земли у их основания, поливается утром и вечером водой из собственного колодца. Эту работу выполняют черные слуги. Ежедневно утром и вечером в оазисе слышится скрип огромных журавлей из пальмовых стволов, которые размеренно наклоняются к колодцу и поднимают тяжелое ведро с водой. Мужчина или женщина, работающие в саду, берут его и выливают воду в бак, находящийся внизу. Отсюда по целой системе канав, поочередно закрываемых и открываемых, вода течет на грядки и в канавки, обрамляющие каждую пальму. Эта работа требует нечеловеческих усилий, ведь плечо журавля утяжелено камнями, а кожаные ведра совсем не просто приподнять не расплескав воды. Такое ведро – это большой кусок коровьей или верблюжьей кожи с отверстиями по краям, к которым привязываются кожаные канаты, соединяющиеся затем в один. Все это, пока такое ведро не наполнено водой, напоминает нечто вроде опрокинутого парашюта.

Шалаши прислуги, работающей в рощах, стоят вдали от ксара
Колодезной водой можно напоить стадо, но корма она не заменит. В периоды катастрофической засухи не только высыхают мелкие колодцы, но и погибает растительность. Изможденные животные падают от жажды и голода, людям и их стадам грозит гибель. Стоянки приходится переносить далеко на север, на возвышенности Адрара, где на большой высоте благодаря очень холодным ночам образуется обильная роса. Для диких животных, которые живут там, роса – единственное питье, вполне достаточное для поддержания жизни. Росой спасаются и верблюды. Ночью они слизывают ее капли, осевшие на камнях и утрамбованной земле. Роса в этой сухой зоне, проникая в почву, не дает погибнуть всей растительности. Хотя опа и очень скудная, но зато не зависит от осадков. Даже в самые засушливые годы можно рассчитывать на росу.
Таким образом, наряду с Рекой, болотами, временными озерами и колодцами ночная роса – также источник влаги. Это красноречивое свидетельство того, какую ценность для Мавритании представляет вода.
По понятиям кочевников, использовать воду для мытья – непростительное расточительство, и даже омовение, предписанное религией, производится несколькими каплями, а чаще всего – просто песком или глиной. Жестокая засуха, постоянно дующий в бруссеветерок совершенно высушивают и проветривают тело, одежду, снаряжение, палатку с ее содержимым, а выброшенные за пределы лагеря нечистоты быстро превращаются в пыль. Даже погибшие животные в этой зоне не успевают разлагаться. Стоянки простерилизованы солнцем и ветром.
В пустыне самым большим достоинством, которому учат с детства, является умеренность и умение обходиться без воды. Мальчики чуть старше десяти лет, выпив мисочку молока, отправляются ранним утром со стадом коз пли группкой верблюдов и весь день странствуют с ними по испепеляющей жаре. Они не берут с собой ни еды, ни питья и только после заката солнца, преодолев порой многие километры, возвращаются в лагерь, где их ждет такая же миска молока или зрика.Жаловаться на жажду здесь не принято. Каждый, наоборот, стремится проявить стойкость и умение обходиться минимальным количеством жидкости. Женщины, оставшиеся в лагере, также не злоупотребляют питьем, поскольку нередко воду приходится привозить издалека. Однажды во время нашего путешествия мы видели женщину с двумя осликами, навьюченными бурдюками. Она сказала нам, что раз в неделю проделывает этот путь из лагеря к колодцу, который находится на расстоянии около 20 километров.
Встречавшиеся но дороге пастухи всегда просили воды. Иногда из палаток выбегали женщины с маленькими чайниками (они есть в любой мусульманской семье и служат в основном для омовения и приготовления чая) и тоже просили у нас немного воды. Как-то я сняла крышку с такого чайника, чтобы налить в него воды из канистры, и увидела на дне остатки грязной жидкости. Я хотела ее вылить, прежде чем наполнить чайник чистой водой, но бедуинка подскочила ко мне и схватила за руку. Она не могла допустить такого расточительства. Ничего не оставалось как налить чистую, свежую воду в грязный чайник.
Ночью, когда мы находились в районе Шингетти, сильный порыв ветра зашелестел брезентом «лендровера», а на нас, спавших под открытом небом, посыпался песок. Ветер налетел и ушел, но нас не покидало чувство неясной тревоги. Мы так до утра и не сомкнули глаз. Звезды погасли, воздух стал тяжелым и душным, а на такой высоте, да еще ночью, чувствуешь себя как-то непривычно. Утром мы увидели, что небо на востоке обложили тучи. Наших проводников и жителей ближайшей палатки охватило волнение. Они все время посматривали на тучи и говорили только о дожде. Наш товарищ но путешествию и проводник Сиди Моктар из племени регейбат сказал нам, что юго-восточный ветер называют «ветром негра». Когда-то очень давно была страшная засуха. Вождь одного лагеря, в котором не хватало воды, приказал своему черному рабу взять бурдюк и отправиться на поиски. Через два часа раб вернулся, правда, с пустой гырбой,но с известием, что подул ветер, который обязательно нагонит тучи и принесет дождь, поэтому не нужно искать воды. Действительно, в тот же день после полудня пошел проливной дождь, с тех пор ветер с юго-востока и получил свое название. Он обязательно приносит дождь.
Этот день поистине был необычным. И хотя у нас с собой был запас в несколько десятков литров воды, мы поддались общему настроению радостного ожидания. Увы, на этот раз «ветер негра» обманул надежды. До вечера ничего не произошло, и утро следующего дня снова приветствовало нас голубым небом и зноем. Но это маленькое происшествие открыло мне глаза на то, что для этих людей значит дождь, как горячо они его желают, как бесконечно ждут, какое ощущение вызывает ожидание дождя.
Все, что мы до сих пор говорили о воде, относилось к традиционным способам ее добычи. Хотя созданный в Мавритании департамент вод и лесов начал строительство глубоких колодцев и систем каналов, распределяющих воды Сенегала, в целях увеличения общего количества воды в стране и площадей обрабатываемой земли, эти меры проблему воды не решили. К деятельности правительства относится также и создание в пустыне так называемых водопоев. Согласно распоряжению департамента животноводства через определенные промежутки времени в места, известные кочевникам, развозят железные бочки с водой.
Однако по-настоящему проблема воды встала перед Мавританией, только когда она вступила на путь строительства нового государства. Возведение современных городов и промышленных предприятий, а в связи с этим и большая концентрация населения требовали уже иных, более эффективных методов добычи воды. Кроме того, так сложилось, что крупные городские и промышленные центры были сосредоточены в самых безводных районах. Именно на таких территориях находятся три крупнейших на сегодняшний день и продолжающих динамично развиваться административно-промышленных центра. Первый – столица Нуакшот, второй Порт-Этьени, который в настоящее время носит мавританское название Нуадибу. Это важный перевалочный пункт железной руды, здесь же успешно развивается рыбная промышленность. Третий центр, населенный пункт Зуэрат, построенный при вновь созданном открытом карьере железной руды около Фдерика, рассчитан на пять тысяч человек. Здесь не хватало ни колодцев, ни даже живительной росы. В современных городах должны быть водопроводы, снабжающие водой промышленные предприятия и жилые дома. Вода необходима уже в самом начале строительства поселков, хотя бы для производства бетона. В удаленных районах страны, в частности в Зуэрате, воду добывают из глубоких колодцев. На побережье бурение не дало никаких результатов. Наибольшие трудностп возникли в Нуадибу во время строительства порта, города, многочисленных холодильников и рыбозаводов. Поставка воды судами-цистернами с Канарских островов не в состоянии была решить проблему. Помочь могло лишь строительство промышленных предприятий по опреснению морской воды. Но для работы таких предприятий требовалось большое количество электроэнергии. Надо было строить электростанции, которые работали бы на топливе, привозимом из Европы и с других континентов. Конечно, все это непомерно повысило стоимость электроэнергии, а тем самым и пресной воды. Но в силу огромного торгового значения этого порта расходы полностью окупаются.