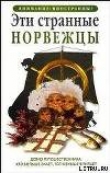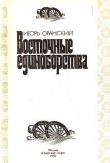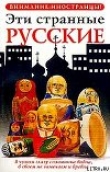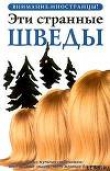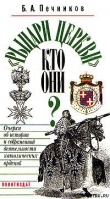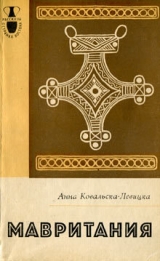
Текст книги "Мавритания"
Автор книги: Анна Ковальска-Левицка
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Среди населения самыми многочисленными являются лахма, иначе зенага, или знага, те, кто платит дань. Они принадлежат к «белой» части мавританского общества, поскольку состоят из берберских племен зенага, которые еще до господства хасанов составляли группу лахма, плативших закати позднее перешедших под власть новых хозяев. Помимо древних лахма сюда входят также прежние свободные племена берберских воинов, которые были побеждены хасанами и низведены до их вассалов, утративших даже память о былом общественном положении. Тот, кто остается под властью племени марабутов, или «под книгой», называется тала-жид(от слова «тельмиди» – ученик). Большинство подчиняется хасанам, которые называют их или зенага, или старым названием – лахма, означающим «мясо». Уже сам факт использования слов «ученик» и «мясо» отчетливо свидетельствует о том, насколько различно отношение марабутов и хасанов к своим «клиентам».
Жизнь этой группы общества внешне не отличается от жизни их господ. Большинство объединены в племена и группы (однако, представляясь, прежде всего называют племя своих господ, а затем собственное имя) и живут отдельно, в собственных стоянках, порой удаленных от стоянок хозяев. Они имеют право на собственность, палатки и животных, но не могут быть владельцами земли, пастбищ и обрабатываемых полей. Платящий подати, или по-нашему арендатор, большей частью вместе со стадами хозяина пасет и свой собственный скот. Выпас производится, как правило, на пастбищах, принадлежащих хозяину. В южной части страны поля обрабатывают ленники. Здесь ими бывают и покоренные маврами негры. Некоторые из них занимаются караванной торговлей. Они совершают дальние переходы, производя крупные финансовые сделки от имени своего хозяина, а иногда и под свою ответственность. Они богатеют, но продолжают оставаться зависимыми. Арендаторы порой в течение всего года живут вне контроля хозяина. В первую очередь они стараются выполнить свои обязанности, а в остальное время могут заниматься всем, чем пожелают.
В значительно худшем положении находятся те «клиенты», которые прислуживают семье хозяина. Они кочуют с ней и являются по первому зову. Они ничего не могут предпринять без разрешения хозяина.
Совершенно особая проблема – зависимость черных народностей долины Сенегала, испокон веков живущих на собственных племенных территориях. Хасаны считали, что вся завоеванная земля – их собственность. Они взимали с черных огромную дань, тормозя тем самым развитие сельского хозяйства. Кроме обычных податей время от времени они совершали набеги, забирали все, что производил крестьянин, не говоря уже о тех разрушениях, которые производили подобные нашествия. При таких условиях не могло быть и речи о повышении уровня земледелия, поскольку, если крестьянин получал большой урожай, это увеличивало и аппетиты хасанов. Только французские власти положили этому конец, выкупив у эмиров Трарзы и Бракны «право» на эксплуатацию крестьян-негров в долине реки Сенегал. С этого времени они стали действительно свободными и независимыми, а хасаны потеряли источник постоянного дохода.
На общественной лестнице все арендаторы стоят намного ниже, чем хасаны и марабуты, но они, как и их хозяева, помнят, что когда-то были свободными людьми, и это создает им определенное положение. Кроме того, они разбогатели, занимаясь скотоводством и торговлей, а в таком строго разделенном на классы обществе богатство имеет большое значение. Случается, что разбогатевший «клиент» женится на дочери марабута, даже хасана. В соответствии со старой берберской традицией дети наследуют общественный класс матери, то есть в следующем поколении семья становится совершенно независимой. Новая конституция содействует эмансипации «клиентов», хотя на практике еще далеко до полного ее осуществления.
Мы отмечали, что арендаторы пасут стада своих хозяев. Зависимость между обоими контрагентами определена древней традицией и представляет собой один из основных неписаных законов Мавритании. Необходимо вкратце познакомиться с ним. Для примера возьмем пастуха верблюдов. Хозяин кочует вместе с пастухом, и контроль за его работой не представляет труда, да и ответственность меньше: сам хозяин помогает пасти животных. Следует помнить, что пастбищ, как правило, мало. Они представляют собой территорию с редким кустарником и отдельными деревцами. Для того чтобы стаду верблюдов насытиться, ему приходится рассредоточиваться на большом пространстве, поэтому животные часто пропадают или гибнут. За водопоем в основном следит хозяин, но если его нет, воду из колодца достают пастухи. Кроме того, они стригут верблюдов дважды в год, наблюдают за молодыми верблюдицами, которые кормят новорожденных, когда же верблюжата подрастают, пастухи не дают им выпивать все молоко у матери: часть его предназначается для людей. Пастух ставит на верблюдах клеймо, указывающее на их принадлежность определенному племени и семье, объезжает животных, наконец, лечит их. Верблюдицу доит сам хозяин, по ему помогает пастух, поскольку в этой процедуре участвуют два человека. Жена хозяина, а чаще ее служанка, занимается закваской молока, а если имеется молоко коров, коз или овец – сбивает масло. Из верблюжьего молока масло не делают. Когда стадо находится только под присмотром пастуха, то все перечисленные виды работ выполняет его жена. За это пастух получает каждые полгода пару сандалий и одно бубу,а также молоко в течение первого месяца после выжеребки каждой верблюдицы. Но не следует забывать, что большую часть этого молока выпивают маленькие верблюжата. Пастух получает треть состриженной шерсти, одного верблюда для верховой езды, чтобы следить за стадом, и одного верблюда для передвижения своей семьи. Эти животные не его собственность, а даются ему только во временное пользование. Если в стаде, за которым следит пастух, более тридцати голов, он получает в качестве годового вознаграждения молодое животное, которым имеет право распоряжаться по своему усмотрению. Для пастуха и его семьи выделяется одна молочная верблюдица. Конечно, когда хозяин живет в ксареи пастух ведет хозяйство самостоятельно, то хозяину только время от времени (по договоренности) доставляют бурдюки с кислым молоком. Когда вместе с верблюдами в стаде содержатся и козы, из молока которых делается масло, то пастух получает более высокую плату и больше еды.
В настоящее время на юге страны отношения изменились. Натуральная повинность переходит в денежную. Все труднее найти пастуха, так как арендаторы откупаются и уходят на более прибыльную работу в строящихся городах. Один из моих знакомых, который постоянно жил в Нуакшоте, а в бруссеимел стадо верблюдов из двадцати голов, вынужден был платить пастуху три тысячи африканских франков в месяц, давать ему еду, чай, сахар и каждые полгода бубуи сандалии. Отношения в данном случае были особыми, потому что пастух – свободный человек, кочевал с собственным стадом, и верблюдов моего знакомого взял по его просьбе, а не в силу обязанностей арендатора. Взамен он отдавал владельцу всю шерсть, только что родившихся верблюжат и, теоретически, все молоко, хотя практически, если он уходил со стадом далеко от города, это было невозможно.

Так сбивают масло – в бурдюке, висящем на женском седле для езды на верблюде
Может быть, это и нетипичный случай, но он дает представление об обязанностях арендаторов перед хозяином и о традиционном неписаном законе, который до мельчайших деталей нормирует жизнь в Мавритании.
Четвертый, и последний общественный класс – «рабы» и вольноотпущенники. Данная проблема весьма тонкая, потому что уже французские колониальные власти теоретически отменили рабство, а в законе молодой Мавритании от 20 мая 1961 года недвусмысленно сказано, что «все мавританцы равны перед законом». В зависимости от того, с кем обсуждаешь проблему «рабства»: с государственным чиновником в цивилизованной, южной части страны, с обычным торговцем какого-нибудь отдаленного ксараили с кем-нибудь из глубинных районов Сахары, слышишь различные высказывания. Чиновник одного из министерств сказал нам: «Рабство? Это история! Действительно, оно имело место в этой части Африки, но, во-первых, это были не настоящие рабы, а лишь военнопленные, во-вторых, они уже свободны, и такой проблемы не существует. Другое дело, что их связывают определенные узы и симпатии с хозяином, поэтому иногда они помогают ему. За это они получают щедрое вознаграждение, часто превышающее действительную цепу оказанных ими услуг».
Несмотря на такое объяснение, проблема «рабства» не давала мне покоя. В одном из удаленных от столицы селений мы спросили торговца, в чьем доме оказались, не дочерьми ли приходятся ему девушки, готовившие еду. Он рассердился. Его дочери никогда этим не занимаются. Неужели я не поняла, что это прислуга?
«Пленные-рабы или освобожденные?» – спросила я с наивным выражением лица. «Старшая – дочь вольноотпущенника нашей семьи, младшая – дочь рабыни».
Младшую наш хозяин предполагал отдать своей дочери в приданое – в то время как раз шли приготовления к свадьбе. Тут началось сетование на девушек, что они ленивы, непослушны и постоянно требуют новую одежду и даже чай и сахар.
В 600 километрах севернее, уже в центре Сахары, я в третий раз задала тот же вопрос. И только здесь получила исчерпывающие сведения, переданные отнюдь не в прошедшем времени. Наблюдения полностью совпали с тем, что нам было сказано. Расскажу, как вопрос «рабства» и вольноотпущенников решался в центре страны, в таких оазисах, как Шингетти и Бадане, во время нашего пребывания в Мавритании в 1968 году.
У мавров есть две категории «прислуги». Первая из них – это «рабы», вторая – вольноотпущенники. Между обеими группами существует принципиальная правовая разница.
«Рабы», так называемые абид*, потомки древних негритянских племен, живших на территории Мавритании еще до прибытия берберов, были завоеваны последними и попали в плен. Часть из них была взята в плен во время войн Альморавидов с черными соседями юга и с тех пор является собственностью отдельных семей марабутов или хасанов. Больше всего их в долине Сенегала. В самой пустыне только немногочисленные семьи «рабов» живут в качестве так называемой палаточной и кочевой прислуги со своим хозяином. Есть племена марабутов и хасанов, у которых очень много «рабов». Число «рабов» зависит от боевой активности племени в прошлом и от того, действовало оно на юге страны, довольно заселенном негритянскими племенами, или на севере, где их было мало (взятые в плен белые, берберы или арабы не могли стать рабами). «Рабы»-кочевники или живущие в ксарахсо своими хозяевами имеют собственную палатку в стоянке или собственный шалаш в ксаре.Они ведут хозяйство отдельно, но обязаны всегда прислуживать хозяину, когда тот прикажет. Они занимаются возделыванием садов в оазисах и полей на юге страны, пасут скот. Их жены, которым положено заниматься домашним хозяйством, выполняют за свою госпожу всю эту работу.
В южной части страны, в субсахарском районе вблизи Реки, нередко встретишь собственные стоянки «рабов» г. бруссеили «деревни» на окраинах селения хозяев. Это в равной степени относится как к «рабам», так и к вольноотпущенникам. Общим для этих обеих групп является то, что племена как одних, так и других не имеют своих названий. О них говорят, как о «рабах» или вольноотпущенниках такого-то или такого-то племени. Например, харатин тендгха означает вольноотпущенник-харатин племени тендгха. Они живут отдельно, но днем идут работать к своему хозяину.
Как правило, «рабы» веками живут в одной и той же семье. Племена марабутов неохотно расстаются со своими «рабами», понимая, что они – самое большое богатство семьи. Другое дело, когда их делят между детьми, которые отделяются от семьи. С точки зрения мусульманского закона нет никаких препятствий тому, чтобы продать «раба», даже если разбивается его семья. Можно по-отдельности продать детей «рабыни», саму «рабыню» и ее мужа. Чаще всего продажа или пожертвование «рабов» детям хозяина происходит на территории того же самого селения. Проданный «раб» будет продолжать жить со своей семьей и только днем уходить на работу к другому хозяину.
«Раб» женится на «рабыне» и, создавая свой семейный очаг, строит для себя отдельный шалаш. Брак между «рабами» двух разных хозяев разрешен, ибо он ничем не нарушает законов собственности. «Раб» идет к своему хозяину и просит разрешения вступить в брак. Хозяин, если одобряет этот союз, отправляется к хозяину девушки и от имени своего слуги просит ее руки. Когда согласие получено, жених вручает девушке обычный подарок: повое бубу,нитку бус, браслет, а иногда только немного чая и сахара – насколько позволяют его возможности. Как правило, хозяин помогает жениху приобрести подарок. С этой минуты брак заключен, и молодые переселяются в собственный шалаш. Теперь каждое утро они отправляются каждый к своему хозяину и работают целый день. Дети такого союза становятся собственностью хозяина «рабыни» («потому что женщина вынашивает ребенка, рожает его и кормит»), и он обязан одевать их и кормить. Вообще «рабынь» одевают хозяева.
Положение «раба» очень индивидуально и в равной степени зависит от нужд хозяина (должен ли у него быть слуга иод рукой или нет), и от доверия к нему. Итак, существует палаточная прислуга, или домашняя, а также живущая отдельно, которая выполняет только предписанные хозяином обязанности. Например, в Вадане сам ксаротносительно небольшой, зато пальмовые рощи тянутся более чем на 20 километров вдоль батхи.Каждую грядку необходимо поливать два раза в день. Носить воду из колодца в отдаленные сады – дело трудоемкое, требующее времени. Эту проблему решили, дав полную свободу «рабам» и поселив их на самых удаленных плантациях. Строгий контроль в данном случае невозможен, и возникло своего рода взимание оброка с «раба». Его обязанность – возделывать плантации, поливать их, строить и восстанавливать системы оросительных каналов и колодцев, собирать урожай и хранить его. При этом владелец и «раб» покупают или выделяют из своих запасов равное количество семян проса, ячменя и овощей. «Раб» их высевает, ухаживает за посевами, убирает урожай и половину отдает хозяину. Иначе происходит дележ фиников, главной возделываемой культуры в Сахаре. Из сада, в котором не менее трех финиковых пальм, «рабу» отдается в личное пользование одно дерево и, кроме того, по одной кисти плодов с других пальм. Такое положение остается в силе, даже если пальм более двадцати. Ему приходится круглый год поливать, окапывать деревья, собирать созревшие финики и отправлять хозяину сушеные, очищенные, консервированные, спрессованные и т. д. плоды, в зависимости от договоренности. С собственными финиками «раб» может делать все что хочет.
Существует еще один тип «рабов», так называемые тербия.Это потомки негров, купленных в период торговли рабами. Их считают низшим общественным классом и презирают даже «рабы»-абид, хотя внешне в положении тербия и абид нет никаких различий. Положение тербия усугубляет тот факт, что их далекие предки были проданы, а не завоеваны.
«Раб», пользующийся доверием своего хозяина, может даже разбогатеть. Он вправе использовать приобретенное имущество, но не может передать потомству, и после его смерти все переходит в собственность хозяина. Он не может и откупиться, поскольку теоретически и он сам и все, что он имеет, – собственность его господина.
Не продавай ни «рабов», ни сады, ни книги – советуют своим сыновьям мудрые марабуты. Этого имущества легко лишиться, но нажить снова трудно, и не из-за высоких цен, а потому что такой «товар» предлагают в Мавритании крайне редко. Как же в таких условиях происходило освобождение «рабов»? Не берусь на это ответить. Однако неопровержимым является тот факт, что на протяжении веков многие были освобождены (возможно, это происходило во времена, когда еще существовала торговля рабами?) и что они составляют сравнительно большую группу харатинов-вольноотпущенников. Единственное, к чему их обязывает неписаный закон, – это приносить раз в год подарок – закат,который у марабутов одновременно служит и своего рода религиозной данью. Большинство харатинов после освобождения, а потом их дети и внуки остаются в экономической зависимости от рода своих старых хозяев. Харатииы, как и «рабы», работают в садах хозяев, пасут их стада, помогают им в торговле. На юге они в основном занимаются земледелием, ближе к северу – скотоводством. У них нет собственного имущества, и они зависят от хозяина, а традиционная структура мавританского общества но позволяет им выполнять другой работы. Общество осуждает харатина, покинувшего без серьезной причины своего хозяина, точно так же как и хозяина, который переманил чужого харатина без ведома и согласия его прежнего владельца или, точнее, работодателя.
Поселения харатинов совершенно такие же, как и упоминавшиеся выше. Лагери «рабов», гораздо менее многочисленные, можно встретить на юге страны в радиусе нескольких десятков километров от Реки. Это самостоятельные селения из палаток или шалашей или же «предместья» ксаров.Здесь их много, благодаря чему обитатели сохранили свои обычаи и традиционную негритянскую одежду, тогда как «рабы» и вольноотпущенники в дальних районах страны живут и одеваются уже современно.
«Рабы» и харатины – чернокожее население Мавритании, хотя в оазисах Адрара и Таганта, где они жили в течение многих веков совместно с берберами, можно встретить «рабов» и со светлой кожей. Остальные жители страны называют себя бейдан,что означает мавр, мавританец или просто «белый». Отождествлять всю негроидную расу с «рабами» было бы неверно. В долине Реки живут много негрских народностей, которые никогда не были в рабстве. Они вынуждены платить выкуп и постоянные налоги просом и другими зерновыми культурами, но они никогда не считались рабами, ни от кого не зависели.
В заключение отметим еще одну характерную черту мавританского общества. Как известно, в Мавритании принадлежность к тому или иному классу общества наследуется по матери. Дети-«рабы» или харатины, родившиеся в результате свободного союза даже с аристократом, принадлежат к классу матери. Но их может усыновить отец, отсюда (помимо потомства от союзов мавров с черными женщинами свободных народностей долины Реки) и появляются чернокожие мавры, имеющие все права класса своего отца.
Нас интересовал вопрос, что принесло «рабам» изменение общественного строя страны. Хотелось знать, может ли «раб» в настоящее время оставить своего хозяина и воспользоваться покровительством новой конституции. Ответ мы получили на севере страны. «Конечно, у нас – конституция, и каждый равен перед законом. „Раб“ может оставить своего хозяина и обратиться в суд с просьбой о защите, но… тогда судья спросит его: „Твой хозяин был недобр к тебе? Глумился над тобой, бил? Морил тебя голодом?“ Если случаи необоснованного издевательства над „рабом“ имели место и ему к тому же удавалось это доказать, тогда суд выносит решение, что «раб» может уйти, и он становится свободным. Если же хозяин не причинял ему вреда, судья спрашивает: „Почему же ты покинул своего господина, который тебя кормил и одевал? Ты, должно быть, плохой человек, если в твоем сердце нет благодарности за заботу о тебе, твоих родителях, дедушках, бабушках, которые жили в семье твоего хозяина. Значит, ты ленив и не хочешь работать. Раз пет серьезной причины, по которой ты хочешь покинуть своего хозяина, мы не видим повода, чтобы освободить тебя от твоих обязанностей. Иди и поблагодари хозяина за то, что твоя семья много веков находилась под защитой его рода“».
Следует добавить, что бегство в этой стране невозможно. Пешком безводную пустыню не преодолеешь, а если «раб» сбежит на верблюде, его будут искать и преследовать как вора; собственного верблюда у него нет. Кроме того, ему придется бросить жену и детей, потому что часто они принадлежат другому владельцу. Единственный путь – обратиться к властям, но власти в его родном ксареили в округе – родственники, товарищи, друзья его хозяина, у которых также есть свои «рабы»; они не допустят дурного примера для них.
Тем не менее перемены происходят. На юге страны беглец может перейти сенегальскую границу и исчезнуть в толпе горожан. В самой Мавритании создается промышленность, прежде всего горнодобывающая, где иностранные инженеры не интересуются происхождением рабочего, только бы он хорошо работал. Освобождение касается пока белых и свободных арендаторов. И у харатинов появилась возможность изменить свою судьбу. Работая в промышленности, они могут продолжать платить закатсвоим хозяевам и тем самым не нарушать неписаный закон. Для «рабов» рано или поздно также пробьет час свободы. Пока они фактически, и прежде всего по собственному убеждению, слишком связаны с хозяевами, скованы обычаями и вековыми традициями, чтобы взбунтоваться против издавна установленного порядка. А если этот порядок начнет колебаться?
Вадан, расположенный в пустыне, оказался прекрасным объектом для изучения традиционной общественной системы. Здесь общественные классы сохранились еще в неизменной форме, и никто пе скрывал, сколько у него «рабов» и какие он получает доходы. Здесь мне подробно рассказывали о системе зависимости и повинности между хозяевами и их прислугой-«рабами». С первого взгляда можно было отличить «рабов» от хозяев. В их поведении чувствовались какая-то неуверенность и покорность. Только их дети, самые маленькие, еще не занятые никакой работой, играли вместе с другими, были, как и те, веселы.
Я посещала ксарв сопровождении местного фельдшера, важной персоны, поскольку он замещал вождя этой части округа. Фельдшера звали Али Бои (его имя не имеет ничего общего с английским boy,это было старинное название маленькой суданской династии, которая когда-то господствовала над несколькими деревнями в долине Реки). Фельдшер был черный, но благородного происхождения, так как мать его была белой женщиной из хасанов, а отец, тукулер из района Реки, происходил из свободного рода, насчитывавшего в прошлом несколько правителей. Али Бои служил военным фельдшером во французской армии, имел за плечами алжирскую кампанию, Индокитай. Он побывал в Париже и на юге Франции, куда его часть посылали на переподготовку. Это был что называется светский человек. Ежедневно кроме Али меня сопровождал двенадцатилетний мальчик Мохаммед, очень смышленый и любознательный. Это общество было весьма ценным, особенно для новичка, тем более что подросток, хотя и хорошо знал традиции своей среды, все же был еще ребенком и сохранил непосредственность поведения и высказываний. Помимо этих двух моих неизменных спутников в прогулках по ксарупас постоянно сопровождала группа детей. На каждой следующей улице наша свита росла, к ней присоединялись новые малыши, причем первые пространно разъясняли им наше происхождение.
В массе детей, цеплявшихся за мои руки, фотоаппарат, сумку с блокнотом, была прелестная маленькая девчушка. Она смотрела на меня блестящими черными глазками, семенила с одной улицы на другую, не отпуская меня ни на шаг. Ясное личико ничем не отличало ее от других детей. Я невольно погладила ее по щеке. Мохаммед, секретарь-доброволец, придвинулся ко мне ближе и вполголоса произнес тоном, полным упрека: «Что вы делаете, мадам! Это же рабыня!»
Подобных происшествий у нас было много, и не только в Вадане. Даже в столице, когда перед зданием одного из министерств мы хотели разузнать о переезде в Бутилимит (куда, если верить карте, из Нуакшота нет никакой дороги), нам привели молодого негра в новенькой роскошной форме шофера. Он сообщил нам подробные сведения и в подтверждение своих слов добавил, что дорогу знает хорошо, потому что он – «раб» самого президента, а поскольку родители президента кочуют вокруг Бутилимита, он часто ездит по этим маршрутам со своим патроном. Конечно, молодой шофер был вольноотпущенником, но, чтобы приобрести в наших глазах вес и значение, он предпочел вслух признаться в своей принадлежности такой высокопоставленной особе, как президент республики.
Собственно, рассказом о «рабах» и вольноотпущенниках можно было бы завершить описание состоящей из четырех классов, замкнутой, взаимосвязанной системы политической, социальной и экономической зависимости мавританского общества. Рядом с двумя правящими и двумя прислуживающими классами в стране живут свободные люди, которые хотя непосредственно и не связаны с ними, но являются непременным их дополнением. Это ремесленники и гриоты. Их происхождение неясно. Они, как утверждают, «были и будут», потому что без них жизнь мавров невозможна. Ремесленники производят всевозможные предметы, которыми пользуются как хасаны и марабуты, так и их прислуга. Другие передают «красоту жизни», то, что в ней есть прекрасного, веселого, смешного. Это певцы, танцоры, мимы, шуты, а также хранители истории, героических дел воинов и мудрости марабутов.
Ремесленники представляют замкнутую касту. Жениться они могут только внутри ее. Невозможно представить, чтобы сын ремесленника или его дочь занимались чем-то другим, нежели их родители. Дети овладевают мастерством под неослабным вниманием родителей, работая с ними с первых лет жизни. Потом, став независимыми, они продолжают заниматься своим делом, чтобы затем передать его следующему поколению. Семья ремесленника, муж и жена, это, в общем, мастерская, где производится абсолютно все, в чем нуждаются скотовод, земледелец, торговец, аристократ и мудрец. Этих людей этнологическая литература назвала «кузнецами», хотя кузнечное ремесло только один из многих видов их занятий. На языке хасания их называют маллемин*. Лучше всего они овладели обработкой металла. На примитивной наковальне, врытой в землю, при помощи небольшого, разжигаемого на земле горна из древесного угля они делают оружие, всевозможные ножи, сельскохозяйственные орудия, топоры, мелкие металлические предметы, оригинальные украшения. Предметы из дерева нередко прекрасно отделывают другими породами дерева, украшают оковкой и кожей. Ремесленники изготовляют седла для верховой езды на верблюдах, для перевозки на них товаров, делают красивые окованные коробки, в которых кочевники держат самое дорогое свое имущество, выдалбливают из дерева сосуды для молока, миски, воронки и много других вещей, необходимых в быту. Жены ремесленников, в свою очередь, занимаются выделкой кож и делают из них ведра для воды, канаты, дорожные торбы, разрисовывают причудливыми узорами бараньи шкуры, на которых спят во время поездок и укрываются в леденящие сахарские ночи. Они также шьют сандалии и, наконец, красивые подушки для сидения в палатке, что считается предметом роскоши и редко встречается у обыкновенных кочевников. Женщины – это подлинные мастера росписи кож. В Мавритании было неизвестно изготовление ковров и килимов* и вся потребность в красоте и удобстве палатки или помещения восполнялась расписанными кожами.

Мужское седло для езды на верблюде
Супружеская пара – кузнец и его жена, дубильщица и скорнячка, – прекрасно дополняют друг друга и составляют мастерскую. Их трудолюбивым, ловким и талантливым рукам население обязано всем, чем оно пользуется, они хранят традиции изобразительного искусства Мавритании. Только ремесленники занимаются декоративным искусством, украшают изделия, а вместе с ними и жизнь.
В настоящее время на базарах многонаселенных ксароввстречаются изделия ремесленников, но обычно они выполнены менее тщательно, чем те, которые делаются на заказ. В удаленных районах страны ремесленник продолжает работать только по заказу и чаще всего из предоставляемого материала. Стоимость отдельных видов работ установлена с давних времен и почти всегда выплачивалась натурой. Например, изготовление ведра из кожи верблюда (материал заказчика), то есть выделка кожи и шитье самого ведра, стоило 3 мудда [16]16
1 мудд – мера объема зерна, колебавшаяся от 3,62 до 4,32 л. – Примеч. ред.
[Закрыть]проса, за многодневную работу скорнячка получала 3 мудда проса. За выдолбленную из дерева посуду для дойки верблюдов или для еды платили таким количеством проса, какое входило в изготовленное изделие, или двойной мерой молока. Но за женское седло для езды на верблюде, тщательно отделанное и очень сложное, отдавали годовалого верблюжонка и мужское бубу.За менее трудоемкое мужское седло для езды на верблюде отдается вся передняя часть убитого верблюда. За точку ножа или починку какого-нибудь предмета, в зависимости от размеров ремонта, кузнец получает голову барана или голову коровы. Сегодня в селениях, близких к городам, и на юге страны оплата все чаще производится деньгами. Я хотела купить старинный, очень красиво отделанный сундучок, который присмотрела себе в доме одного из кузнецов в оазисе Сахары. Кузнец колебался, явно не зная, сколько запросить. Но мой проводник быстро совершил сделку, он предложил кузнецу подходящую ому вещь – свое уже достаточно поношенное бубу.
Ремесленники – тот общественный класс, который открыто презирается, несмотря на то, что они свободны и без их труда не могут обойтись мавры. Возможно, это происходит потому, что мавританская элита, хасаны и марабуты, презирают всякую физическую работу? А может быть, причина презрения заложена гораздо глубже, до сих пор неизвестно, откуда взялись кузнецы, каково их происхождение, когда они выделились в обособленную группу. Существование отдельных, замкнутых и потомственных каст кузнецов и среди негрских народностей доказывает, что каста ремесленников характерна не только для Мавритании. Они не выделяются ни в культурном, ни в физическом отношении, а ведут только несколько иной образ жизни, диктуемый профессией и общественным положением. Вообще же ремесленники разбросаны по многим стоянкам и работают для семей, с которыми вместе кочуют, но чаще всего их можно встретить в селениях. У них там свои дома, где они живут и работают и куда приезжают кочевники с заказами. В крупных селениях ремесленники образуют большие группы или целые кварталы. Совершенно случайно я попала в такой квартал в Вадане. Я ходила по узким, почти yуже темным перед заходом солнца лабиринтам улочек и неожиданно вышла на маленькую площадь, над которой стоял страшный смрад. Вся она была завалена отходами кож. Оказалось, что я нахожусь среди домов ремесленников, где, как это здесь принято, на маленькой площади устроили свалку. В низких дверях одного из каменных домов показался седобородый старик с открытой темной грудью, увешанный бусами и всевозможными гри-гри.Он любезно приветствовал меня, и это придало мне смелости заглянуть внутрь его дома. Я воспользовалась приглашающим жестом и вошла. Пробравшись по низкому коридорчику, я оказалась во внутреннем дворике величиной с небольшую комнату, со всех сторон окруженном каменными стенами жилых комнат. На стенах висели бурдюки с водой, в углу дворика стояла ручная мельница из двух небольших камней. Здесь находилась мастерская владельца-кузнеца: тлел костер, у наковальни лежали немногочисленные инструменты. С их помощью кузнец отделывал мужское седло для верховой езды на верблюде. Кругом лежали незаконченные ножи, куски железа и дерева. Чувствовалось, что я застала его в разгар работы. Но большую часть этого ограниченного пространства занимала мастерская жены кузнеца. Она сидела на чем-то вроде носилок, напоминающих женское седло для езды на верблюде. Женщина была занята росписью белоснежной бараньей шкуры, прекрасно выделанной и обшитой зеленой кожаной каймой. Скорнячка маленькой кисточкой наносила на шкуру изящный многоцветный геометрический орнамент. Рядом лежала большая раковина, наполненная кроваво-красной краской, дощечка с растертой зеленью и набор различных кисточек. Кругом сохли сырые шкуры, прибитые к стенам дома. Краски художница делала сама из известных ей трав, глины и пепла некоторых растений. Краски покупались и на базаре, но ни один краситель не был продукцией химических заводов Европы.