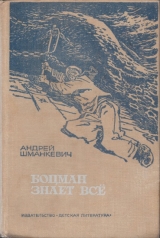
Текст книги "Боцман знает всё"
Автор книги: Андрей Шманкевич
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Временный билет

Трудно устанавливалась у нас на Кубани Советская власть. Сколько раз взрослые загоняли нас, мальчишек, в подвалы и погреба, когда по станице начинали бить из пушек и пулемётов.
В казачьих краях по-иному люди жили, чем в других местах. У казака надел земельный был немалый, и податей он не платил таких, какие платил обыкновенный крестьянин. Но всё равно и среди казаков были богатые и бедные.
А «мужикам», или, как называли их на Кубани, «иногородним», земли не полагалось, а подати вносить всё равно надо было.
Землю они покупали, если было на что, или пахали, сеяли и жали на землях богатых казаков исполу: собрал урожай – половину отдай хозяину.
Школы тоже были «казачьи» и «мужичьи».
Многие из нас даже в «мужичью» школу не могли попасть – мест не хватало. И пришлось учиться нам у кладбищенского сторожа, спившегося псаломщика, в кладбищенской сторожке.
Классной доски в сторожке не было, и учитель наш прямо на побелённой стене писал углем алфавит, по три-четыре буквы в день.
– Это первая буква, – пояснил он. – Зовётся она «А»… В букваре она вот такая, а писать её надо вот так… А ещё каждая буковка бывает маленькая и большая. Запомнили? А теперь повторяйте за мной хором, как эта буква прозывается…
Он взмахивал руками, как церковный дирижёр – регент, и мы в семнадцать голосов начинали жалобно тянуть это самое «А», точно голосили по всем покойникам, похороненным за стенами нашей «школы». А жалобно голосили потому, что псаломщик обещал каждого, кто не запомнит букву с первого раза, запирать на всю ночь в кладбищенскую часовню. При такой угрозе каждый заголосит…
Бумаги купить было не на что, и скоро все стены в хате у бабки Ковалихи, приютившей меня как сироту, я исписал буквами и цифрами. Бабка не ругала меня. Она даже помогала мне запомнить азбуку. И делала это так старательно, что к первой весне моей учёбы знала не меньше меня, хотя до этого была совсем неграмотная.
Сначала мы думали, что гражданская война – это война между мужиками и казаками за землю. Но скоро и мы, ребята, стали понимать, что это шла война за новую жизнь, ещё не виданную на земле, в которой все люди будут равны друг перед другом. Узнали мы, кто такие большевики и меньшевики, красные и белые. Красные вместе с Лениным боролись за Советскую власть, за равенство, беляки отстаивали старое – царя и богатеев. Красных называли товарищами. Первое, что они сделали для детей голытьбы, – это перевели нас из сторожки в настоящую школу, бывшую «казачью».
Сколько раз наша станица переходила из рук в руки!..
Но вот пришёл день, когда у нас в станице навсегда установилась Советская власть. И слова «товарищи», «большевики» стали для нас привычными. А вот слово «комсомол» пришло к нам позже, чем в большие города.
– Что такое комсомол? – спрашивал я у ребят.
Но они не знали. И только Шурка Румянцев уже знал, что такое комсомол.
– Коммунистический союз молодёжи – вот что такое комсомол! Это кто из ребят товарищ, кто за Ленина. Вступать нам надо!
И мы после уроков пошли «вступать» в комсомол, потому что давно уже были все «товарищи», «за Ленина», «против царя и всех буржуев», за то, чтобы земля принадлежала крестьянам, фабрики – рабочим. Один только Васька Лунь не знал, идти ему или не идти.
– Не примут меня. Ведь я казак!.. – говорил он, а сам с надеждой смотрел нам в глаза.
Всё разрешил тот же Шурка.
– А ты что, буржуй? Твой папаня разве беляк, а не красный партизан-кочубеевец? Может, ты за царя, а не за Ленина?
– За Ленина, – прошептал Васька.
– Тогда казачество твоё ни при чём! Казаки тоже разные бывают. Кочубей тоже вон казак, только он красный казак! Ясно?.. И ты, выходит, красный. Вон Ванька Головик – мужик, а мы его на порог комсомольский не пустим, потому что он богач. И отец у него богач, и все у них контрики и буржуи. Одних молотилок двенадцать штук, а курей да свиней и не сосчитать. А сами они работают хоть трошки? Батраки за них добро наживают.
Мы смотрели на Шурку как на взрослого – он всё знал. И мы пошли за ним гуськом по тропочке через площадь, прямо к дому, где на двери жирным плотничьим карандашом было написано: «Станичная ячейка комсомола».
– Ждите меня тут! – сказал Шурка.
Мы долго топтались перед этой дверью, пока наконец не вышел Шурка. По лицу его было видно, что дела наши плохи.
– С четырнадцати принимают… – сказал он коротко. – Меня, может, и примут. Я рослый…
Мы молча начали меряться с ним ростом. Выходило, что нам до комсомола не хватало кому три вершка, кому пять. А Лёшику не хватало все десять.
– А если сказать, что нам уже по четырнадцать? – спросил он у Шурки.
– У них за главного Колька Рыбалка… – ответил Шурка.
Вопросов больше не было: Колька знал нас всех. Наши биографии он мог написать и без нашего участия.
Но всё же мы решились. Тихонько открыли дверь и вытерли босые ноги о тряпку. Прошли гуськом в залу и остановились у стола, покрытого куском кумача.
Окончательно оробели мы, когда увидели, что рядом с Колькой сидит незнакомый нам парень, не нашенский, не станичник. На нём была линялая гимнастёрка, такие же шаровары, обмотки и тяжёлые английские ботинки – «танки». На левом боку у него висела казачья сабля, на правом – маузер в деревянной кобуре. А поверх всего этого на правое плечо была наброшена кавказская бурка.

– В комсомол пришли записываться! – догадался Колька.
Он не стал затруднять себя вопросами по нашим биографиям. Задавал только один вопрос, и то с усмешкой:
– Сколько лет?
Мы все отвечали, что нам уже «стукнуло» четырнадцать. Колька усмехался и говорил парню в бурке:
– Смотри, Всеволод! Оказывается, мы годки: одного года рождения, а я и не знал… Бывает же!..
Потом он старательно записывал наши имена и фамилии на листе синей обёрточной бумаги. Парень в бурке смеялся всё громче и громче, особенно когда к столу подошёл Лёшик Середа. Лёшик поступил в школу на год раньше срока. У него от рождения была очень разумная голова на плечах, но плечи его и на вершок не поднимались над столом, за которым сидели Колька и парень в бурке.
И кто бы мог подумать, что он, наш Лёшик, скажет такое, что потом решит нашу судьбу! На тот же самый вопрос: «Сколько тебе лет?» – он твёрдо ответил!
– Одиннадцать, двенадцатый…
Мы все так и замерли, уставившись на него.
– Одиннадцать, двенадцатый, – упрямо повторил Лёшик. – Но я всё равно за Ленина! И папаня мой был за Ленина, и братка старший, и дядя Василий!.. И я навсегда за Ленина, за красных. Вот и всё!
Мы хорошо знали, почему Лёшик сказал о родных «были»… Их расстреляли белые…
Парень в бурке перестал смеяться, решительно стукнул шашкой об пол и сказал:
– Записывай! Ведь они же вырастут. Обязательно вырастут! А надо, чтобы они выросли большевиками.
И мы вышли из дома уже с комсомольскими билетами. Правда, это были временные билеты, даже без печати, только со штампом, всё на той же синей бумаге, но на них значилось, что мы приняты в ряды Коммунистического союза молодёжи.
Увы, билеты действительно оказались «временными». Не прошло и несколько месяцев, как всех нас, кроме Шурки, без особых обсуждений на общем собрании комсомольской станичной ячейки перевели в пионеры. Сначала мы было обиделись, но когда узнали, что вожаком у нас будет Всеволод, смирились.
На первом же сборе пионерского отряда в школе Всеволод взял левой рукой кусок мела и написал на доске:
«К борьбе за рабочее дело будь готов!»
Мы хором ответили: «Всегда готов!» – и подняли правую руку в пионерском салюте, как научил нас Шурка.
Всеволод ответил нам тоже салютом, но только поднял он не правую, а левую руку. И тут мы заметили, что под буркой у него вместо правой руки болтается пустой рукав. Позже мы узнали, что руку он потерял на фронте. Но всё равно, даже однорукий, он, наш вожак, всегда был готов к борьбе за рабочее дело.
Портрет

У нашего Бориса оказалась художественная жилка. Учитель рисования на первом же уроке сказал, посмотрев на рисунок Бориса:
– Да… Кажется, у этого белоголового что-то есть… Определённо есть художественная жилка…
И мы сразу в это поверили. Поверили, потому что не раз замечали, что видел Борис больше нашего и лучше.
Иногда притихнет он, уставится на какой-нибудь сучок в доске, а потом как расхохочется:
– Смотрите, ребята, какая смешная рожица из доски выглядывает!..
Смотрим мы на тот сучок и ничего, кроме этого самого сучка, не видим. Тогда Борис хватает простую соломинку и начинает нам показывать:
– Да вот же, смотрите! Вот у рожицы нос крючком, вот уши торчком, борода помелом и глаза рачьи…
Ну что ты будешь делать! И впрямь не сучок перед нами, а рожица смешная!
Рисовал наш Борис чем попало и на чём попало. Не было у него ни бумаги для рисования, ни красок, и негде было тогда, в первые годы революции, всё это достать.
Учитель рисования пробыл в нашей станице всего месяц или полтора, пока не освободили его родной город от беляков. Прощаясь, он подарил Борису цветные карандаши и картонную папку со шнурками. В папке Борис стал хранить все свои рисунки. Называлась она у нас «музеем».
В «музее» хранились и наши портреты, выстраданные не только художником, но и натурщиками: наш Борис не признавал никаких перерывов в работе, рисовал за один присест.
Счастлив был всякий, у кого в лице было что-нибудь приметное: нос горбатый или уши торчали, как лопухи. Мне досталось больше всех. Мало того, что у меня на лице, как говорил Борис, «не за что было ухватиться», на него нашёл стих рисовать меня в вечерний час на берегу нашей Куксы, речонки ничем другим, кроме комаров, не прославившейся. Мне тогда показалось, что местные комары не только сами слетелись попировать, но и созвали уйму гостей. Хотелось от зуда по-волчьи взвыть, но я терпел.
Портреты у Бориса получались, как говорили мы, «точь-копия». У Шурки Румянцева, самого старшего из нас, была фотокарточка, а в Борисовом «музее» был его нарисованный портрет. И все мы в один голос заявили, что на портрете Шурка «точь-копия», а на фотографии совсем не то. Шурка – да не Шурка. Парнишка какой-то, похожий на Шурку, надутый, с выпученными глазами…
В «музее» хранились не только наши портреты, но и портреты учителей и всех домашних Бориса, всех его соседей. И вдруг в папке стали появляться портреты совсем незнакомых людей. Правда, у всех у них были усы и бороды, но в то же время это были разные люди.
– Кто такие? – стали мы спрашивать Бориса.
– Потом узнаете, – отвечал он с улыбкой, а на следующий день в «музее» появлялся новый портрет человека с бородкой и усами.
Стали мы замечать, что наш Борис ходит со своей папкой в край станицы, куда ходить в одиночку нашему брату небезопасно: с «низовцами» мы уже давно находились вроде как в состоянии войны.
– Ты бы меня брал с собой, Борис, – сказал я ему. – Всё же не один, в случае чего…
– Ну что же, если тебе охота, пойдём завтра, – согласился он.
Я ожидал увидеть человека с бородой и усами, а встретил нас начисто бритый, худощавый казак в старом бешмете, в сатиновых шароварах, заправленных в шерстяные носки.
Борис сразу же достал из папки новый рисунок и протянул его казаку. Я заметил, что рука у Бориса при этом дрожала, а на щеках выступил румянец.
Казак долго смотрел на рисунок, потом положил его на стол и сказал, как будто прося прощения:
– Нет, Бориска, и этот не похож…
– Совсем-совсем? – упавшим голосом спросил Борис.
– Совсем, – виновато ответил казак. – Наверно, это невозможно – нарисовать портрет такого человека с чужих слов. Вот если бы ты его хоть один раз увидал, как я, ты бы запомнил его обличье навсегда! Каждую морщинку на лице у него запомнил… У глаз весёлые такие морщинки…
– Вы же ничего мне про морщинки не говорили! – выкрикнул Борис. – Вы же говорили, что взгляд у него суровый, так и пронизывает!
Казак подумал немного, усмехнулся:
– Правильно я говорил! Строгий у него взгляд. Только это тогда, когда он про контру говорит, когда призывает громить беляков, буржуев. А ежели перед ним трудовой человек и он ему про Советскую власть говорит или ваш брат перед ним, ребятёнки, тогда взгляд у него меняется. Глаза становятся добрейшими, сразу морщинки от глаз побегут во все стороны, что твои лучики от солнца…
– Попробую с морщинками… Может, всё же получится, – сказал Борис.
– А кто он такой, кого ты нарисовать хочешь? – спросил я, как только мы вышли на улицу. – Видать, не из наших станичников.
– Портрет Ленина я хочу нарисовать… Владимира Ильича Ленина.
– Что ты, Борис! Как же это ты решился? Не видав его ни разу даже на фотокарточке?..
Борис спрятал рисунок и сказал:
– Да понимаю… Не маленький!.. Только очень мне самому хотелось поскорее его увидеть!.. Ладно, ты никому пока не говори ничего…
На другой день мы всей ватагой ворвались в Борисову хату: я не сдержал слова и рассказал ребятам о его затее.
– Что же ты, Борис Белобрыс, один за такое дело взялся? – набросился на него Шурка. – Нам, думаешь, не хочется поскорее увидеть Ильича? Собирайся! В Лабинскую пойдём…
– Зачем? – удивился Борис.
– А затем… Не может быть, чтобы в Лабинской не было портрета Ленина!
И мы пошли за двенадцать вёрст в Лабинскую.
Как всегда, Шурка оказался прав. В Лабинской нам сказали, что над столом председателя ревкома висит портрет Владимира Ильича Ленина. Всех нас в ревком не пустили. В кабинет прошли только Шурка и Борис, да и то лишь после того, как Шурка прорвался к председателю и всё ему объяснил. Мы остались дежурить под окнами и прождали своего художника до самого вечера. Председатель сначала не поверил в способности Бориса. Зато когда Борис закончил работу, председатель пообещал, что, как только управятся с разрухой, он пошлёт Бориса учиться на художника в Екатеринодар, а то и в Питер или Москву…

Было уже темно, когда Борис вышел из ревкома. Однако нетерпение наше было таково, что как только мы вышли за станицу, так по сигналу Шурки бросились стаскивать в кучу сухой бурьян, будылки подсолнуха и всё другое, что могло гореть. Когда наш костёр запылал на всю степь, Борис открыл папку…
Вот он какой, Ленин!
Кажется, больше всего нас поразило то, что Ильич смотрел не куда-то вдаль, поверх наших голов, а прямо на нас. Ну, точно он, увидав нас в степи, подсел к нашему костру и стал всех рассматривать, прежде чем сказать нам что-то необыкновенное, хорошее.
Я, не отрываясь, смотрел в глаза Ильичу, и мне казалось, что в них отражалось пламя костра, а может быть, это в них светилась его доброта, его любовь к людям?
– Борис! – сказал я тихо. – С морщинками!..
– Да… Это потому, что он на нас смотрит… – так же тихо ответил мне Борис.
Мы стояли перед Мавзолеем Ильича

И сбылась наша мечта – и не сбылась…
Мы наконец попали в Москву.
Но нигде – ни на улице, ни на Красной площади, ни даже в самом Кремле – мы уже не могли встретить Ленина.
– И почему нас не повезли в прошлом году? – сто раз спрашивал меня Борис Белобрыс. – Может быть, и довелось бы увидеть…
– Говорят, он тогда уже болел, – отвечал я. – Но может, и довелось бы…
От Армавира до Ростова-на-Дону мы ехали в «телячьих» вагонах. Только те счастливчики, которые сидели у дверей, могли видеть всё, что проплывало мимо нашего «товарника». Мы с Борисом просчитались при посадке: я первым вскочил в вагон и занял два «спальных» места на нарах, в самом углу вагона. А потом до самого Ростова мы уже не могли подняться со своих мест – так было тесно. Зато от Ростова до Москвы мы не отходили от окон нашего настоящего пассажирского вагона.
В Москву мы ехали на экскурсию. Нас собрали чуть ли не со всей Кубани по одному, по два человека от школы. «Туристов» набралось столько, что, когда мы заявились «стройными рядами с мешками за плечами», как пелось в нашей самодельной песне, на турбазу в Спасо-Песковском переулке на Арбате, на нас замахали руками: база не могла принять и половины наших ребят.
– А нам и не надо койки на каждого… – уговаривали мы руководителей турбазы. – Мы можем поселиться по двое на койку!
В конце концов такое предложение было принято, но и после этого человек пятнадцать остались без места.
– Может, у кого-нибудь есть в Москве знакомые или родичи? – спросили у нас.
Ни родичей, ни знакомых мы с Борисом в Москве не имели, но у меня было письмо от наших соседей к их родичам. На конверте значилось, что они проживают на Второй Брестской улице, неподалёку от Тишинского рынка.
Встретил нас шустрый паренёк наших лет. Он был в синих трусах и в белой рубашке. На ногах у него были коричневые чулки в резинку до колен и новые тупоносые ботинки. На шее пионерский галстук. Встретил он нас так, будто давно ожидал нашего приезда.
– Ни отца, ни мамки дома нет. На работе. А я сейчас бегу в клуб на сбор отряда… Сегодня мы идём на Красную площадь. Потому что сегодня… Хотя чего ради я буду вам всё рассказывать? Снимайте ваши мешки, кладите вот здесь и айда со мной! Там всё увидите. Зовут меня Гришуком. А вас как?
Минут через двадцать мы уже поднимались на второй этаж заводского клуба. То и дело нас обгоняли или бежали навстречу ребята в красных галстуках, одетые вроде нашего Гришука. Правда, не у всех были чулки в резинку и хорошие ботинки. Многие были в тапочках на босу ногу. Девчонки встречались редко, и все они были в синих юбках и белых кофточках.
Только я и Борис отличались от всех. Оба мы были в косоворотках, в чёрных штанах, заправленных на кубанский манер в тёплые носки, и в чувяках. Поэтому все смотрели на нас с любопытством.
Встречные ребята как-то особенно подчёркнуто поднимали руки, отдавая салют. Сначала им отвечал один Гришук, а мы смущённо кивали головами. Но потом Борис тоже неуверенно поднял руку, а за ним и я.
– Так вы что, тоже пионеры? – спросил Гришук.
– Спрашиваешь… – ответил Борис.
– Где же тогда ваши галстуки? – строго спросил наш провожатый.
– Галстуки у нас есть, только они остались в мешках.
– Да разве же можно в такой день без галстуков? Ведь мы на парад идём, на Красную площадь! Нам сегодня звание юных ленинцев будут присваивать… Видели, где я спрятал ключ от квартиры? Бегом домой и обратно!
Это было приказом, и мы со всех ног бросились выполнять его.
Когда, еле переводя дыхание, мы вернулись в галстуках, у заводских ворот пионеры уже строились в колонну. Впереди отряда стоял высокий, ещё белее Белобрыса, паренёк с красным пионерским знаменем, а по бокам, охраняя знамя, пионер и пионерка. Перед знаменем, впереди всей колонны, застыл барабанщик. Меня, как магнитом, потянуло к нему.
– Пристраивайтесь! – услышали мы голос Гришука.
…Грянул барабан, и мы пошли. Вначале я хотел было шепнуть Гришуку, что, если барабанщик устанет, я смогу его подменить, но с первых же шагов понял – не мне с ним тягаться.
– Вот это да! – шепнул я Борису.
– Москва… – ответил Борис и добавил: – Композитор!..
Мы проходили мимо Гришуковой школы, в которой учились почти все ребята из отряда. На тротуаре перед школой стояла толпа: мальчишки и девчонки разных возрастов, по-разному смотревшие на нас. У одних в глазах светилась радость, они даже в ладоши хлопали, другие смотрели на нас с завистью.
– Пристраивайтесь! – вдруг крикнул вожатый отряда на всю улицу, и в одном этом слове услышали все – и мы в строю, и те, у школы, – горячий призыв: «Становитесь в наши ряды все, кому дорого дело Ленина! Становитесь, кто хочет строить новый мир, кто хочет счастья людям!»
И отряд наш сразу удвоился, а когда показались стены Кремля, нас было уже втрое, а то и вчетверо больше. По дороге не только вожатый – все мы в такт барабану выкрикивали, как только видели ребят:
– При-стра-и-вай-тесь!
Гремел барабан. Горело под майским солнцем наше пионерское знамя. Мы шагали, не сбиваясь с ноги, и во всю силу своих лёгких оповещали всех, кто смотрел на нас с тротуаров, из окон домов и трамваев, что синие ночи взвились пионерскими кострами, что картошка, испечённая в золе этих костров, «объеденье» и «пионеров идеал». Мы шагали, как шагали красные бойцы в песне «Смело, товарищи, в ногу», чтобы духом окрепнуть в борьбе. Мы обещали «свергнуть могучей рукою гнёт роковой навсегда»…
Пропуская нас, останавливались трамваи и редкие автомобили, извозчики прижимали свои пролётки к тротуарам. В домах распахивались окна, люди выходили на балконы, военные брали под козырёк…
Наконец вот она – Красная площадь и Мавзолей у Кремлёвской стены. На нём строгими буквами написано: «ЛЕНИН».
Вместе с нами на площадь вошли другие отряды. Мимо красного здания Исторического музея проходили краснопресненцы, от причудливого Храма Василия Блаженного шли замосквореченцы… Площадь расцветала знамёнами и галстуками, как весеннее поле маками.
Мы впервые на этой площади, где каждый торец мостовой, каждый кирпич в стенах и башнях – сама история. Сколько мы об этом слышали и читали! Нам хотелось увидеть всё сразу, но мы не могли оторвать глаз от Мавзолея. Как сквозь дремоту, я слышал голос нашего Гришука:
– Это Крупская… Жена Ленина… А это наш всероссийский староста Михаил Иванович Калинин… Да не тот, что стоит посредине, а рядом. Что посредине, тоже с бородой, это Феликс Кон. Он самый старый коммунист…
Мы проникались всё большим уважением к Гришуку – ведь он всё знал. Борис, нарушая строй, стал к нему поближе. Я тоже сделал шаг. И тут запели фанфары военного оркестра.
– Сигнал «слушайте все!», – пояснил Гришук. – Сейчас будет говорить секретарь ЦК комсомола…
Сначала говорил секретарь, он был самым молодым на трибуне Мавзолея, потом говорил Михаил Иванович Калинин, его сменила Надежда Константиновна Крупская, говорили и другие руководители партии и правительства. Говорили о том, что с этого исторического дня мы становимся не просто пионерами, а пионерами – юными ленинцами.
– Сегодня у могилы дорогого нам Ильича вы, первые ставшие в ряды пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, дадите торжественную клятву высоко нести почётное звание юного ленинца. Как эстафету передадите вы это звание тем, кто потом станет вам на смену… Привести вас к торжественной клятве поручается старейшему члену Коммунистической партии товарищу Феликсу Кону.
Мы стояли довольно далеко от Мавзолея, у памятника Минину и Пожарскому, и первых слов Феликса Кона не расслышали. И не мы одни – по ряду прошёл шумок. Тогда Феликс Кон нагнулся, поднял рупор из белой жести и поднёс его ко рту.
– Повторяйте за мной слова торжественного обещания! – сказал он. – «Я, юный пионер Советского Союза…»
Будто волна морского прибоя прокатилась по площади, когда мы повторили первые слова торжественного обещания. С каждым новым словом шум прибоя нарастал. И у каждого из нас нарастало такое чувство, которому, наверно, ещё и названия не придумано. У нас слилось воедино чувство беспредельной радости и гордости, чувство силы и окрылённости, чувство решимости ни на шаг не отступать в дальнейшей жизни от того, в чём клялись мы перед могилой Ильича…


Я на секунду перевёл взгляд на Бориса, и мне показалось, что рядом со мной стоит кто-то другой – и ростом повыше, и в плечах пошире. А глаза его светились таким ясным светом, точно он и на самом деле смотрел в бесконечные дали моря.
– Завтра мы опять придём сюда, – сказал он. – Я нарисую Мавзолей, а дома достану хорошей фанеры, выпилю из неё все части Мавзолея и сделаю модель. Она будет стоять в нашей школе, у стены. На стене я нарисую Кремль…
Я не успел ему ответить: послышалась команда, и колонны пришли в движение. Всю площадь заполнили звуки военного оркестра. Начался парад пионеров-ленинцев. Мы прошли торжественным маршем мимо Мавзолея, всматриваясь в лица тех, кто стоял на его трибунах, кто приветствовал нас пионерским салютом.
И снова песня подхватила нас на свои волшебные крылья и понесла над площадью, над Кремлём, над Москвой!
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры, дети рабочих…








