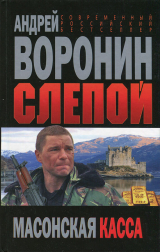
Текст книги "Масонская касса"
Автор книги: Андрей Воронин
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Глава 7
Темно-зеленая пузатая стрекоза с тонким хвостом и белой полосой вдоль всего борта неторопливо ползла над верхушками сосен, неуклонно приближаясь к месту, где на прошлой неделе вальщики леса обнаружили брошенный «хаммер». Лес внизу был вековой, заповедный. Толстые, в два-три обхвата, сосны стояли на приличном расстоянии, не мешая друг другу расти и впитывать солнечный свет. Губарев бывал в этом лесу и помнил, что там очень красиво. Идти по нему было все равно что плутать по гигантскому храму со множеством титанических бронзовых колонн и пронзительно-голубым куполом; именно там, в этом лесу, а вовсе не в церкви, которую напоказ посещал каждое воскресенье, Константин Захарович чувствовал, что еще вполне может искренне уверовать в Бога.
Сверху лес. выглядел как заросли чахлой цветной капусты, высаженной на девственно чистый лист бумаги. Иногда внизу мелькала черная стрела дороги, по которой неторопливыми букашками ползли разноцветные машины; они пролетели над узкоколейкой, что вела от гарнизонного микрорайона Дубки через «Десятую площадку» в поселок со странным названием Куяр. По узкоколейке медленно, как гусеница по ветке, тащился мотовоз, волоча за собой короткий хвост из четырех дачных вагонов. Пилот заложил широкую плавную дугу, чтобы не пролетать над «Десяткой», где находился штаб дивизии РВСН, – это было строжайше запрещено, и, хотя зениток ракетчики не имели, связываться с ревностными хранителями военной тайны не хотелось никому, даже Губареву. Охота им играть в секретность – пускай играют. Хотя, надобно заметить, в наше время с орбиты научились делать такие фотографии, что все эти закрытые для полетов зоны окончательно потеряли всякий смысл…
Внизу промелькнула река. Лед еще стоял, хотя, если верить сводкам, стал уже рыхлым и опасным. Из-за него река больше смахивала на извилистую, заметенную снегом дорогу. Река называлась Кокшага; Губареву доводилось слышать, что это название переводится с местного диалекта как «два шага», но он не был уверен, что это действительно так. Конечно, родился он здесь, в деревне, но выучить местное наречие так и не удосужился. Да и кому оно нужно, это местное наречие? Малая народность – она и есть малая; хотите, чтоб вас понимали, – учите русский. Все равно в этой дыре работы для вас, считай, нету…
Смотреть вниз Губареву скоро наскучило, а внутри вертолета смотреть было вообще не на что, кроме просящегося на свалку медицинского оборудования, облупленного, истрепанного, ветхого – одним словом, нищенского да многочисленных циферблатов со стрелками, в показаниях которых Константин Захарович ничего не понимал. Некоторые стрелки прыгали туда-сюда, как сумасшедшие, другие плавно ползли по шкалам, а некоторые так и вовсе стояли на месте, вызывая неприятное подозрение, что половина приборов в этом летающем гробу неисправна. Губарев прикрыл глаза и стал думать о своем нынешнем положении и, главное, о перспективах.
Нынешнее его положение было так себе, да и ближайшее будущее не очень-то вдохновляло. Ну победит он на выборах, ну станет президентом этой так называемой республики… И что с того? Республика… Вот ведь, понимаешь ты, повезло с географическим положением! Нефть, газ, железная руда, золотишко, уголь, алмазы и даже пушнина – а этим пожалуйте дальше на восток, в Сибирь. Цивилизация – она на западе. Землю пахать, хлеб растить – это от нас к югу. Красная рыба, тюлени всякие и прочая экзотика, как положено, на севере. А посередке что? А посередке мы – сердце России, глубинка, леса да комариные болота, пьянь горькая, голь перекатная… Вот и президентствуй тут! Будешь стоять с протянутой рукой, у Москвы подачки выпрашивать, вот тебе и все президентство.
Да, Москва… Подгребла под себя всю власть, все деньги, уселась на эту кучу добра своим чугунным задом и жирует, пока народ кругом до последней черты доходит. Размеры стабилизационного фонда у них, видите ли, постоянно увеличиваются! Ну и где он, этот ваш фонд? Кому от его размеров жарко или холодно?
Словом, по-настоящему развернуться можно только там, в Москве. И между прочим, грядущее здешнее президентство Губарев воспринимал именно как ступеньку на пути к настоящей политической карьере. Сенчуков так ему и говорил: дескать, для Москвы ты еще сыроват. Посидишь тут президентом, пообтешешься, опыта наберешься, заведешь знакомства, проявишь себя, а заодно поймешь, как вся эта механика работает. Времена сейчас наступают интересные, говорил Сенатор. Большой Папа – ВВП – последний срок сидит. Кто вместо него придет – неизвестно. Тут надобно угадать, кому плечо подставить в расчете на будущую благодарность, а кому в едало сапогом заехать. Сумеешь на этом посту правильно прокрутиться – будешь в шоколаде, облажаешься – грош тебе цена, катись обратно в свою деревню уродов плодить.
Конечно, Сенатор обещал Губе свою помощь и поддержку, но не просто так, а в обмен на верность, преданность, а еще – детальное обследование квадрата Б-7. Дался ему этот квадрат! Прямо помешался на нем, как Журавлев на своих пришельцах…
Впрочем, Сенатор никогда и ничего не делает просто так, без выгоды для себя. И если он так активно интересуется этим пресловутым квадратом, значит, что-то ему об этом квадрате известно. Значит, есть там, в лесу, что-то заслуживающее интереса. И, судя по настойчивости Сенатора, это «что-то» представляет немалую ценность. Пожалуй, даже огромную. А раз так, в случае обнаружения этого «чего-то» с Сенатором можно будет поторговаться. Потому что «помощь», «поддержка» – это просто слова, которые могут что-то значить, а могут не значить почти ничего.
Минуты две Губарев не без удовольствия думал о том, как станет торговаться с Сенатором, а потом бросил это бесцельное занятие. Чтобы торговаться, надо иметь на руках товар или хотя бы знать, где он лежит. Впрочем, это одно и то же. Да и о чем тут думать, если даже не знаешь, что это за товар такой, существует он в действительности или все это только домыслы. Мало ли…
Конечно, слухи по городу ходили. Недаром ведь повышенный интерес к квадрату Б-7 проявляли и Зяма (тоже еще та сволочь, рано или поздно с ним придется разбираться), и покойный Костыль – этот сунулся в лес собственной персоной, избавив тем самым Константина Захаровича от массы хлопот. Говорили об огромном подземном складе стрелкового оружия ценой в сотни миллионов долларов, оставшемся еще с советских времен. Говорили о тайнике с наркотиками, тоже огромном; якобы когда-то на железной дороге задержали чуть ли не целый вагон чистейшего афганского героина, и некий чин из МВД, вместо того чтоб законным порядком уничтожить это дерьмо, припрятал до лучших времен, а потом то ли сел, то ли поймал пулю, то ли окочурился от инфаркта… Говорили о колчаковском золоте, о сокровищах какого-то уральского промышленника и даже о золоте партии. А одна из местных газетенок и вовсе договорилась до того, что в квадрате Б-7 расположен сверхсекретный военный объект, на котором проводятся какие-то исследования, тоже шибко секретные. До того секретные, что всякого, кому не повезло оказаться поблизости, охрана мочит безо всяких разговоров, а потом закапывает в лесу или утилизирует каким-то иным, более современным и эффективным способом.
Эта версия казалась не лишенной некоторого правдоподобия. Так, по крайней мере, становилось ясно, куда исчезают люди.
Кстати, газетенка, опубликовавшая эту версию, через месяц закрылась по причине банкротства. Учредитель подался в бега, главный редактор, не сумев найти в городе работу по специальности, куда-то уехал, а корреспондент, написавший скандальную статью, и вовсе бесследно исчез. Возможно, отправился в квадрат Б-7 добывать доказательства да там и сгинул…
Да, версия была хороша, но и она не выдерживала критики. Во-первых, на кой ляд он им всем сдался, этот секретный объект? Ну, Сенатор – это ладно, на то он и сенатор. Кто владеет информацией – владеет миром и так далее. Но Зяма-то с Костылем какого лешего там искали? Им-то какой прок от информации о секретном объекте? Разве что продать кому-нибудь по сходной цене… Тому же Сенатору, например. Или, наоборот, кому-то, кто с Сенатором на ножах, – авось больше даст. Ну, предположим, что так.
Но! С военными Константин Захарович разговаривал, и военные ему ничего похожего не сказали. Даже командир ракетной дивизии, хозяйство которого было запрятано по всем окрестным лесам и перелескам, только руками развел: нет, дескать, там никаких объектов, ни секретных, ни рассекреченных. Или эта их лаборатория, или хранилище, или неизвестно что настолько секретны, что даже военные о них не знают? Тогда странная штука получается: военные не знают, а Зяма с Костылем в курсе. Интересная все-таки вещь наша российская секретность.
– Подлетаем к квадрату Б-7, – раздался в ларингофоне искаженный помехами голос пилота.
Губарев открыл глаза, только теперь сообразив, что задремал, почти заснул, убаюканный монотонным ревом мотора и клекотом рассекающих воздух винтов. Он посмотрел вниз и не увидел ничего нового, разве что лес стал более густым, а сосны уступили место высоченным, тонким и прямым, как корабельные мачты, березам и черным разлапистым елям. Сверху были хорошо видны поросшие чахлым осинником участки заболоченного леса. Потом внизу показалось шоссе, и минуты две или три вертолет двигался вдоль него, а когда от дороги ответвился разъезженный, с серо-желтыми колеями проселок, пилот развернул машину и повел вдоль него. По проселку полз нагруженный бревнами лесовоз, слева показалась просека – видимо, та самая, недалеко от которой обнаружили «хаммер». За просекой проселок оказался заметенным, и разглядеть его можно было только потому, что на нем не росли деревья.
– Мы в квадрате, – спустя какое-то время сообщил пилот, и Губарев кивнул, показывая, что понял.
Прошло еще несколько минут. Личный помощник мэра, скорчившись на неудобной скамье в салоне, стрекотал клавишами ноутбука, изображая бурную деятельность; двое охранников, вывернув бычьи шеи, смотрели в иллюминаторы. Внизу по-прежнему до самого горизонта расстилался заснеженный лес; пилот, следуя указанию Губарева, вел свою керосинку над проселком. Потом откуда-то справа, со стороны города, вдруг вывернулась еще одна дорога, не обозначенная ни на одной карте, а главное, неплохо наезженная; вынырнув из леса, она влилась в проселок, как ручеек впадает в реку, и тот сразу перестал быть просто белой лентой извилистого снега. Две льдисто-серые колеи потянулись по нему, змеясь в обход бугров и впадин, а потом свернули на новую дорогу – узкую и прямую как стрела. Справа, со стороны города, она тоже была заметена снегом и девственно бела, а накатанная колея уходила налево, в глубь леса.
«Ловко, – подумал Губарев, пальцем показывая пилоту, куда лететь. – Вот эта прямая дорога – наверняка бетонка, когда-то проложенная военными. Ими тут весь лес изрезан. А эту бетонку я, кажется, даже знаю. Съезд с шоссе, помнится, перегорожен бетонным блоком, по бокам канавы – не объедешь. А главное, если смотреть с шоссе, видно, что по ней никто не ездит – снег, целина, одни птичьи следы. А они, гады, окольными путями, крюками, петлями, а потом раз – и на бетонке. А бетонка ведет к…»
Из-под полога нависающих над бетонкой облепленных снегом ветвей вдруг вышел какой-то человек. Он был одет в белый маскировочный балахон, и, если бы не темное пятно лица и черная лыжная шапочка, его действительно можно было не заметить. Человек был на лыжах; у Губарева мелькнула мысль, не один ли это из его потерявшихся «биатлонистов», и он, толкнув пилота в плечо, описал указательным пальцем окружность в горизонтальной плоскости. Пилот кивнул и начал разворачивать машину, постепенно снижаясь, пока верхушки деревьев не замелькали под самым брюхом вертолета.
Наконец Константин Захарович снова увидел «биатлониста». Пока вертолет разворачивался, тот уже успел снять лыжи и воткнуть их вертикально в снег. Он стоял широко расставив ноги в накатанной колее и держал в опущенных руках какой-то темный продолговатый предмет. На глазах у Губарева он плавным движением поднял эту штуковину, оказавшуюся выкрашенной в цвет хаки трубой, снял с переднего конца заглушку, поднял прицельную рамку и принял такую позу, что хоть ты картину с него пиши.
Предостерегающий крик застрял у Константина Захаровича в горле, но пилот обо всем догадался сам и попытался резким движением рукоятки увести машину в сторону. Увы, расстояние от стрелка до мишени было чересчур мало, а сама мишень слишком велика, чтобы эта попытка увернуться могла стать результативной. Задний конец трубы харкнул желтоватым дымом, и последнее, что увидел Губарев, был извилистый дымный след, протянувшийся снизу вверх – казалось, прямо ему в лицо.
* * *
О том, как погиб Сенатор, Глеб не думал вообще – с его точки зрения, думать тут было не о чем. Такая работа была по плечу любому, кто умеет отличить приклад от дула и готов нарушить заповедь, гласящую: «Не убий». Сенатор был из тех людей, которые наилучшим образом удовлетворяют определению «сволочь». Конечно, руководствуясь подобным критерием, убивать можно всех подряд, без разбора – нет, наверное, на свете человека, которого не считал бы сволочью хоть кто-нибудь. Дело тут было вовсе не в личных качествах Сенатора, а в масштабах его деятельности; откровенно говоря, убрать его не составило особого труда еще и потому, что Глеб давно числил этого человека в разряде своих потенциальных клиентов и понемногу накапливал информацию о нем и его привычках. Цели, поставленные перед собой Сенатором, а также методы, которыми он этих целей добивался, – словом, все, что Глеб о нем знал, неумолимо и неуклонно вело депутата Сенчукова к гибели. Генерал Потапчук ждал, по всей видимости, только подходящего стечения обстоятельств, при которых смерть Сенатора произвела бы наибольший эффект и принесла максимальную пользу. И хотя Прохоров его опередил, Глеб, стреляя в Сенатора, не испытал ничего, кроме удовлетворения от чисто выполненной работы, поскольку Сенатор был из тех людей, чья смерть делает мир вокруг заметно лучше и приятнее. И не так уж важно, по чьему приказу это произошло; в данном случае результат намного важнее.
Словом, список назначенных в рамках этого дела жертв стал на одну фамилию короче. Он был довольно длинным, и Глеб не без оснований подозревал, что вариант этого списка, хранящийся в сейфе генерал-лейтенанта Прохорова, длиннее по крайней мере на одно – его, Глеба Сиверова, – имя. И не надо было долго ломать голову, чтобы догадаться, кому будет отдан приказ о ликвидации агента по кличке Слепой. Вон он, храпит на соседней полке, с мишенью на лбу и разряженной «береттой» под мышкой – ликвидатор, суперагент… Экое, право, чучело! Удивительно, что генерал Прохоров доверил именно ему охрану интересов того таинственного и могущественного неформального объединения, которое Федор Филиппович, помнится, прямо, без иносказаний, называл масонской ложей…
О масонах Глеб знал в основном из полузабытого школьного курса истории, где о них упоминалось вскользь, да еще из художественной литературы – из «Войны и мира», например. Впрочем, людей, с которыми Слепому доводилось иметь дело сейчас, генерал Потапчук называл масонами просто за неимением лучшего термина: уж очень их методы напоминали то, как втихаря, без лишнего шума, но неизменно эффективно действовали пресловутые «вольные каменщики».
Другое слово, употребляемое генералом в отношении этой нигде не зарегистрированной, но почти всемогущей организации, было «профсоюз». С его слов выходило, что именно создание данного неформального объединения было главной причиной, по которой ныне действующему президенту некогда передали всю полноту исполнительной власти в раздираемой неурядицами, балансирующей на краю финансовой и политической пропасти стране. Именно он, будучи директором ФСБ, а затем и премьером, возродил и укрепил так называемое «позвонковое право» – систему взаимоотношений между силовыми структурами, которая позволяла улаживать поминутно возникающие разногласия путем простых телефонных переговоров, без бумажной волокиты и бесконечного перетягивания латаного-перелатаного политического одеяла. В «профсоюз», как это вскоре стало называться на жаргоне силовиков, вошли люди, занимающие ключевые посты, – те, кто обладал реальной возможностью без проволочек решать практические вопросы, молодые, энергичные и честолюбивые генералы и полковники. В стране, где добрых тридцать процентов экономики по сей день остается в тени, такая система управления оказалась наиболее эффективной, и за годы правления ее создателя «профсоюз» окреп и набрал невиданную силу.
Сила эта была так велика, что даже генерал Потапчук, который, по его собственному признанию, хранил в ящике рабочего стола Конституцию и сверялся с ней, когда требовалось принять непростое решение, не пытался ей противостоять. Во-первых, попытка противопоставить себя «профсоюзу» была равносильна самоубийству, а во-вторых, Федор Филиппович, как человек здравомыслящий, отдавал должное эффективности и несомненной полезности того, что со временем по многим признакам стало и впрямь напоминать масонскую ложу.
Да и кто стал бы с этим спорить? Если сравнить систему силовых структур со спрутом, «профсоюз» играл роль нервного центра, координирующего движения многочисленных щупалец – прокуратуры, ФСБ, милиции, суда, армии, ГУИН и множества других структур, о которых зачастую не принято упоминать вслух. Без такой координации все эти, традиционно конкурирующие и даже враждующие щупальца и впредь занимались бы выламыванием и выкручиванием друг друга, вместо того чтобы, как положено нормальным щупальцам, перемещать тело спрута в нужном направлении, а также хватать добычу и совать оную в ротовое отверстие.
Аппетит у спрута, надо отдать ему должное, был отличный. В качестве примера Федор Филиппович приводил возросшую ровно вдвое, с трех до шести процентов, ставку, которую банки брали за услуги по отмыванию денег. Лишние три процента, по его словам, уходили «крыше», функции которой раз и навсегда присвоил себе Кремль. Несмотря на явный состав преступления, Федор Филиппович относился к этому философски: бесполезно сетовать на то, что ты не в силах изменить. В России крали всегда, и громадные суммы, поглощаемые Кремлем, он воспринимал как плату за относительный порядок или хотя бы видимость порядка. «Настанет день, – говорил он, – и эти пауки непременно перегрызутся. Тогда мы окажем им посильную помощь, с тем чтобы в этой грызне их уцелело как можно меньше». А пока этот день не настал, генерал Потапчук, хотя и без особого восторга, вовсю пользовался возрожденным «телефонным правом», в два счета утрясая с коллегами из других ведомств вопросы, на решение которых раньше могло не хватить всей жизни.
События, в результате которых Федор Филиппович был вынужден пойти против «профсоюза», начались осенью, в конце октября. Потапчуку позвонил генерал-майор ФСБ Скориков, с которым Федору Филипповичу доводилось пару раз пересекаться по службе. Мнение о генерале Скорикове у него сложилось скорее нелестное; работником тот был, судя по всему, неплохим, но как человек он Потапчуку не нравился. К тому же Скориков был правой рукой генерал-лейтенанта Прохорова, известного в определенных кругах как видная фигура в руководстве «профсоюза». Активная деятельность в качестве финансового директора несуществующей межведомственной организации, надо полагать, приносила Павлу Петровичу Прохорову дивиденды; кое-какие крохи перепадали, разумеется, и Скорикову, и, судя по его цветущему виду, «крохи» эти имели весьма солидное денежное выражение.
Правда, когда генерал Потапчук явился на назначенную Скориковым встречу, Михаил Андреевич выглядел далеко не лучшим образом. Лицо осунулось, под глазами набрякли тяжелые темные мешки – признак не то хронической усталости, не то болезни, не то продолжительного запоя, – а пальцы белых холеных рук пребывали в постоянном нервическом движении, так что ладони господина генерала смахивали на парочку больших бледных пауков, угодивших на горячую сковородку.
Встреча была назначена в чистом поле, на обочине оживленного шоссе. Шурша обувью по мокрой стерне, генералы отошли метров на двести от дороги, так что их голоса не смогла бы засечь никакая прослушка. Правильно расценив предложение прогуляться, Федор Филиппович спросил, почему коллега не принимает во внимание возможность наличия в его, генерала Потапчука, кармане включенного диктофона. Скориков ответил на это, что такая возможность, хоть и кажется ему вполне реальной, оставляет его равнодушным. «Если ты, Федор, побежишь стучать, – заявил он с кривой, болезненной улыбкой, – твоего слова будет достаточно. Это не тот случай, когда для вынесения приговора требуются доказательства».
Как вскоре стало ясно из разговора, генерал Скориков впал в немилость у своих высоких покровителей. Уяснив это, Федор Филиппович с большим трудом подавил унылый вздох. Бывают люди, которым словно самой судьбой предначертано служить жилеткой, в которую плачутся все кому не лень. Генерал Потапчук служил такой жилеткой для своих коллег – только для тех, разумеется, кто был равен ему по положению и не боялся, фигурально выражаясь, оцарапать лицо о колючие генеральские звезды. Ясно также, что поплакаться коллеги приходили нечасто: все-таки высший командный состав ФСБ – это не тот контингент, которому свойственно жаловаться, лить слезы или хотя бы просто откровенничать. Но в тех исключительно редких случаях, когда это все-таки происходило, все получалось точь-в-точь по поговорке: «Редко, да метко». Если уж старший офицер госбезопасности делится с коллегой своими проблемами, проблемы эти наверняка столь серьезны, что справиться с ними в одиночку он уже просто не в состоянии…
– Ладно, – сообразив все это, а также многое другое – то, например, что теперь, независимо от исхода разговора, проблемы генерала Скорикова автоматически станут его собственными проблемами, вздохнул Федор Филиппович, – выкладывай, в чем дело.
Над сжатой пашней, по которой они прогуливались, пачкая раскисшей землей дорогую обувь, висело низкое, холодное осеннее небо. По земле тянуло сырым ветром. Скориков как-то совсем по-детски подышал на озябшие пальцы, закурил сигарету и натянул тонкие кожаные перчатки. Руки у него дрожали – не сильно, но вполне заметно.
– Дело, Федор, на миллиард долларов, – куря короткими, нервными затяжками, отрывисто сообщил генерал Скориков. – А может, и на все полтора.
Последнее уточнение Федору Филипповичу крайне не понравилось, поскольку привносило в расхожую фразу «дело на энную сумму» вполне реальный, конкретный и очень неприятный смысл. Не только в сегодняшней России, но и во всем мире на протяжении всех исторических эпох цена человеческой жизни никогда не превышала стоимости потраченных на ее прерывание боеприпасов, а когда ее прерывали подручными средствами – камнем, ножом, бутылочным горлышком или голыми руками, – жизнь и вовсе ничего не стоила. Людей убивали и продолжают убивать за содержимое тощего кошелька, за пару сапог, за наручные часы, за неверно понятую шутку, а то и просто так, забавы ради. А уж если речь зашла о миллиарде долларов – а может, и о полутора миллиардах, как только что уточнил генерал Скориков, – значит, жди большой крови.
– Прелестно, – убедившись, что самые худшие его предположения оказались чересчур оптимистичными в сравнении с истинным положением вещей, саркастически проскрипел генерал Потапчук. – Вот скажи, Михаил Андреевич, что плохого я тебе сделал? А если даже и сделал, то почему ты просто не прострелил мне башку? Зачем это изуверство, а?
– Понимаю, – с болезненной гримасой, которую лишь человек с чрезмерно развитым воображением мог принять за улыбку, кивнул Скориков. – Прости. Но что я должен делать? Я – битый козырь, не сегодня завтра в расход… Я же вижу, как они около меня кругами ходят, приглядываются… Мне просто не к кому обратиться!
– Ну и не обращался бы ни к кому, – посоветовал Федор Филиппович, не испытывавший ни малейшего сочувствия к этому типу, который явно заигрался в какие-то грязные игры, а когда впереди замаячил проигрыш, начал метаться в поисках спасения.
– Ты меня удивляешь, – сказал Скориков и, бросив под ноги окурок слишком быстро сгоревшей сигареты, энергично и зло, как маленькую кусачую тварь, вдавил его в мокрую пашню подошвой ботинка.
– Правда? – иронически изумился Федор Филиппович.
– Правда, – сказал Скориков, игнорируя его иронию. Он закурил новую сигарету и жадно затянулся. – Чертова американская трава, – пояснил он, для полной ясности показывая Потапчуку сигарету, – курю-курю, а накуриться не могу. Ненавижу все американское!
– Особенно доллары, – подсказал Федор Филиппович.
– Да, представь себе, особенно!
– Это бывает, – утешил Потапчук. – Я, например, с детства в рот не беру жареные лисички. Однажды пожадничал, объелся ими до рвоты и с тех пор смотреть на них не могу. А когда-то просто обожал.
– Завидую, – сказал Скориков, прикуривая еще одну сигарету от окурка предыдущей, истлевшей со скоростью бикфордова шнура. – Хорошо, когда сам объешься. А когда другие жрут в три горла, а рвет тебя, – это, брат, совсем другая песня.
Федор Филиппович с огромным трудом подавил внезапно вспыхнувшее желание попросить у Скорикова сигарету и, следуя его примеру, выкурить ее в три огромные, жадные затяжки. Этот разговор не нравился ему все больше с каждым произнесенным словом, и на какое-то мгновение он даже пожалел, что явился на эту встречу безоружным и без пресловутого диктофона. Ей-богу, проще всего было бы треснуть этого болвана рукояткой по темечку, загрузить в машину, отвезти обратно в Москву, прямиком на Лубянку, волоком втащить в кабинет генерал-лейтенанта Прохорова, швырнуть Павлу Петровичу под ноги и сказать: дескать, у вашего пса поехала крыша, разбирайтесь с ним сами…
Вызванные таким бесчеловечным поступком угрызения совести он бы как-нибудь пережил. Совесть любого генерала, особенно если речь идет о генерале госбезопасности, сговорчива. Другое дело, что ее не следует беспокоить по пустякам; если напрягаешь свою совесть, от этого должна быть хоть какая-то, пусть минимальная, польза. А посетившая Федора Филипповича садистская фантазия, даже будучи успешно воплощенной в реальность, пользы принести не могла. Скорикова, вероятнее всего, шлепнут в любом случае. Если его сейчас не выслушать, он унесет свой поганый секрет в могилу, а его шеф, генерал-лейтенант Прохоров, в любом случае будет уверен, что Федору Филипповичу этот секрет известен. И, поддавшись сейчас искушению отмахнуться от Скорикова, генерал Потапчук окажется в незавидном положении человека, вынужденного в глухую полночь с завязанными глазами играть в жмурки с тигром-людоедом в герметически закрытом угольном бункере…
– Мне действительно не к кому больше обратиться, – продолжал Скориков. Он выбросил очередной окурок, полез в пачку, обнаружил, что она пуста, достал из другого кармана новую и нетерпеливо разодрал обертку. Ветер подхватил невесомый клочок прозрачного целлофана и поволок его по стерне, то и дело ненадолго приподнимая в воздух. – Знаю, что ты мне не друг, догадываюсь, что обо мне думаешь… Обсуждать это сейчас некогда, и оправдываться не стану. Жил, как умел. Все мы, знаешь, не без греха, даже ты. Но ты, если и грешил, то совсем по другой части. Потому я к тебе и пришел.
– Давай без предисловий, – ежась под порывами пронизывающего ветра, попросил Федор Филиппович. – Не хватало еще в придачу ко всему этому геморрою воспаление легких заработать. Ясно уже, с чем ты явился. Наворотили дерьма выше крыши, а разгребать предлагаете мне?
– В общем, да, – признался Скориков. – Таких, как ты, в нашей конторе немного. Всегда было немного, а уж теперь-то…
– Каких «таких»? – спросил Федор Филиппович.
– Которые помнят, для чего у них погоны на плечах, – уточнил Скориков.
Потапчук не стал сдерживаться и коротко, но очень энергично выругался матом, поскольку это был единственный способ предельно сжато и в то же время исчерпывающе выразить все, что он думал и чувствовал по этому поводу.
– Не спорю, – согласился генерал Скориков. – По форме грубовато, но суть схвачена верно.
– Прохоров? – спросил Федор Филиппович.
Скориков криво усмехнулся.
– Я в этом деле – шестерка, – сказал он, – хотя и козырная. А Прохоров, Павел наш Петрович, хоть и генерал-лейтенант, и с директором на «ты», потянет не больше чем на десятку.
– Лучше б ты меня пристрелил, – повторил Федор Филиппович.
Скориков пожал плечами.
– У тебя что, пистолета нет? – спросил он. – Тогда возьми мой… Я к тебе пришел, потому что ты бы рано или поздно сам на это наткнулся и обязательно заинтересовался. Так и влез бы в дерьмо обеими ногами. Тебя бы еще на дальних подступах загасили, а ты бы даже и не понял за что…
– А теперь, значит, буду знать, – сказал Федор Филиппович. – Ну, спасибо. Так чего же вы, ребята, с вашим Прохоровым натворили такого?
– А ты не смейся, – посоветовал Скориков. – Я ведь, поверь, не такая сволочь, как ты обо мне думаешь. Ну, конечно, когда мне пообещали звание, должность и солидный куш в твердой валюте, я отказываться не стал. Да чего там! Можно подумать, тебе не приходилось за большим начальством дерьмо салфеточкой подбирать. Ладно, думаю, нам не впервой. Плетью обуха не перешибешь, а с паршивой овцы хоть шерсти клок. Откуда мне было знать, что они, суки, затеяли? Я ведь тоже не хрен собачий, а русский офицер, мне на все это, может, тоже смотреть тошно…
С низкого неба начал накрапывать дождик – мелкий, ледяной, он летел с ветром почти параллельно земле, сек лицо и забирался за воротник. Сигарета, которую курил генерал Скориков, сразу стала рябой; капельки дождя впитывались в бумагу и моментально испарялись, не выдерживая соседства с раскаленным угольком, а на их месте оставались пятна неприятного желто-коричневого, какого-то навозного оттенка. Глядя на эти пятна, Федор Филиппович в очередной раз пришел к выводу, что, бросив курить, поступил в высшей степени правильно и похвально.
– Короче, – попросил он.
– Короче, ты никогда не задавался вопросом, почему так называемый стабилизационный фонд России лежит мертвым грузом? – поинтересовался Скориков. – Так я тебе скажу почему…
Раньше, чем он начал говорить по делу, в голове у Федора Филипповича раздалось что-то вроде металлического щелчка, с которым мудреная железка, именуемая затвором, становится наконец в не менее мудрено выбранные пазы затворной рамы автомата Калашникова. Внезапно проснувшееся в Скорикове национальное самосознание вкупе со столь же внезапной ненавистью ко всему американскому, обстоятельства и время получения им генеральского звания, а также некоторые, пока еще смутные, слухи из области большой международной политики – все эти и еще многие другие, внешне никак не связанные друг с другом события, факты, соображения и даже сплетни вдруг, словно по волшебству, расположились в строгом порядке, собравшись в четкую, непротиворечивую картину гигантской аферы. Федор Филиппович еще надеялся, что рассказ Скорикова разрушит эту картину, но чувствовал, что надеется зря: скорее всего, обреченный генерал мог лишь расцветить ее некоторыми подробностями, окончательно прояснив отдельные темные места.








